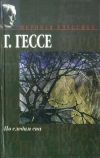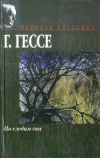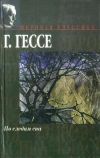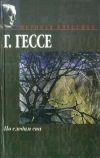Читать книгу "Описание одной местности"
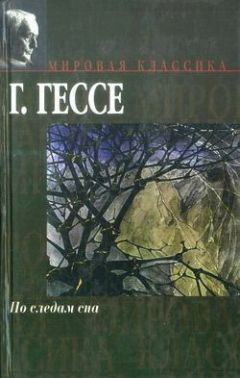
Автор книги: Герман Гессе
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Герман Гессе
Описание одной местности
Уже неделю я живу на первом этаже виллы, в совершенно новом для меня окружении, в новых для меня местах, обществе и культуре, и, поскольку я пока очень одинок в этом новом мире и осенние дни в тиши моего» красивого большого кабинета тянутся для меня медленно, я начинаю пасьянс этих заметок. Это какая-никакая работа, придающая моим одиноким и пустым дням видимость смысла, на худой конец занятие, приносящее меньше вреда, чем важная и высокооплачиваемая деятельность весьма многих людей.
Место, где я нахожусь, расположено у самой границы кантонов и языков, на романской стороне. Я здесь гощу у друга, возглавляющего одно лечебное заведение, и живу на краю этого заведения, с которым вскоре, наверно, под водительством друга-врача познакомлюсь поближе. Пока я мало что знаю о нем, знаю только, что оно расположено на вытянутом участке земли, засаженном прекрасными парками, в бывшем поместье, в громадном, похожем на замок здании красивой архитектуры, охватывающем множество внутренних дворов и, как мне говорят, населенном очень большим числом пациентов, санитаров, врачей, сиделок, ремесленников и служащих, и что я, живя в новом соседнем здании, почти никаких признаков этого множества обитателей не вижу и не слышу. Летом дело обстояло бы, наверно, иначе, но сейчас, в ноябре, никто не сидит на зеленых садовых скамейках, и, когда я по нескольку раз в день прогуливаюсь по парку или захожу в большой дом, чтобы справиться о чем-нибудь в канцелярии или сдать почту, на садовых дорожках, на гулких лестницах, в коридорах, на усыпанных гравием площадках и во дворах мне встретится разве что спешащая куда-то сиделка, или монтер, или подручный садовника, а в огромном здании царит полная тишина, словно оно пустует.
Просторное здание лечебницы, наша маленькая вилла с двумя квартирами для врачей, несколько современных построек, где размещены кухня, прачечная, гаражи, конюшни, столярные и прочие мастерские, как и огородное хозяйство с большими грядками, с парниками и теплицами, находятся внутри обширного парка – роскошного, барского, немного кокетливого. Этот парк, террасы, дорожки и лестницы которого постепенно спускаются от господского дома к берегу озера, составляет пока, поскольку большие прогулки мне не по силам, мой пейзаж и мою окружающую среду, ему принадлежит пока главная доля моего внимания и моей любви. Теми, кто его сажал, правили при этом, кажется, две тенденции или, вернее, страсти; страсть к живописно-романтическому разделению пространства на лужайки и группы деревьев и другая страсть – сажать и выращивать не только красивые и хорошо сгруппированные, но также как можно более оригинальные, редкие и чужеземные деревья. Это, насколько я могу судить, было, по-видимому, вообще в обычае местных поместий, а кроме того, последний владелец и обитатель усадьбы мог привезти эти экзотические растения из Южной Америки, где он был плантатором и экспортером табака. Хотя сейчас обе эти страсти, романтическая и ботаническая, случалось, противоречили друг другу и вступали друг с другом в спор, во многих отношениях попытка их примирения почти полностью удалась, и, когда бродишь по этому парку, тебя привлекают и заставляют присматриваться к деталям то гармония между посадками и архитектурой, прелесть неожиданных перспектив и благородных видов, вида, например, на озеро или на фасад замка, то отдельные растения, их ботаническая любопытность или их возраст. Это начинается сразу у дома, где на верхней полукруглой терраске красуются южные растения в больших кадках, среди них апельсиновое дерево, густо увешанное маленькими, тугими, светящимися плодами, которое отнюдь не производит впечатления существа чахлого, страдающего или даже недовольного, как то чаще всего бывает с растениями, перенесенными в чужой климат из других широт, а при своем дородном стволе, при своей круглостриженнои кроне и своих золотых плодах кажется очень довольным и здоровым. А недалеко от него, немного дальше вниз, ближе к берегу, бросается в глаза один диковинный, могучий субъект, скорее куст, чем дерево, пустивший корни, однако не в кадке, а в натуральной земле и увешанный такими же твердыми шариками плодов. Это странный, очень своенравно и неприступно запутавшийся в себе, непроницаемый, многоствольный и со множеством веток колючий куст, и плоды его не такие золотистые, как те карликовые апельсины. Это огромный, очень старый терновник, и, идя дальше, встречаешь то там, то сям другие такие же кусты.
Рядом с несколькими похожими на тис и кипарис деревьями с примечательными и порой причудливыми силуэтами одиноко и, может быть, немного меланхолично, но сама мощь и здоровье, стоит баобаб, погруженный, как в сон, в свою безупречную симметрию, и в знак того, что его одиночество ему нипочем, держит на своих верхних ветках несколько тяжелых массивных плодов. К этим раритетам, поставленным на лужайке нарочно поодиночке, что как бы призывает заметить их и восхититься, добавлено и несколько не таких уж, правда, редких, но преображенных садоводческим искусством тоже некоторым образом сознающих свою интересность и немного лишенных невинности, манерно напустивших на себя задумчивость деревьев, прежде всего плакучих ив и плакучих берез, изящных длинноволосых принцесс сентиментальной эпохи, среди них и гротескная плакучая ель, ствол которой со всеми ветвями на определенной высоте сгибается вниз и вновь устремляется к корням. Благодаря этому противоестественному направлению роста образуется плотный навес, некая хижина или пещера из живой ели, куда человек может скрыться и поселиться, словно он нимфа этого странного дерева.
К самым красивым деревьям нашего драгоценного сада относятся несколько великолепных старых кедров, красивейший из них касается своими верхними ветками кроны кряжистого дуба, самого старого дерева на этом угодье, он гораздо старше парка и дома. Есть и несколько благоденствующих манговых деревьев, устремленных больше вширь, чем ввысь, вероятно, их принуждают к этому сильные и холодные ветры. Для меня самое великолепное дерево во всем парке – не кто-то из аристократов-чужеземцев, а старый почтенный серебристый тополь огромного роста, разделяющийся невысоко над землей на два могучих ствола, каждый из которых мог бы сам по себе быть гордостью парка. Он еще весь в листве, краски которой, в зависимости от игры света и ветра, переливаются от серебристо-серого цвета через богатую гамму коричневатых, желтоватых, даже розоватых тонов к тяжелому темно-зеленому, но всегда сохраняют что-то металлическое, какую-то сухую жесткость. Когда в его исполинской двойной кроне играет сильный ветер, а небо, как то здесь бывает в эти первые дни ноября, чаще по-летнему влажно-синее или затемнено облаками, зрелище получается царское. Это почтенное дерево было бы достойно такого поэта, как Рильке, и такого художника, как Коро.
Образец и стилистический идеал этого парка – английский, не французский. Задумано было создать в миниатюре как бы естественно-изначальный ландшафт, и местами этот обман почти удался. Но осторожная оглядка на архитектуру, осмотрительное обращение с территорией и ее скатом к озеру уже ясно показывают, что все дело тут как раз не в природе, не в диком состоянии растений, а в культуре, в духе, в воле и дисциплине. И мне очень нравится, что все это видно по парку и сегодня. Он был бы, возможно, красивее, будь он немножко предоставлен себе, немножко запущен и заброшен; тогда дорожки заросли бы травой, а щели каменных лестниц и обрамлений – папоротником, лужайка замшела бы, декоративные постройки обвалились, все говорило бы о стремлении природы к размножению без разбора и гибели без разбора, в этот благородный прекрасный мир позволено было бы войти одичанию и мысли о смерти, кругом лежал бы валежник, по трупам и пням умерших деревьев расползся бы мох. Но ничего подобного нет здесь и в помине. Сильный, тот сильный, точно и упрямо рассчитывающий все наперед дух, та воля к культуре когда-то задумали и посадили этот парк, правят им и сегодня, берегут и сохраняют его, не отдают ни пяди одичанию, разнузданности, смерти. Не вылезает ни трава на дорожках, ни мох на лужайке, дубу не разрешается очень уж залезать своей кроной в соседний кедр, а шпалерам, карликовым и плакучим деревьям забывать дисциплину, увиливать от закона, по которому они вычерчены, острижены и согнуты. И там, где какое-то дерево упало и убыло, из-за болезни ли, старости, бури или тяжести снега, нет хаоса молодой поросли, а вместо упавшего стоит маленькое, худенькое, складненькое, с двумя-тремя веточками и несколькими листоч
...
конец ознакомительного фрагмента
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!