Текст книги "Вальтер Беньямин – история одной дружбы"
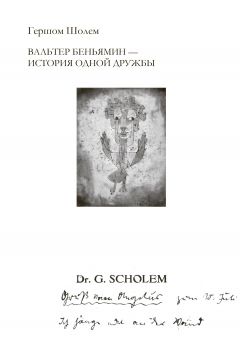
Автор книги: Гершом Шолем
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Несколько недель подряд мы встречались ежедневно, потом – как минимум по три раза. Сразу после моего приезда Беньямин и Дора предложили мне поселиться в деревушке Мури, которая находилась в получасе ходьбы от моста Кирхенфельд в сторону Туна119, где они – из-за ситуации с жильём в городе – собирались снять квартиру. И до начала августа мы жили за городом; моя комната была в двух минутах ходьбы от них, и, таким образом, между нами шло оживлённое общение. Беньямин сразу стал уговаривать меня вместе изучить какую-нибудь философскую работу. После некоторых колебаний мы – поскольку он тогда особенно интересовался Кантом – сошлись на основополагающем для Марбургской школы сочинении, на книге Когена «Кантова теория познания»120, которую затем подолгу анализировали и обсуждали. Так как мы – как выразился Беньямин в наших первых разговорах – образовали «свою собственную академию», тогда как в университете можно было обучиться лишь немногому, речь зашла о полусерьёзном-полушуточном открытии «университета Мури» и его «институций» – библиотеки и академии. В перечне лекций этого университета, в уставе академии и в воображаемом каталоге недавно поступивших книг, которые Беньямин снабжал аннотациями, фонтанирующими весельем, мы отводили душу последующие три-четыре года, давая выход нашему задору и подвергая осмеянию академическую рутину. Беньямин подписывался как ректор и неоднократно сообщал мне в письменной и устной форме о новейших событиях в университете, созданном нашей фантазией – тогда как я фигурировал в них как «младший служащий при религиозно-философском семинаре», но иногда и как член факультета.
Первые дни в Швейцарии протекали чрезвычайно интенсивно и празднично. Мой приезд был отмечен торжественным обедом, на котором Беньямин сообщил мне, что займётся изучением древнееврейского, как только сдаст экзамен. Для нас были важны разговоры об иудаизме, философии и литературе; к ним добавлялись чтение стихов, игры, разговоры наедине с Дорой, когда она рассказывала мне о своей прежней жизни и о Беньямине. Дора рано уходила спать, а мы с Беньямином говорили допоздна. 10 мая он дал мне на прощание написанную в 1913–1914 годах «Метафизику молодости»121, которую я переписал для себя.
С самого начала мы много говорили о его «Программе грядущей философии». Он говорил об объёме понятия опыта, которое, по его мнению, охватывает духовную и психологическую связь человека с миром, а эта связь свершается в сферах, куда ещё не проникло познание. Когда же я заговорил о том, что в таком случае было бы легитимным включить в это понятие опыта мантические дисциплины, он ответил, экстремально заострив формулировку: «Не может быть истинной философия, которая не включает и не может объяснить возможность гадания на кофейной гуще». Такие гадания, дескать, могут порицаться, как в иудаизме, но их следует считать возможными, исходя из взаимосвязи вещей. На самом деле, даже его поздние заметки об оккультном опыте полностью не исключают таких возможностей, хотя, скорее, implicite122. С этой точки зрения – а вовсе не из– за какой-то наркотической зависимости, совершенно чуждой ему и напрасно приписываемой ему в последнее время – объясняется его временами живой интерес к опыту употребления гашиша. Ещё в Швейцарии Беньямин, на чьём столе я впоследствии видел Les paradis artificiels123, говорил при обсуждении упомянутой работы о расширении человеческого опыта в галлюцинациях, которые, по его мнению, не исчерпываются такими словами, как «иллюзия». О Канте Беньямин говорил, что тот «обосновывает неполноценный опыт».
Этот тезис сыграл свою роль в разочаровании, которое мы испытали по прочтении работы Когена. Мы оба, слушавшие в разное время лекции или доклады Когена в его берлинский период и относившиеся к Ко– гену с почтением и даже с благоговением, приступили к этому чтению с большими ожиданиями и готовностью к критическому обсуждению. Но выводы и интерпретации Когена показались нам сомнительными, и мы не оставили от них камня на камне. У меня до сих пор сохранились заметки к критике кантовских силлогизмов в «трансцендентальной эстетике» и к доказательству их необоснованности – эти заметки я написал после нескольких наших занятий. Беньямин при этом высказывался об отношении рационалиста, которым являлся Коген, к интерпретации. «Для рационалиста не только тексты абсолютной ценности, как Библия [а для Беньямина также Гёльдерлин], поддаются интерпретации на разных уровнях, но и всё, что является объектом, выставляется рационалистом как абсолют и посему подлежит насильственному комментарию, как Аристотель, Декарт, Кант». В критике Канта Беньямин находил также оправдание феноменологам в их обращении к Юму. Беньямин не нуждался в рационалистическом позитивизме, занимавшем нас в связи с чтением Когена, так как он стремился к «абсолютному опыту». Наши сетования по поводу интерпретации Канта Когеном стали столь серьёзными, что с началом летних каникул в августе наши занятия завершились – при том, что в июле мы ежедневно занимались по два часа. Беньямин жаловался на «трансцендентальную путаницу» рассуждений Когена. «Тут я с равным успехом могу обратиться и в католицизм». Для меня различие между этой работой по Канту и когеновской собственной «Логикой чистого познания»124, половину которой я тогда только что прочёл, было очевидным, как бы ни казались взаимозависимыми эти два сочинения. О некоторых тезисах книги Беньямин утверждал, что это «отрицательные эталоны маленьких пухлых фолиантов». Он назвал когеновскую книгу «философским осиным гнездом».
В то время Беньямин много говорил о Ницше последнего периода. Незадолго до моего приезда он прочёл книгу К. Бернулли «Ницше и Овербек»125, которую назвал увлекательным примером газетной научно-популярной литературы. Очевидно, Бернулли побудил его задуматься над Ницше. По мнению Беньямина, Ницше был единственным, кто в XIX веке, когда «слышали» только природу, узрел исторический опыт. Даже Буркхардт-де ходил вокруг да около исторического этоса. Его этос – этос не истории, а исторического рассмотрения, гуманизма. В высказываниях Беньямина о философии тогда присутствовала отчётливая тенденция к систематизации. Вскоре после своего приезда я записал: «Он мчится в систему на всех парусах». Иногда Беньямин прямо-таки приравнивал друг к другу термины «система» и «учение». К этой области, как прежде, относились его споры с миром мифа и, в связи с его занятиями Бахофеном, умозрения относительно космогонии и «допотопного» мира человека. Я часто излагал ему свои идеи об иудаизме и его борьбе против мифа – о чём я очень много думал за прошедшие восемь месяцев. Особенно часто мы говорили на эти темы между серединой июня и серединой августа. Тогда мы испытали, пожалуй, особенно сильное взаимовлияние. Он прочёл мне длинную статью о грёзах и ясновидении, в которой пытался сформулировать законы, управляющие миром домифических призраков. Он различал две исторические мировые эпохи – призраков и демонов, – предшествовавшие мировой эпохе откровения; я же предлагал называть последнюю, скорее, мессианской. Собственным содержанием мифа, по его мнению, является грандиозная революция, которая в полемике против эпохи призраков положила ей конец. Уже тогда его занимали мысли о восприятии как о некоем чтении конфигураций поверхности: именно так-де первобытный человек воспринимал окружавший его мир и, особенно, небо. Здесь располагался зародыш тех рассуждений, каковые он представил четыре года спустя в статье «Учение о подобии»126. Возникновение созвездий как конфигураций на поверхности неба – утверждал Беньямин – является началом чтения и письма, и оно совпадает с формированием мировой эпохи мифа. Созвездия для мифического мира были тем, чем впоследствии стало откровение Священного Писания127.
Весь спектр состояний между сновидением и бодрствованием увлекал Беньямина так же, как и мир самих сновидений. Однажды он объяснил мне закон толкования сновидений; он считал, что открыл его, я же – вновь перечитав свои записи на эту тему – не понял этого закона. Когда Беньямин впоследствии насколько я могу догадываться – отказался от толкования сновидений, по меньшей мере, explicite128, он продолжал часто рассказывать собственные сны и охотно заговаривал на тему толкования сновидений. Не помню, чтобы он возражал моему глубокому разочарованию одноимённой фрейдовской книгой, о которой я написал ему несколько лет спустя. В Мури Беньямин рассказывал о сне весны 1916 года в Зеесхаупте, за три дня до кончины его любимой тётки Фридерики Йозефи, которая покончила жизнь самоубийством. Сновидение сильно взволновало его, и он часами пытался найти его истолкование, но тщетно. «Я лежал в постели, в комнате был ещё один человек и моя тётка, но они не общались. В окно глядели люди, проходившие мимо». Лишь впоследствии ему стало ясно, что это было символическим известием о её смерти. Я не уверен, сказал ли Вальтер напрямую, что одна из смотревших в окно была сама тётка, что прояснило бы его истолкование. В другой раз он рассказал после шутливо-ожесточённого разговора о запланированной «Энциклопедии белиберды» в духе Флобера129, чтó видел во сне накануне: «Было двадцать человек, которые должны были разбиться по двое для того, чтобы изобразить ситуацию, соответствующую заданной теме. Чудесным образом костюмы вырастали на нас в зависимости от наших намерений. Кто управлялся с делом раньше, задавал тон партнёру. Приз получал тот, кто изображал тему лучше всех». Вальтер должен был получить приз за тему «отказа». Он при этом был маленьким кругленьким китайцем в синих одеждах, а его назойливый партнёр, который чего-то от него хотел, взобрался к нему на спину. Но и другая пара столь же хорошо справилась со своей темой, поэтому приз решили дать за другую тему – «ревность». «Тут я был женщиной и лежал, распростёршись на полу, а мужчина обнимал меня, и я ревниво смотрел на него снизу вверх и высовывал язык».
Беньямин предавался также сравнению философского стиля нашего поколения с кантовским; стиль Канта – вопреки господствовавшему мнению – он считал утончённым и ссылался в этом на Клейста. В качестве доказательства он должен был бы привести, как я ожидал, цитаты из малых произведений Канта или из «Критики способности суждения», но он прочёл мне письмо Канта к Козегартену, чтобы тут же с расстановкой и торжественным голосом прочесть два сохранившихся в переписке Канта письма Самуэля Колленбуша – это были послания благочестивого христианина, протестовавшего против «религии в границах чистого разума»130 («Мне жаль, что И. Кант не уповает ни на что хорошее от Бога»). После этого он надолго замолк, а затем величественно вперил в меня взор, как если бы хотел сказать, что эту прозу, пожалуй, можно поставить рядом с библейской. Затем Вальтер прочёл три письма из переписки Гёте с Цельтером – среди них письмо Гёте о смерти его сына. Эти письма, особенно письма Колленбуша, ещё годы спустя всплывали в его разговорах и принадлежали к тем, которые дали толчок к возникновению его сборника «Люди Германии»131. Впоследствии мы провели немало бесед о Гёте; они были, скорее, монологами Беньямина, в лучшем случае – его монологами, которые я перебивал вопросами, так как я тогда мало читал Гёте. Говорил он и об «автобиографической жизни Гёте, которая основана на затуманивании». Когда он сказал, что узрел правду о Гёте, обдумывая его брак, он спонтанно перешёл к собственному обручению с Гретой Радт132. Он видел некую параллель между двумя этими отношениями, но какую именно, я не помню. Его непредвзятый взгляд на Гёте выразился уже в швейцарский период в высокой, лишь наполовину ироничной, оценке трёхтомной биографии Гёте, написанной иезуитом Баумгартнером133. Он пускался в похвалы «разоблачениям», которые содержались в этом памфлете: ненависть нередко наделяла автора проницательностью. «Настоящий иезуит о Гёте – это надо видеть». Или же «если выбирать между Баумгартнером и Гундольфом, я не затрудняюсь»134. Конечно, суждения Баумгартнера оставляли Беньямина совершенно безразличным; его интересовала детективная и инквизиторская сторона книги, где Гёте изображался в виде преступника, которого необходимо было изобличить. Меня тогда гораздо сильнее трогал Жан-Поль, о котором Беньямин говорил, что в Германии это единственный великий писатель, который может не принимать упрёк в свой адрес, что он жил в исторической сфере насилия. Против Шиллера, однако, этот упрёк правомерен, и «нет бóльшего надувательства, чем историческая невинность Шиллера». Шиллеровский отказ помогать Гёльдерлину взаимосвязан с этой «невинностью» и с его «демонической моралью». В другой раз Беньямин прочёл вслух стихотворение Ленца о Канте: «Подлинное преклонение: оно бесконечно».
В те первые недели у нас было много важных разговоров, иногда за полночь, и среди прочего мы читали набросок новой этики, копию которой Людвиг Штраус посылал Беньямину и мне и которую мы подвергали критическому разбору. Беньямин читал и собственные стихи, но, прежде всего, стихи Фрица Хейнле, Августа Вильгельма Шлегеля и Платена, о котором он говорил, что чувствует с ним родство душ. Мы оба – как немало евреев из нашего поколения до прихода Гитлера к власти – совершенно пренебрегали Гейне, и я не помню, чтобы у нас был хоть один разговор о поэзии Гейне. Беньямин, готовя диссертацию о понятии художественной критики в раннем романтизме, прочёл «Романтическую школу» Гейне и дал о ней уничтожающий отзыв. Когда в 1916 году я впервые услышал о Карле Краусе, я прочёл его «Гейне и последствия»135, а Беньямин – ещё нет. Он в то время штудировал прозаические сочинения Фридриха Шлегеля, к которому издавна испытывал влечение, в том числе и к его поэзии, – и при этом натолкнулся на Фихте. Фихте, Кьеркегора и Фрейда Беньямин причислял к «сократическим людям». Лишь гораздо позднее в письме, отправленном в январе 1936 года нашей общей знакомой Китти Штейншнейдер, он писал, что «в Фихте революционный дух немецкой буржуазии превратился в куколку, из которой вылупился бражник – мёртвая голова национал-социализма».

Карл Краус. Вена, 1936 г.
Если в разговорах Беньямин часто высказывался о Георге и его «круге» (о последнем – с большой сдержанностью или полемично), то о поэзии Рильке говорил лишь изредка, что контрастировало с высокой оценкой, какую он давал ему в период «Молодёжного движения» и о которой мне рассказывали его друзья того времени (о чём я тогда ещё не знал). В мае 1918 года у нас с Беньямином произошла подробная беседа, в которой он – без всякой полемики – попытался дать определение сфере поэзии Рильке. Деталей я не помню, кроме одной. Мой друг Эрих Брауэр, который семестр назад начал учиться во Фрейбурге-им-Брейсгау, написал мне о глубоком впечатлении, произведённом на него лекцией Эрнста Бушора, археолога классической древности. Бушор говорил о хранящемся в музее в Неаполе архаическом торсе Аполлона и под конец лекции продекламировал стихотворение Рильке под тем же названием, после чего расплакался – а это не повседневное событие на университетской лекции по археологии136. Я поведал об этом Беньямину, и он сказал: «Это и впрямь необыкновенное стихотворение!». Годы спустя он послал мне копию своего по неведомым причинам оставшегося ненапечатанным ответа на злобный некролог, написанный на смерть Рильке Францем Блеем в «Литературном мире»137 и глубоко возмутивший Беньямина. Этот ответ показал весьма изменившееся отношение Беньямина к Рильке, но тот сонет из сборника «Новые стихотворения» он по– прежнему назвал в числе незабываемых стихов. Когда же я в одном письме о жалобных песнях написал о трёх текстах: о библейском плаче Давида по Ионафану и о двух стихотворениях на ту же тему – Рильке и Эльзы Ласкер-Шюлер – он ответил, что стихотворение Рильке просто плохое. В одном разговоре о жалобных песнях – тема, глубоко занимавшая меня тогда в связи с древнееврейским – он мне сказал, что в романе Рильке «Мальте Лауридс Бригге» есть чудесная жалобная песнь. Я раскрыл книгу, и в искомом месте была приведена цитата из главы 30 Книги Иова, хотя и без указания источника! При всей остроте критики, которую Беньямин впоследствии обрушил на Рильке как на «классика всех слабостей югендштиля», он никогда не снисходил до распространившейся впоследствии «социально-критической» глупости, когда насмехались над знаменитым стихотворением Рильке о Франциске Ассизском138, считая его снобистско-реакционным восхвалением нищеты.
К литературному экспрессионизму, возникшему в предвоенные годы в кругу, близком Беньямину, он никогда не примыкал как к направлению. Однако к экспрессионистской живописи Кандинского, Марка Шагала и Пауля Клее на некоторых её фазах относился с большим восхищением. Ещё в Йене я подарил ему книгу Кандинского «О духовном в искусстве»139, где его привлекали именно мистические элементы содержащейся в ней теории. Но в девизах как таковых Беньямин находил вообще мало смысла и ориентировался, скорее, не на школы, а на конкретные феномены. Имя Казимира Эдшмида, тогда популярного представителя экспрессионистской прозы, было для Беньямина символом претенциозной пошлости и использовалось на том же уровне насмешки, что и имя Фриды Шанц. Правда, Георга Гейма он считал большим поэтом и цитировал мне наизусть – для него дело необычное – стихи из «Вечного дня»140. До сих пор остаётся нерешённой загадка поэзии Фрица Хейнле, содержащей, по мнению Беньямина, элементы величия, отличавшие его от основной массы экспрессионистов.
На описываемое время приходится также и начало его коллекционирования старых детских книг, о котором он написал в июле 1918 года в напечатанном письме к Эрнсту Шёну. Коллекционирование началось из-за энтузиазма Доры по отношению к таким книгам. Дора любила также саги и книги сказок. Оба, по меньшей мере до 1923 года, пока я жил рядом с ними, имели обыкновение дарить друг другу на дни рождения иллюстрированные детские книги и охотились, прежде всего, за экземплярами, раскрашенными вручную. Он показал мне сочинения Лизера с восторгом, в котором радость открытия была связана и с художественным результатом. Беньямин любил произносить небольшие речи о таких книгах перед Дорой и мной, чтобы особо выделить неожиданные ассоциации, встреченные в текстах. В июне 1918 года мы нашли у одного антиквара в Берне первый том «Книги с картинками для детей» Бертуха – из Веймарского круга141; впоследствии Беньямин приобрёл ещё несколько томов. Эта книга образовала особый фокус его любовного погружения. Когда Беньямин комментировал ту или иную иллюстрацию, в нём уже тогда воспламенялось его особое чутьё к эмблематике, хотя мы этого и не осознавали. Ассоциативно определённые картинки в таких книгах приковывали его на том же уровне, как впоследствии «Меланхолия I» Дюрера и книги об эмблемах XVIXVII веков.
Его склонность к воображаемому миру ассоциаций, связанная с пробуждением участия в мире ребёнка и погружением в этот мир в детские годы его сына, сказывалась и в его интересе к литературе душевнобольных. Уже в Берне у него было несколько работ такого происхождения. В них его восхищал, прежде всего, архитектонический, как сегодня выразились бы – структурный элемент систем их мира и часто с ними связанные фантастические иерархии с не текучей, как у детей, а с горестно и сурово затвердевшей упорядоченностью. Интерес Беньямина был при этом не патопсихологический, а метафизический. Я нередко слышал, как он говорил на упомянутые темы – но никогда не в связи с психоаналитической техникой, о которой он тогда знал хотя бы из чтения работ Фрейда и некоторых его ранних учеников. Из этой же серии было его уже упомянутое отношение к живописи – которое распространялось и на Джеймса Энсора задолго до его открытия сюрреалистами. Он любил посещать выставки, где его проницательное понимание искусства развивалось больше, чем при изучении репродукций. Ещё в Париже он привёл меня в кабинеты, где производились иллюзии, горячо расхваливая их технику, а также в музей восковых фигур мадам Тюссо, где неожиданные сопоставления также вызывали его эстетически-ассоциативный восторг.
Об эстетической теории, которой я не интересовался, мы почти не говорили, и я припоминаю лишь два исключения: его пожизненную убеждённость в значении работы Алоиза Ригля «Позднеримская художественная индустрия»142 и его любовь к «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля, которую он читал в связи со своими исследованиями романтизма143. Особенно я вспоминаю фразу Жан-Поля, охотно цитируемую Беньямином как вершину чувства юмора. Жан-Поль говорил о раннем романтизме как об «уже полупогибшей школе, чьи важнейшие учебники, однако, в первую очередь шлегелевские – пережили её краткое бессмертие».
Бывая вместе, мы нередко проводили время в прогулках по старому Берну, но больше всего общались в рабочей комнате Беньямина, где он постепенно собрал значительную часть своей библиотеки. Иногда мы совершали и большие путешествия – например, ночной поход из Туна в Интерлакен144 в конце мая 1918 года. Шли мы молча, но если начинали говорить, Беньямин останавливался, как он любил делать во время беседы. Затем мы снова пускались в путь и говорили о чём– нибудь нейтральном, молчали, а потом вновь впадали в «существенное». Тогда-то мне впервые открылись в Беньямине начальные, а впоследствии развившиеся депрессивные черты, его меланхолическая суть. (Ничего маниакального в нём я никогда не замечал.) В то же время я заметил и истерические элементы в поведении Доры, которые внезапно проявлялись по самым неприметным поводам. Довольно часто меня подавляли эти напряжённые события, но сделать я ничего не мог. Я ощущал себя как человек, который видел больше, чем ему хотелось бы.
За обоюдными разочарованиями и за конфликтами, о которых уже говорилось выше, стояли более глубокая горечь и потеря иллюзий в тех представлениях, которые мы составили друг о друге прежде. Конфликты разрешались под маской писем, которыми обменивались между собой грудной младенец Стефан и я – мы подкладывали их друг другу. Письма Стефана были написаны почерком Доры, но с ведома и, пожалуй, с участием Вальтера. 20 июня – спустя шесть недель после моего прибытия! – Стефан написал мне, сославшись на, насколько я помню, даже не написанное моё письмо:
«Дорогой дядя Герхардт145!
Посылаю тебе свою лучшую карточку, полученную недавно. Спасибо за твоё письмо; на это мне есть что сказать. Потому и пишу. Ведь когда я к тебе прихожу, ты рассказываешь так много, что я не могу вставить слово. Вначале я должен сказать тебе, чтоб ты знал: я ничего не помню. Ведь если бы я мог что-то помнить, я бы уже был не здесь, где всë так скверно и где от тебя столько напастей, а давно бы вернулся туда, откуда прибыл. Поэтому я не могу прочесть конец твоего письма. Остальное мама читает мне вслух. У меня, кстати, такие странные родители; однако об этом потом.
Когда я вчера был в городе, мне кое-что пришло в голову. Когда я вырасту, я ведь буду у тебя учиться. Поэтому уже сейчас ты должен призадуматься. Лучше всего напиши уже сейчас книжечку, где ты всё отметишь. Теперь я хочу сказать тебе кое-что о моих родителях. О моей матери – пока ничего, так как она, в конце концов, моя мать. Но о моём отце могу тебе кое-что заметить. Ты не прав в том, что ты пишешь, дорогой дядя Герхардт. По-моему, ты очень мало знаешь о моём папе. Да и мало кто о нём что-нибудь знает. Когда я ещё был на небе, ты написал ему одно письмо, и мы все подумали, что ты это знаешь. Но ты, пожалуй, совсем этого не знаешь. Я думаю, такой человек приходит в мир очень редко, и тогда людям надо быть к нему добрыми, всё остальное он сделает сам. А ты всё ещё думаешь, дорогой дядя Герхардт, что надо сделать очень много. Может, когда я буду большой, я тоже так буду думать, а пока же я думаю, как моя мама, то есть совсем ничего или мало чего; и потому большие хлопоты и волнения обо всём кажутся мне гораздо менее важными, чем вот это: тепло мне или холодно.
Однако я не хочу умничать, ведь ты знаешь всё лучше меня: в том-то и беда.
С большим приветом,
Стефан».
Я начал ответ:
«Дорогой Стефан,
спасибо за фотокарточку. Почему же ты не принёс её с собой, когда в последний раз был у меня, а я тебе рассказывал историю о кошке и трёх евреях на четверть? Видишь ли, твой папа – странный человек. Стефан! Учись вместе со мной критиковать его. Он говорит, фотографировать аморально, то есть – не знаю, известно ли это уже тебе – он утверждает, что фотографировать не подобает приличному человеку, но ты ведь, пожалуй, сообщил ему своё мнение об этом, не так ли? Видно по фотокарточке: ты ничего не хочешь о нём знать. Но будь к нему добр; твой отец не хотел ничего дурного, а от тебя будет защищаться – он ведь так умён – тем, что ты ещё ребёнок. Но это неверно. Разве ты не был на небе на 25 лет дольше, чем он? Разве ты не изучал там Тору на 25 лет дольше, чем он? (И вообще, Стефан, я должен тебе откровенно сказать: он уже опять всё забыл.) Но что делать, Тора ещё на небе жаловалась, что твою маму Дору он любит больше, чем её. Но надеюсь, мы ещё преподадим ему Тору, не так ли?
Дорогой Стефан, ты не должен думать, что если у меня есть твоя фотокарточка, тебе теперь не надо навещать меня. Картинка мне тебя не заменит. Изображение, как мы это учили в Талмуде (знаешь, как раз тогда, когда твой отец ругался с твоей матерью на небе, больше не хотел учить Тору, сидел в углу у Михаила и грозил уйти на христианское небо, что всё ему опостылело, а христианская любовь всё-таки крепче, чем любовь Доры – разумеется, впоследствии он отрекался от этого!), – это мутное зеркало, и если я стану рассказывать истории изображению, что с того пользы тебе?
Дорогой Стефан: мы ведь оба в курсе дела. Давай и дальше всегда делать вид, будто мы ничего не поняли. Мы ведь оба – младшие в семье и должны сообща защищаться от старших, которые нас подавляют. Они лишают нас сил, Стефан! Этого мы не потерпим. Помнишь, как у германцев Некенив146, который всю жизнь читал всё задом наперёд и поэтому наговорил много вздора, как он на небе взывал против родителей и даже на христианском небе произвёл такое впечатление, что младенец Иисус больше ничего не хотел знать об Отце. Ведь там было такое!..». [Здесь я прервал запланированное письмо и вместо этого написал сонет «К Стефану», который у меня не сохранился.]
Тогда я написал немало таких стихотворений, среди которых было одно ко дню рождения Беньямина, которое я подарил ему вместе с двумя книгами. Я много рассказывал ему об Агноне, с которым познакомился в Берлине в месяцы, предшествовавшие женитьбе Беньямина. Но пока ни одно сочинение Агнона не было переведено на немецкий язык, человеку, не знающему иврита, трудно было составить представление о его необыкновенной личности и произведениях. Весной 1918 года в журнале Макса Штрауса «Еврей» появился чудесный перевод «Истории писца Торы», которую я слышал в исполнении Агнона на иврите – незабываемое впечатление. По сей день я считаю эти страницы вершиной еврейской литературы. Как-то в пятничный вечер июня я прочитал этот перевод Вальтеру и Доре. На него это произвело сильное впечатление, мы долго говорили о нём, Беньямин причислил первые три четверти текста к величайшим образцам, но яростно протестовал против визионерского финала. Агнону-де не следовало венчать историю видéнием, которое не может превзойти реальность предшествующего. «Если бы эта история вместе с финалом была совершенной, нам не понадобилась бы и Библия». Я подарил ему «Историю…» Агнона, для которой специально заказал переплёт. Изначально я планировал подарить «95 тезисов об иудаизме и сионизме»147, которые закончил неделями раньше, но под конец был недоволен ими и не дал их ему. Вместо этого я принёс первый набросок «Философского алфавита» для студентов университета Мури; «Второе, переработанное в соответствии с новейшими достижениями философии издание» книги я посвятил Беньямину в частном издании 1927 года148. Беньямин был не только великим метафизиком, но и большим библиофилом. Воодушевление, с каким он мог говорить в те годы о переплётах, бумаге и шрифтах, часто действовало мне на нервы – например, на таких празднованиях дней рождения. Как ни трудно мне сегодня восстановить в памяти тогдашнее впечатление, но я точно видел в этом стихию декаданса. Я писал тогда: «Как ни велика во всех смыслах жизнь [Беньямина], единственная метафизически проживаемая вблизи меня, она всё-таки несёт в себе стихию декаданса в устрашающей мере. Есть некая трудноопределимая граница образа жизни, которую декаданс переходит – и Вальтер, к сожалению, тоже. Я не считаю, что метафизически-легитимные взгляды возникают из такого способа оценивать книги по переплёту и бумаге. Но у Вальтера есть и масса нелегитимных научных выводов. Изменить его невозможно, наоборот: я должен заботиться лишь о том, чтобы эта сфера не вторглась на территорию моего “Я” при личном контакте». Незадолго до этого я записал: «Последнее время я опять хорошо уживаюсь с Вальтером. Пожалуй, оттого, что я нашёл место, с которого могу перед ним немотствовать о моих внутренних делах. Поэтому всё хорошо; последние инциденты в принципе были вызваны тем, что он видел ту сферу моего состояния, которая не была предназначена для него. Ведь сам он тоже не раскрывал для меня подобные вещи, и наша общность состоит как раз в том, что каждый без слов понимает это безмолвие другого и считается с ним».
Вскоре после его дня рождения я получил немецкий перевод первой книги Агнона «И кривое выпрямится»149, которую я дал почитать Беньямину на его каникулы в Бёнигене под Интерлакеном. Он писал об этом: «С Агноном я управился и могу лишь сказать, что книга мне очень нравится. Её не в чём упрекнуть, она прекрасна. Дайте мне возможность сказать о ней что-то позитивное, или эту возможность даст второе прочтение». С этого момента его интерес к Агнону не прерывался. Небольшие рассказы, которые я затем – частью по рукописям Агнона – перевёл и опубликовал в «Еврее»150, вызвали его особое восхищение. И всё, что касалось жизни Агнона и моего отношения к нему, непременно находило отклик у Беньямина. Беньямин совсем ничего не знал о положении евреев, не говоря уже о восточно-еврейской действительности и литературе. Так, однажды он спросил меня – по почте – в связи с «Философией поступка» Теодора Лессинга151, которую я тогда читал, как это возможно, чтобы еврея звали Лессинг. В подробностях еврейской истории он был совершенно не осведомлён. Когда мы жили в Мури, наши разговоры часто касались иудейской теологии и основных понятий иудейской этики, но почти не касались конкретных вещей и отношений. В этих разговорах главную роль играли дискуссии об откровении и спасении, справедливости, праве, богобоязненности и искуплении; следы этих дискуссий прослеживаются во многих записях Беньямина, пусть и в преображённом виде.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































