Текст книги "Вальтер Беньямин – история одной дружбы"
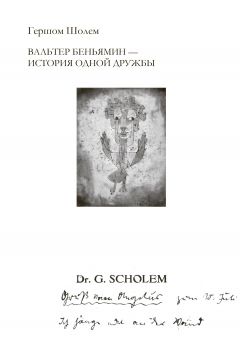
Автор книги: Гершом Шолем
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Как-то мы втроём вели серьёзный разговор о десяти заповедях – Дора спрашивала, можно ли их преступать, – и о значении предписаний Торы. Я прочёл вслух заметки о понятии справедливости как «действии с отсрочкой», которые встретили полное понимание Беньямина. Они спросили, почему я при своей религиозной позиции всё-таки не принимаю ортодоксального образа жизни – шаг, который я часто обдумывал, но всегда отвергал всё более решительно. Я объяснил с тогдашней формулировкой: для меня это связано с конкретизацией Торы на слишком лживой, слишком незрелой сфере – и это доказывается парадоксальностью приёмов, которые здесь проявляются и неизбежно лежат в основе ложных отношений. В применении заповедей что-то не сходится: заповеди сталкиваются между собой. Я же хотел выдерживать анархическую «неопределённость» ситуации. Позднее мои исторические перспективы изменились в направлении, сделавшем этот вопрос беспредметным. Поскольку изменилось моё понимание смысла, в котором можно говорить об откровении. В то время каббалистический элемент почти не играл роли в моей жизни, хотя я уже начал о нём задумываться.
Ещё перед этим в июне у нас произошла резкая стычка из-за «открытого письма», которое я написал в ответ на приглашение – полученное и Беньямином – Зигфрида Бернфельда к сотрудничеству в издававшемся им в Вене сионистском ежемесячнике «Иероваал»152, а также в качестве «прощания» с еврейским «Молодёжным движением», нехватка радикализма в котором выводила меня из себя. Бернфельд был старым знакомым Беньямина с эпохи «Анфанга» и радикальной школьной реформы; он обратился в сионизм. Вначале мы раздумывали, не подписать ли это письмо вместе. Беньямин, однако, отступил от этой мысли. Мы долго спорили о тексте, который я потом написал и опубликовал один. Беньямин сказал: «В таких делах важно, кто метафизически будет смеяться последним». Моё письмо этой цели не достигало, я в нём громко требовал молчания. «В методе молчания само молчание не присутствует. Такое пишут, чтобы дать волю накопившемуся, но нас не печатают». Он соглашался с замыслом написанного, но, на его взгляд, содержание письма следовало защитить от профанации.
22 июля опять была сцена с Дорой, после которой мы в долгой беседе «дошли до корней» дела. Вскоре после ссоры я вновь получил письмо от Стефана.
«Дорогой дядя Герхард!
Ты давно не ждёшь от меня писем, поэтому я и пишу. Дела мои идут хорошо, и у мамы стало больше времени. Благодарить за твоё чудесное стихотворение ни к чему, оно слишком хорошо для этого. Но когда я вырасту, я в благодарность тоже напишу стихотворение.
У нас тут волнующие события, мы с мамой празднуем папин день рождения. Ты, наверное, тоже являлся с неслыханными дарами, но я ничего не видел, потому что они ведь меня не подпускают, когда происходит что-нибудь весёлое. Поэтому я мало что могу тебе об этом сказать.
Потом ещё был случай: однажды вечером, когда я уже давно спал, раздался ужасный грохот, и я сперва подумал: опять гроза, но нет – только кто-то выл и кричал так, что дрожали стены. Ты, наверное, знаешь, что это было? Маму я не осмеливаюсь спрашивать, так как она с тех пор опечалена; даже когда я говорю о тебе, она резко обрывает меня.
А ещё я недосчитываюсь одной очень ценной для меня книги из моей библиотеки. Даже не могу себе представить, кто же её взял. А теперь будь здоров. Я жутко тоскую по горам. Когда, когда, наконец, я туда поеду?
Забирай меня скорее вновь учиться. Сердечный привет,
Стефан».
Думаю, речь здесь идёт о книге «Ватек» Бекфорда —повести, которую один богатый двадцатидвухлетний англичанин якобы написал за два или три дня по– французски в 1782 году, а затем умолк на десятилетия. Беньямин был высокого мнения об этой книге, у него она была в немецком переводе153.
Когда Вальтер с Дорой были в Бёнигене, я поехал в Адельбоден154, где мне пришлось трудно с Эрихом Брауэром, который был горбат и крайне обидчив. Я написал об этом и о моих проблемах Вальтеру с Дорой. Несколько дней спустя я получил ответ, охарактеризованный Беньямином как «разумный и проницательный не по годам Стефана», где излагалось – разумеется, почерком Доры:
«Бёниген, 8. 9. 1918
Дорогой дядя Герхард!
Благодарю тебя за тёплое и прекрасное письмо, которое меня обрадовало, несмотря на те скорбные вещи, о которых ты пишешь. Милый дядя Герхард, мы тут все немного горбаты, не говоря уже про наш малый рост. Поэтому не обижайся на своего знакомого. Гораздо хуже то, что ты пишешь о его неспособности понять тебя. Это тем печальнее, что я ведь заметил, как радостно ты сбежал из-под надзора моего отца. Я понял по себе: нельзя одновременно плакать и сосать грудь.
Мои дела неплохи. Через пару дней мне будет 5 месяцев и мне, наконец, будут давать сосать из бутылочки. Мне очень жаль маму, она принимает это так близко к сердцу, как будто я из-за этой бутылочки перестану быть её сыном – кстати, я как раз проголодался.
О том, что ты пишешь, будто у неё никогда нет времени для тебя – я уже задумывался раньше. Кажется, даже писал тебе об этом. По-моему, если бы дела обстояли иначе, у неё было бы время – «нет– времени», как я считаю, только видимость – я полагаю, моя мама всё-таки не такая, чтобы у неё не было времени из-за чего-то внешнего. Ведь для папы и для меня у неё всегда есть время, а раньше, когда её дела были ещё не особо хороши, приходили люди твоего возраста, хотя и не твоего значения, и сидели у неё, пока Боженька давал свет, а то и за полночь. Для них у неё находилось время. Но когда я её спросил от твоего имени и мы поговорили на эту тему, мы многое поняли. Мне будет трудно сказать тебе об этом, я не хотел бы, чтоб ты понял так, будто твоё отношение к моей маме не таково, каким должно быть. Здесь всё в порядке, но только если рассматривать это само по себе, потому что ведь тебе всегда хотелось чего-то другого. Того, что ты требуешь от моей мамы, она тебе не может дать, так как ты её не любишь; она знавала многих, кто это делал, чтобы обмануть себя. Но ты-то мог бы принять от неё многое, чего ты не видишь, поскольку требуешь иного, неадекватного. Поэтому у неё нет времени для тебя, а то бы она пропала; слишком часто дело доходило бы до разрывов по причинам, которые я описал выше.
Для меня это стало очень тяжко, почти непосильно для моего маленького мозга. К счастью, я спал всё время. Так прощай же, мой, пожалуй, самый любимый дядя Герхард. Все мы желаем тебе весёлого праздника рош-хашана [Новый год], хотя мы все ещё слишком глупы, чтобы правильно это написать.
Твой Стефан».
Когда я ответил Вальтеру, что письмо меня очень огорчило и усугубило моё и без того угрюмое настроение, он предложил мне совершить продолжительную прогулку, если у меня хватит на неё сил. «Моё намерение было и есть: 28 сентября вместе с Вами подняться, например, на Фаульхорн, спуститься оттуда в Мейринген155 и пройтись по долине Роны… Я потратил эти дни на то, чтобы подготовить прекрасную прогулку и во всех смыслах отдохнуть, а также собраться с мыслями. Работал я не так много, за этику даже не брался, но много занимался Гёте, прочёл и его метаморфозы растений… Остаюсь в надежде взойти с Вами на Фаульхорн и тем самым принести жертву его демону, благодаря которой он будет щадить нас всю зиму».
До большой поездки дело не дошло, и мы совершили восхождение на Шиниге Платте156.
По нашем возвращении из отпуска мы больше не жили по соседству. Вальтер с Дорой въехали в четырёхкомнатную квартиру в квартале Марцили у реки Ааре, а я сменил несколько комнат, где они иногда посещали меня. Теперь мы реже бывали вместе – отчасти потому, что Дора и Вальтер друг за другом переболели свирепствовавшим испанским гриппом, отчасти потому, что Беньямин интенсивно работал над диссертацией и сильно перенапрягался, а отчасти потому, что новые трения, особенно с Дорой, приводили к трудностям. Сцены случались между всеми нами по кругу. То Вальтер и Дора, когда я был у них, набрасывались друг на друга по совершенно неизвестным мне причинам, так что я молча уходил. После этого опять шли долгие переговоры и примирения.
Одна из таких сцен описана у меня в дневнике 5 ноября 1918 года: «Я пришёл к 5 часам вечера к Вальтеру, чтобы сыграть с ним в шахматы. Доре уже было лучше (после гриппа), и мы переговаривались через открытую дверь. Вальтер был очень мил, после заслуженного поражения он прочитал несколько невообразимо красивых сонетов (на смерть Хейнле), и всё было хорошо. Я должен был с ним поужинать. В восемь часов он вошёл в комнату Доры, и вскоре там разразилась жуткая ссора – понятия не имею, из-за чего, но, к сожалению, это случалось часто. Однако сегодня дело было особенно скверно и мучительно. Вначале я сидел в соседней комнате, потом мне стало стыдно быть свидетелем ссоры, и я спустился вниз, потому что обычно дело улаживалось быстро и Вальтер выходил следом за мной. Сегодня – ничего подобного. Я просидел три четверти часа внизу в столовой и, конечно, не хотел ужинать один во время их ссоры наверху. Когда Вальтер не отозвался на стук служанки в дверь, я ушёл несолоно хлебавши. Мне очень грустно, что в супружеской жизни часто бывают такие сцены. Я – единственный свидетель подобных вещей, и как раз поэтому они чрезвычайно мучительны для меня. Что там у них происходит? Почему такая беготня и крики? В доме, где склоки, становится страшно. Служанка не кажет носа из кухни, суп остывает, наверху слышны взволнованные шаги Вальтера – и, наконец, меня охватывает стыд. С моим присутствием они вообще не считаются – да я и не требую этого, я и слова не скажу, но меня мучит, чтó же они сами обо мне не вспомнят? Ведь я не евнух, перед которым обнажаются так, как не сделали бы этого перед другими. Я напрасно просидел там два часа, а ведь хотел уйти сразу после шахмат. Если бы не проникновенные сонеты, до сих пор звучащие во мне, я бы совсем отчаялся от такого “общения”». По контрасту с этим я записал девятого ноября: «Вчера и позавчера я был у Вальтера и Доры, и было очень хорошо. Наши отношения, главные в моей жизни – по крайней мере, в том, что касается мужской дружбы, видятся мне в более чистом свете по прошествии полугода жизни бок о бок. Я записал в дневник много всякой ерунды, и всё это, в сущности, неверно: просто потому, что можно было умолчать. Мой сонет ко дню его рождения был единственным предпринятым шагом. Я снова начинаю невыразимо любить Дору».
В ноябре, по моей инициативе, они пригласили к себе вместе со мной Эриха Брауэра, и вечер стал ужасным фиаско. Что-то в обстановке угнетало Брауэра, и он сидел сам не свой и почти всё время молчал; настроение было подавленное. Вальтер и Дора пытались расшевелить его, но тщетно. Тогда они справедливо были раздражены ситуацией, так как я не мог заставить себя что-то обсудить на том тоскливом вечере с Брауэром. Но были и счастливые вечера. В новой квартире у Доры было фортепьяно, и в торжественные моменты она пела песни Эйхендорфа, которые (или мелодии которых) она очень любила, например, «О склоны гор, о дали» или «По полям и рощам бука»157. Когда же её охватывал задор, она пела и мотивы, которые совсем ей не шли, такие, как «До хладной могилы влачу свои ноги». Сам же Вальтер, сколько я помню, не пел никогда. В основном той зимой 1918/19 годов мы собирались только по выходным. В феврале-марте Дора для заработка устроилась переводчицей с английского в какое-то бюро, так что даже с Вальтером она виделась только по вечерам. У них тогда была служанка, которая нянчилась со Стефаном и жила вместе с ними. Они вели замкнутый образ жизни и почти ни с кем не общались. До марта 1919 года я видел у них лишь двух гостей – музыканта Геймана, который иногда музицировал с Дорой, и в марте 1919 года – Вольфа Хейнле, младшего брата умершего друга Беньямина; Вольф приехал из Германии и месяц жил у них. Он писал загадочные экспрессионистские и эзотерические стихи, которых я не понимал.
Большевистская революция и крах Германии и Австрии, а также последовавшая за этим псевдореволюция, впервые с тех пор, как мы договорились, что о войне у нас единое мнение, вновь ввели в наши разговоры политические темы. Всеобщая забастовка в Швейцарии, подавленная правительством, применившим военную силу (мы стали свидетелями этих событий 9–11 ноября), почти не занимала нас, но события в России и Германии интересовали больше. Хотя особого волнения я не проявлял. Ещё в декабре я написал Вернеру Крафту: «Палестина волнует и интересует меня гораздо больше, нежели германская революция». Правда, у нас были споры о диктатуре; в них я занимал радикальную позицию и защищал мысль о диктатуре, которую Беньямин полностью отвергал, поскольку речь тогда шла о «диктатуре бедности», которая для меня eo ipso158 не была тождественной «диктатуре пролетариата». Я бы сказал, наши симпатии в России были на стороне партии социалистов-революционеров, которую впоследствии жестоко ликвидировали большевики. Мы обсуждали вопрос о республике и монархии, и, к моему удивлению, Беньямин выступал против моей республиканской позиции. Решения-де можно принимать лишь относительные, с учётом обстоятельств, а в сегодняшних условиях монархия является, пожалуй, легитимной и достойной одобрения государственной формой.
После революции Вернер Крафт, в судьбе которого мы принимали живейшее участие, хотел перебраться к нам в Швейцарию, и я советовался с Вальтером и Дорой, как это можно сделать. Но этот план разбился о препятствия, которые надо было преодолеть для въезда. В начале 1919 года Беньямин познакомился с Хуго Баллем и Эмми Хеннингс159, жившими в соседнем доме. Балль, один из первых столпов дадаистского кабаре «Вольтер», был также одним из главных сотрудников издаваемой немецкими противниками войны «Фрайе цайтунг»160, крайним республиканцем, но не социалистом и не коммунистом. Он питал фанатическую ненависть ко всему прусскому. К концу зимы Беньямин дал мне почитать увесистый, страстно написанный памфлет «К критике немецкой интеллигенции»161, который в некоторых частях настолько же импонировал нам зоркостью своей ненависти, насколько в других частях – например, в безудержных нападках на Канта – вызывал лишь покачивание головой. Жена Бал– ля, Эмми Хеннингс, была одной из пылких поэтесс в период расцвета экспрессионизма и имела дочку лет двенадцати от других отношений; картины девочки на религиозные темы, по мнению Беньямина, были удивительного художественного качества. Обе – и мать, и дочь – отличались чрезвычайной католической набожностью. Беньямин часто рассказывал о своих посещениях этой семьи.
В марте или апреле 1919 года Беньямин через Хуго Балля познакомился с Эрнстом Блохом55
Эта дата, которая расходится с данными Блоха, – вероятно, взятыми из записей по памяти (в: Über Walter Benjamin. Ffm., 1968. С. 16), – восходит к моей дневниковой записи, сделанной в конце апреля 1919 года, согласно которой Беньямин тогда мне сказал, что он познакомился с Блохом «несколько недель назад».
[Закрыть], который тогда жил в Интерлакене и тоже в годы войны сотрудничал с «Фрайе цайтунг». У меня сохранилась его брошюра, вышедшая тогда. Я при этих встречах не присутствовал, но на Беньямина личность Блоха явно произвела большое впечатление, хотя он и не был тогда знаком с его философскими сочинениями. Первое издание «Духа утопии», которое вышло в 1918 году162 и о котором Блох ему, несомненно, рассказывал, Беньямин прочёл лишь весной 1919 года. Я насторожился, услышав это название, и Беньямин сказал мне, что это не авторское название и что работа должна была называться «Музыка и апокалипсис», но редактор издательства «Дункер унд Хумблот»163, Людвиг Фейхтвангер, отверг заглавие как непривлекательное для читателя. Беньямин описывал мне впечатляющий облик Блоха и рассказал, что тот теперь работает над своей главной работой, «Системой теоретического мессианства» – при этом он сделал большие глаза, – а также решительно выступает по вопросам иудаизма – впрочем, так и не сказав мне, в каком направлении. Во всяком случае, их знакомство весной 1919 года развивалось так стремительно, что Беньямин рассказал Блоху обо мне и устроил мою поездку в Интерлакен. Беньямин также сказал мне, что Блох – когда они говорили об общей системе философии – видел в нём специалиста по «учению о категориях», которого не следует упускать из виду. Визит к Блоху состоялся 18 мая, по предварительной договорённости, и мы сидели с 6 часов вечера до 3 часов 30 минут утра. Мы говорили в основном (зачастую бурно) о старом и новом иудаизме, и я читал ему «Историю писца Торы» Агнона. Когда я вошёл в рабочий кабинет Блоха, на книжной полке его письменного стола стояла работа Иоганна Андреаса Эйзенменгера «Раскрытое еврейство», написанная в 1701 году, наиболее учёный труд антисемитской литературы на немецком языке, двухтомный кирпич объёмом более 2000 страниц164. На мой удивлённый взгляд Блох сказал, что местами это самая лучшая книга об иудаизме из всех ему известных, правда, автор был настолько глуп, что цитировал и переводил в ней прекрасные и глубокие вещи, чтобы осмеять их и оклеветать как богохульство. Надо лишь читать эти места с противоположным знаком, и всё встанет на свои места. Мне это очень понравилось и подтвердилось, когда два года спустя я получил собственный экземпляр.
Но в целом этот долгий визит получился не очень успешным, хотя Блох был весьма сердечен и при расставании сказал, что надеется вскоре опять со мной увидеться – но от Беньямина я потом услышал, что Блох на меня жаловался и назвал ослом. Сам я записал в дневник: «Мне было сравнительно приятно с ним общаться, но в принципе с такими воззрениями у меня мало общего. Иногда я наталкивался прямо-таки на железную стену. Беньямина он объявил аналитиком формы. Не знаю, увидимся ли мы ещё, но пока – сколь бы серьёзные и глубокие разговоры мы ни вели – наш контакт не надолго».
Беньямин тогда был вовлечён в разговоры с Блохом и Баллем по вопросу о политической активности, которую он отвергал в том смысле, в каком его к ней склоняли партнёры. Мюнхенская Советская республика в апреле 1919 года попала в поле его зрения лишь постольку, поскольку философски высоко ценимый им Феликс Нёггерат165 был арестован за участие в революции, что встревожило Беньямина. И в Венгерской Советской республике, которую он считал ребяческим заблуждением, его трогала лишь судьба Георга Лукача, ближайшего друга Блоха; за него тогда боялись (ошибочно), что он арестован и, вероятно, будет расстрелян. Беньямин, который прочёл и высоко ценил лишь домарксистские произведения Лукача, такие, как «Метафизика трагедии» и «Теория романа»166, тогда всё ещё считал «Политические произведения» Достоевского, которые были у него в издании Пипера167, важнейшими из известных ему политических сочинений Новейшего времени. В месяцы перед своим докторским экзаменом Беньямин обычно готовился к нему вместе с Хансом Гейзе, который впоследствии стал одним из отъявленных философов нацизма, а с 1935 года – унификатором «Исследований Канта», приспосабливающим их в качестве инструмента «философского укрепления немецкого народа», и с которым мы сидели рядом на семинаре Хербертца. Мы не раз собирались втроём. Гейзе был тогда приятным и вежливым человеком; как тяжело раненного его выменяли в Швейцарию. Он говорил мне, что мало кто в жизни произвёл на него столь глубокое впечатление, как Беньямин.
В начале февраля приехала Эльза Бурхардт, позднее ставшая моей первой женой, и я познакомил её с Вальтером и Дорой, которые быстро с ней подружились. Она была необыкновенно спокойным человеком, но имела решительные взгляды, и как раз это сочетание очень понравилось обоим. В те два месяца был заложен фундамент последующей дружбы между ней и ними. После её отъезда в начале апреля я поехал на 10 дней в Локарно, а по возвращении, после Песаха, – в Цюрих, где Беньямин в свойственной ему манере косвенно посоветовал мне встретиться с двадцатилетним молодым человеком из круга, к которому он раньше был близок. «А не позвонить ли Вам Гине Каро, коль Вы будете в Цюрихе, и не передать ли от меня привет?». На что я спросил: «Вы полагаете, с ним стоит познакомиться?». – «Почему бы нет?». Каро обычно называли Гине, так как он отличался особенно малым ростом168. Так я завёл странное знакомство. Вскоре после моего возвращения в Берн у Беньяминов произошёл жуткий инцидент с Вольфом Хейнле, после которого тот в два дня собрался и уехал в Германию. Дора сказала мне, что всё ужасно, и, может быть, когда-нибудь она сможет рассказать мне, чтó её так расстроило. Вид её был соответствующий. Но впоследствии речь об этом так и не зашла, а отношения Хейнле с Беньямином, который всех своих знакомых мобилизовал ему на помощь, когда тот заболел и впал в тяжёлую материальную нужду, продолжались до самой его ранней смерти в 1922 году. По сравнению с глубокой меланхолией Хейнле, в которой я смог убедиться при наших встречах, Беньямин был почти сангвиником. Такие обнадёживания на объяснение когда-нибудь потом были свойственны и Вальтеру. Так, однажды он мне сказал, когда речь зашла о Симоне Гутмане и его разрушительном влиянии на него и на Дору во времена «Молодёжного движения»: «Когда мы с Вами состаримся, я Вам расскажу кое-что о Симоне Гутмане», – но до этого дело так и не дошло. В наш швейцарский период мы читали «Факел» Карла Крауса169 почти регулярно. Когда именно Беньямин начал заниматься Краусом, я уже не помню; по-моему, это произошло примерно в 1916 году под влиянием безграничного энтузиазма Вернера Крафта. Самое раннее в 1919 году у нас было немало разговоров о Краусе, его прозе и его «Словах в стихах»170, первые тома которых вышли как раз тогда. Впоследствии нас восхитила его пародия на Верфеля с насмешкой над экспрессионизмом, во время революции захлестнувшим самого себя, «Литература, или Там будет видно»171; непревзойдённые диалоги Крауса могли вызвать приступы удушья от смеха. Когда я в одной беседе о Мюнхенской Советской республике рассказал Беньямину о стремлениях реформировать прессу, призвав для этого Карла Крауса, Беньямин сказал: «Карла Крауса следовало предпочесть, так как у него была только одна позиция: “Écrasez l’infâme!”172».
В начале 1919 года по предложению Бубера я перевёл с древнееврейского большую статью Хаима Нахмана Бялика о двух определяющих талмудическую словесность категориях, «Галаха и аггада173»174. Когда эта работа вышла в апреле 1919 года в журнале «Еврей», она также произвела длительное впечатление и на Беньямина, и её влияние ощущается в немалом количестве его произведений. Беньямин назвал её «совершенно необычайной» – да таковой она и была! Я прочёл ему также свой (неопубликованный) перевод полемики, которую против этой статьи опубликовал выдающийся писатель Й.Х. Бреннер. Однако Беньямин был гораздо сильнее захвачен колоссальными планами Бялика. Я делал тогда переводы средневековой религиозной лирики, которые читал Беньямину вслух, он и склонил меня к опубликованию некоторых из них. Особенно он был захвачен – в связи с нашими разговорами о плачах и жалобных песнях – переводом знаменитой средневековой песни о сожжении Талмуда в Париже в 1240 году, который я сделал под влиянием переводов Гёльдерлина.
Где-то в середине мая я сообщил Беньямину о своей решимости радикально изменить цель своей учёбы и сосредоточить главные усилия не на математике, а на иудаике. Мне это стало ясно, когда я записал, что «на самом деле моя цель – не математика, а стать иудейским учёным, всерьёз заниматься исключительно иудаизмом, причём даже тогда многое зависит от ценности конкретной работы. Моя страсть – философия и иудаизм, да и филология мне может весьма пригодиться». Я сказал Беньямину, что попытаюсь завершить изучение математики – что я и сделал (чтобы затем при случае зарабатывать себе на хлеб учителем математики в какой-нибудь израильской школе), а докторскую диссертацию хочу защитить в области иудаики. В те месяцы я принял решение с головой уйти в изучение каббалистической литературы и написать диссертацию о языковой теории каббалы. Уже давно по этой теме у меня были смелые мысли, которые я хотел подтвердить или опровергнуть в этой работе. Связь философии, мистики и филологии в теме иудаики обострила все мои стремления. Беньямин воспринял эту решимость с воодушевлением. При начавшемся тогда падении немецкой валюты мы оба уже не могли рассчитывать на то, что сможем долго оставаться в Швейцарии. Поэтому я раздумывал – поехать ли осенью в Гёттинген для завершения изучения математики, или в Мюнхен для новых исследований: в Мюнхене хранилось наиболее полное собрание каббалистических рукописей в Германии. Ещё в Швейцарии решение выпало на Мюнхен, где тогда училась и Эльза Бурхардт.
В мае 1919 года я пошёл на философский доклад чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера и пожаловался Беньямину на полную бессодержательность выступления. Он посмотрел на меня большими глазами и сказал: «Чего Вы от него хотите? Если бы он что– нибудь сказал, он бы больше не был чемпионом мира по шахматам».
20 июня Беньямин отправил меня на устный докторский экзамен Гейзе, оказавшийся чистым фарсом. Поэтому я смог успокоить Беньямина, который, как я себе пометил, испытывал «прямо-таки неприличный страх» перед этим экзаменом. В эти месяцы всё напряжение, что было когда-то в наших отношениях, постепенно и окончательно исчезло. 27 июня за собственный экзамен Беньямин получил «summa cum laude»175, и мы отметили это вечером. Однако мне он не позволил явиться на его экзамен. Он рассказывал, что Хербертц, Хеберлин и Майнц проявили чрезвычайную гуманность и даже были восхищены. Дора расшалилась и радовалась, как ребёнок, и все мы рассказывали друг другу бессмысленно-многозначительные истории из Паппельспраппа – так называлось выдуманное Дорой место. Во время подготовки Беньямина к экзамену 31 мая и 1 июня мы с ним совершили прогулку из Биля в Невшатель176, сопровождаемую долгими разговорами. Мы спорили о том, одинаковый ли у нас образ жизни: он считал это несомненным, а я отрицал. Мы говорили о политике и социализме, относительно которого у нас были большие опасения, как и относительно положения человека при его возможном установлении. Мы по-прежнему приходили к теократическому анархизму как к наиболее осмысленной реакции на политику. Я тогда написал длинную критическую статью в еврейский журнал палестинских «народных социалистов» (на иврите этот журнал назывался «Молодой рабочий» – ha-po’el ha-za’ir), где высказал смутные предчувствия о судьбе духовного человека при социализме. «Духовного человека при таком строе можно было бы воспринимать лишь как сумасшедшего», – эту фразу из моего дневника от 29 июня 1919 года я перечитываю спустя 55 лет с глубоким содроганием.
В отеле в Биле, где мы ночевали, у нас произошёл разговор о воззрении. Я записал себе определение Беньямина, которое он вынес на дискуссию: «Предметом воззрения служит необходимость сделать воспринимаемым то содержание, о котором чувство лишь смутно догадывается. Слышание этой необходимости называется воззрением». Он не придал значения моему протесту против этого «теологического» переноса воззрения в сферу акустики. Как раз в этом-то и проблема – утверждал Беньямин: сферы нельзя разделять, и не существует чистого воззрения, которое не было бы слышанием, восприятием – правда, не голоса, а необходимости.
К непонятному мне скрытничанью Беньямина относилось и то, что он шесть недель настаивал на том, чтобы скрывать от всех факт защиты своей диссертации. Должно быть, он столкнулся с колебаниями родителей в части финансовой помощи сыну. Его позиция в ту пору была очень двойственной: между необходимостью любой ценой зарабатывать и приват-доцентурой. 1 июля Вальтер и Дора поехали на каникулы в Изельтвальд на озере Бриенц, где оставались до конца августа. Я посетил их там 22 июля, и мы «задним числом» отметили день его рождения и полюбовались подарками Доры. В тот день, задумавшись о самом себе, я записал, очевидно, имея в виду Беньямина: «Мой талант состоит в интерпретации таких людей, которые ей поддаются». В качестве подарка я послал ему новое издание «Немецкого преступного мира» Аве-Лальмана177, где подробно рассматривались отношения еврейских и немецких низов: табуированная еврейской историографией тема, которая начала меня сильно привлекать как дополнительная к еврейскому «верхнему миру» мистики. «Жулики как народ Божий – вот было бы движение», – записал я тогда.
Родители Беньямина неожиданно нагрянули в августе в Изельтвальд примерно на три недели, и мой запланированный дальнейший визит сорвался. Там начались с тех пор непрекращавшиеся, жёсткие и временами горькие стычки по денежным вопросам и по ожидавшему Беньямина будущему, которые в следующие годы пронизывали его жизнь и сформировали очень щепетильные отношения с родителями, чтобы не сказать – почти разрушенные. Но перед моим отъездом из Швейцарии Беньямин приехал ко мне в конце августа в Лунгерн-на-Брюниге178 на два дня, привезя с собой свою статью «Аналогия и родство»179. У нас в очередной раз были длинные разговоры о наших планах. После защиты докторской диссертации он посетил Хербертца в Туне и поставил вопрос о возможной габилитации в Берне, к которой Хербертц проявил интерес, правда, хотел ещё подумать над этим.
Из моих последних посещений Берна припоминаю ещё две вещи. Беньямин тогда начал читать – пожалуй, в ходе своих разговоров с Баллем и Блохом – Réflexions sur la violence Сореля180, которыми он заразил и меня. Его потом долго занимала дискуссия с Сорелем. На письменном столе у Беньямина лежал также «Бросок игральных костей» Маллармe181 в особом издании ин– кварто, графическое оформление которого, пожалуй, соответствовало броску игральных костей из заглавия. Слова, написанные шрифтами разного размера, перекатывались по строчкам, варьируя чёрный и белый цвета (по-моему, ещё и красный). Вид всего этого был в высшей степени удивительным, и Беньямин объявил мне, что он тоже не понимает текста. В моей неразумной душе остался лишь наглядный образ какого-то преддадаистического продукта.

Гершом Шолем. 1920-е гг.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































