Текст книги "Вальтер Беньямин – история одной дружбы"
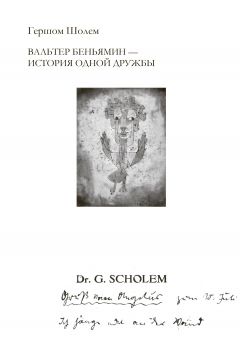
Автор книги: Гершом Шолем
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1920–1923)
После моего возвращения в Германию прошло три месяца, прежде чем я вновь услышал о Беньямине. Я к тому времени начал учиться в Мюнхене, набросившись на каббалистические сочинения в государственной библиотеке. Ту зиму Агнон тоже провёл в Мюнхене, и мы часто встречались. 15 сентября Беньямин написал мне из Клостерса182 в Берлин: «Я стесняюсь – из-за нескончаемых невзгод и неопределённости перспектив – открыть переписку с Вами этой записочкой, но хотел бы Вам её предложить… Завтра мы отсюда уезжаем. Прежде чем покинуть Швейцарию, мы хотим ещё несколько недель провести в Лугано183. Надеюсь, Дора там, наконец, обретёт радость и новые силы. Никто не должен об этом знать. Пишу это Вам лишь потому, что мне было бы ещё труднее утаивать от Вас наше местонахождение, чем вновь просить Вас сохранять его в тайне, к чему меня вынуждают мои теперешние жизненные обстоятельства. Ну и довольно. Мы очень рады этой поездке: из Тузиса через СенБернарден до Мезокко184 почтовой машиной, а оттуда поездом в Лугано. Вчера и позавчера здесь шёл снег и было всего несколько градусов выше нуля. Сегодня выглянуло солнце, и вершины сияют под снегом185. Дора здесь неплохо дебютировала с детективным романом. Вот уже несколько недель я интенсивно читаю книгу Блоха и, вероятно, выскажу в печати, чтó в ней есть похвального. К сожалению, одобрить можно не всё. И к тому же, иногда меня охватывает нетерпение. А сам он эту книгу, конечно, уже перерос» [B. I. S. 217. Центральная часть письма до сих пор не опубликована].
Они выехали в начале ноября. Перед этим Беньямин ещё раз посетил Хербертца, который открывал перед ним уверенные перспективы на габилитацию, а при случае мог даже сделать экстраординарным профессором философии. «Мои родители очень рады и ничего не имеют против габилитации у Хербертца, – писал он мне 16 ноября, – но ещё не могут связывать себя в финансовом отношении. Ближайшее, что я замыслил, это габилитация – вероятно, по теме из теории познания. К подготовке этой работы я и хочу здесь приступить186». Тем временем Вальтер совершил краткий визит к тестю с тёщей в Вену и – приблизительно с 9 ноября 1919 года до середины февраля 1920 года (с перерывами на Вену) – жил с Дорой в Земмеринге187, в санатории, принадлежавшем тётке Доры. В начале марта они вернулись из Вены в Берлин, и у нас возобновилась оживлённая переписка.
Наши отношения после возвращения в Германию складывались гармонично, и до напряжения швейцарского периода дело больше никогда не доходило. То ли пространственная дистанция спасала от столкновений восходящую кривую нашей дружбы, и гораздо более редкие дни личного общения проходили позитивно? Или – как мне иногда кажется при взгляде назад, – три человека, крайне зависимых исключительно друг от друга, страстных и одарённых, должны были на пути к зрелости обломать себе рога именно в сфере частной жизни? А может, в этом скрытом от нас «треугольнике» были бессознательные влечения и способы защиты, которым надо было разрядиться и которых мы, в своей «наивности», т. е. из-за нехватки душевного опыта, не смогли распознать? Я бы и сегодня не смог ответить на эти вопросы.
В январе 1920 года Беньямин написал мне, что работает над подробной рецензией на книгу Блоха. У меня сохранился ответ на это письмо (от 5 февраля):
«В эти дни я читал большие куски из “Духа утопии” Блоха. Я многого ожидаю от Вашей рецензии и надеюсь, что она прояснит для меня хорошее в этой книге. Не сомневаюсь, что оно имеется, но признаю´сь, что усматриваю в ней кое-что весьма сомнительное. Поскольку ошибки этой книги Вы хотите разбирать лишь эзотерически, я, вероятно, открыто предъявлю свой иск, чтобы мы убедились – одинаково ли мы о ней думаем. В дальнейшем я буду говорить о разделах “О евреях” и “Об облике вопроса, который невозможно построить” – их, если я понял Блоха или насколько я его понял, я решительно отвергаю. У меня сложилось впечатление, что Блох здесь самым злостным образом и негодными средствами переходит границу, вторгаясь в ту область, которую в этой книге следовало бы лимитировать. Жестом мага (и, увы, я знаю истоки этой магии!) он достаёт высказывания об историях еврейства, всё это несёт на себе ужасное клеймо Праги [у меня это ассоциируется с Бубером] – ничто не помогает, даже терминология пражская. Не существует того еврейского поколения, которое придумал Блох; оно существует только в духовном царстве Праги. Нельзя пользоваться таким историко-философским методом, в котором призываются свидетели и свидетельства в пользу не только [иудейской] демонии и демонологии, но и живого, ясного и тёмного средоточия вещей (и здесь сам автор – свидетель, который выражается более подчёркнуто) – и свидетельства эти происходят из сферы немецкого еврейства и еврейского германства и доказывают только эту изначальную для себя сферу. Здесь снова и снова то самое онтологическое доказательство бытия дьявола, которое удаётся только здесь. Блох, кажется, явно пренебрегает филологией, однако то, что он это делает, нисколько не пытаясь в своих историко-философских рассмотрениях соответствовать её требованиям (отбраковка источников!!!), весьма опасно. И ещё опаснее то, что он полагает, будто имеет право, преследуя свои цели, обходиться без филологии и без разбора перемешивать свидетельства. В почти великолепной бессвязности иудейские категории попадают в совершенно не приличествующую им дискуссию, в результате чего возникает столько же недоразумений, сколько и порождается непонимания: Kiddusch haschem188 (в его в высшей степени жалком, взятом из “Книги об иудаизме” неправильном толковании); Имя или Имена Бога, не говоря уже о других вещах. Однако всё это – разумеется, лишь влияния центральной христологии, которая нам тут подсовывается. Считать Тело Христово в каком бы то ни было смысле субстанцией нашей истории – это для меня невозможно, и я напрасно ищу достоверные свидетельства, которые говорят в пользу исчезновения “дедовской робости” перед основателем христианства в иудаизме, если отвлечься от свидетельств из промежуточных, “гермафродитских” сфер189, где это, пожалуй, правомерно. Выводам Блоха, чем бы они ни обладали, недостаёт в этих частях самого значительного – справедливости. Всё виртуально смещено, и действительно: эти виртуальные сдвиги в недрах еврейской истории постоянно показывают, и это старая песня, христианское начало как её неустойчивое состояние нейтралитета. Есть ужасная механическая закономерность во всех историко-философских извращениях, и я был бы рад обмануться и быть опровергнутым в моих опасениях, что эти извращения вовсю развиваются и в этой книге. Возможно, всё, что я здесь пишу, кажется Вам само собой разумеющимся или располагается где– то на дальней периферии; тогда тем лучше. Но я не могу радоваться намерению рассмотреть большой предмет, если он даётся в такой сомнительной догадке. Конечно, мир Блоха не поставлен с ног на голову, но есть признаки того, что он является мнимым, и это та мнимость, которая отдалена от действительности лишь на некий дифференциал (и здесь эта мнимость возникла, кажется, не в языке). Эта неуловимость дистанции и есть – если можно так сказать – моё моральное возражение на то, что я узнаю´ из этой книги».
Ответ Беньямина, в котором он выражает полное понимание моей критики, напечатан [B. I. S. 234 и далее].
После «полного разрыва» с родителями Беньямина Вальтер и Дора, которые уже в начале апреля собирались переселиться в окрестности Мюнхена, из-за тяжёлых обстоятельств перебрались в Грюнау-Фалькенберг под Берлином, где они жили у Эриха Гуткинда в невероятно ярком домике, построенном Бруно Таутом. Там Беньямин впервые попытался изучать древнееврейский у Гуткинда, который некогда был моим учеником, хотя Дора, только что устроившаяся в какое-то телеграфное агентство переводчицей с английского, не смогла в этом участвовать так, как хотела. Она попросила у меня еврейскую азбуку, аналогичную той, которую Вальтер получил от Гуткинда, – чтобы тайком её изучить и ошеломить Беньямина ко дню рождения своими знаниями. Она утверждала, что Вальтер уже шутит на древнееврейский лад и охарактеризовал наиболее влиятельного деятеля в колонии Фалькенберг190, её основателя Адольфа Отто как Melech Hagojim (царь гоев). Они оставались там, по меньшей мере, три месяца, в продолжение которых родители Доры приезжали в Берлин, чтобы общаться с ними. Тогда Беньямин с Дорой завели личное знакомство с Агноном. На день рождения Вальтера Дора ещё весной приобрела картину Пауля Клее «Совершение чуда», которая с тех пор висела у него в комнате, хотя я не помню, как выглядит эта картина. Чтобы зарабатывать деньги, Беньямин обратился даже к графологии, к которой у него были способности. В Берне я как-то показал ему письмо ближайшего друга моей сионистской юности, о характере которого имел полное, как мне казалось, представление. Беньямин смотрел на письмо недолго, но пристально и сказал с заметным волнением: «Идиотская честность», а больше не хотел ничего сказать, как будто этот тип его особенно разозлил. Честность и впрямь была тем, что излучал этот человек.
В том же году Вальтер и Дора возобновили личный контакт с Эрнстом Шёном, школьным товарищем Беньямина, который был учеником Дебюсси, – и в конце лета, когда я приехал в Берлин, они познакомили с Шёном и меня. Природное благородство, проявлявшееся в его сдержанности, с самого начала произвело на меня глубокое впечатление, а его заикание только усилило это воздействие. Он был единственным из школьных товарищей Беньямина, кто остался с ним в дружбе, и иногда рассказывал мне об их жизни между 1910-м и 1915-м годами.
После фиаско с Эрихом Брауэром я свёл с Беньямином лишь одного своего друга, Густава Штейншнейдера. Когда я служил в Алленштейне, он был со мной в одной роте, и его судьба меня весьма заботила. Беньямин был очарован этим весьма примечательным человеком. Ситуация Штейншнейдера была очень похожа на мою в том, что касалось отношений с братьями. Его старший брат был коммунистом, другой – решительным сионистом и одним из первых палестинских поселенцев из Германии; сам же он колебался между двумя лагерями, впрочем, очень спокойно и рассудительно. Беньямин сразу нашёл с ним общий язык. Особенно Густав нравился Доре, и они часто приглашали его в гости. В нём было что-то от природного благородства и музыкальности друга Беньямина Эрнста Шёна, правда, Штейншнейдер был совершенно не от мира сего, не способный сделать ничего «практического». Он говорил очень медленно, мелодически растягивая слова, был склонен к ипохондрии, а его узкое, немного усталое лицо выдавало потенциального философа. Меня восхищал в нём контраст по отношению к его деду, Морицу Штейншнейдеру, одному из крупнейших иудаистов прошлого столетия. Во многих отношениях я был большим почитателем этого человека и часто в то время рассказывал Беньямину о нём как об одной из наиболее значительных фигур в группе учёных ликвидаторов еврейства, так как по своей учёбе читал его труды. Тогда я много думал о самоубийстве еврейства, осуществлявшемся так называемой «наукой о еврействе», и планировал написать статью на эту тему в журнале Беньямина Angelus Novus191.
В том же году я думал, что поворот Беньямина к интенсивным занятиям еврейством уже близок. Но мне были понятны и препятствия, которые этому мешали, и я заклинал его в письмах не терять даром благоприятное и удобное время [B. I. S. 248 и далее]. Тем временем Вальтер с Дорой – уж не знаю, при каких обстоятельствах – снова переехали в Груневальд в дом её родителей. Дора играла ему на фортепьяно Моцарта, Шуберта и Бетховена. В письме, написанном в феврале 1921 года, она очень искренне писала мне: «Не отворачивайтесь от нас. От всей души я надеюсь, что мы раньше, чем думаем, объединимся в иудейских делах. Всё, чем я занимаюсь, сводится единственно к борьбе за средства». Но всё время другие труды Беньямина и в этот период наибольшего приближения препятствовали входу в мир иудейства. Для этого времени характерен краткий фрагмент, который Адорно опубликовал под не принадлежащим Беньямину заглавием «Теолого-политический фрагмент» и ошибочно датировал 1938 годом192. На этих двух страницах всё соответствует ходу его мыслей и его специфической терминологии, характерной для 1920–1921 годов.
4 ноября 1920 года Беньямин написал мне о своих стараниях раздобыть для меня сочинения Шеербарта, по которым я скучал. В университете он записался на курс древнееврейского. «Здесь учатся по грамматике Штрака. Доцент, пожалуй, хуже чем посредственный во всех отношениях, кроме, возможно, педагогического. Здесь всего человек 15. Завтра я смогу воспользоваться библиотекой семинара, чтобы попроситься в семинар Трёльча по философии истории Зиммеля. Я предпочитаю его семинару Эрдмана по психологии мышления и семинару Риля по Платону по многим причинам, среди которых сам господин Трёльч занимает лишь последнее место».
Мы увиделись в том же году в октябре и на рождественских каникулах, когда я был в Берлине. В этих встречах Беньямин относился ко мне с величайшей теплотой и открытым сердцем. Он страдал от того, что согласие и собственные намерения заняться древнееврейским не осуществились сразу, с первого «налёта». Но реагировал на это без чрезмерной раздражительности, а, скорее, с особенной решимостью. В тот год он приобрёл у еврейских антикваров в Берлине огромное количество книг по иудаизму, намереваясь заняться запланированным изучением. Я рассказал ему об изменении своей диссертационной темы по каббале и о прочтении каббалистических сочинений по мистике языка, особенно – трудов Авраама Абулафии, которые побудили меня избрать, как мне казалось, менее претенциозную тему, нежели «языковая теория каббалы». Насколько сильно я ошибся, явствует из того, что задуманное введение к древнему тексту, который я тогда по рукописям переводил на немецкий и комментировал, я смог осуществить лишь сорок лет спустя. Поскольку интерес Беньямина к философии языка интенсивно занимал его в связи с запланированной габилитационной диссертацией, а также сыграл роль при возобновлении его личных отношений с языковедом Эрнстом Леви, которого он неизменно ценил, – мои сообщения из этой области оказались для него прямо-таки бесценными.
После возвращения в Германию Беньямин по– прежнему жил в полном уединении, хотя и начал вновь показываться в кругу старых и новых знакомых. За несколько лет он не опубликовал ни строчки и только в 1920–1921 годах сделал первые шаги, стремясь выйти из этой литературной неизвестности.
1921 год оказался поворотным пунктом в жизни Беньямина. Напечатанные письма не в полной мере отражают важность этого периода, хотя и дают некотое представление об интенсивности его интеллектуальной жизни. Через свою подругу Юлу Кон он познакомился с поэтом Эрнстом Блассом, который издавал журнал «Аргонавты»193, и благодаря этому завязал отношения также с издателем журнала Рихардом Вейсбахом, который интересовался изданием перевода Беньямина из Бодлера. Тогда началась оживлённая переписка между Беньямином и Вейсбахом относительно этого предприятия, но письма Беньямина к Вейсбаху обнаружились после опубликования «Писем». В ту пору он написал статью «К критике насилия»194, которой открылся ряд его «политических» работ и где – в споре с Сорелем – звучат все те мотивы, что волновали его в швейцарский период: его идеи о мифе, религии, праве и политике. Но «Белые листки», для которых он это написал, не хотели принимать статью, и она вышла в 1921 году в социологическом журнале, среди публикаций которого работа Беньямина производила весьма чужеродное впечатление. Он также старался пристроить свою рецензию на книгу Блоха; мне он прислал копию этой рецензии. В конечном счёте, пристроить её не удалось, и это, возможно, связано с тем, что довольно длинная статья была выдержана в таком эзотерическом изложении, что собственная позиция критика, которая была важна для редакторов, оставалась, можно сказать, скрытой.
Вернувшись в Мюнхен, я пошёл на доклад Рудольфа Касснера, который мне было очень интересно послушать, а именно его рассуждения о физиогномике. В резких выражениях я пожаловался Беньямину на то, что я назвал «неконтролируемым глубокомыслием» Касснера – а Беньямин в своём ответе ещё перещеголял это определение, написав о «непомерной лживости» касснеровских писаний. В это же время я начал также впервые задумываться о филологической стороне изучения мистических идей и текстов – как о позитивном, так и о проблематичном в ней – и написал на эту тему длинное письмо Беньямину. К моему изумлению, я узнал из его ответа, что и он уже давно задумывался над этими вещами, хотя и не был филологом.

Стефан и Дора Беньямины. Февраль, 1921 г.
Архив Академии искусств, Берлин
В апреле 1921 года распад брака Вальтера и Доры стал очевидным – с чем я и столкнулся, посетив их. Между июнем 1919-го и апрелем 1921 года я ничего не знал об их ситуации и о том, как далеко зашёл разлад в их отношениях. Только когда разрыв был уже позади, я узнал об этом от Доры. Когда Эрнст Шён в первые месяцы 1921 года возобновил дружеские отношения с Вальтером и Дорой, Дора страстно влюбилась в него и несколько месяцев пребывала в эйфории. Она откровенно говорила об этом и с Вальтером. В апреле в Берлин приехала Юла Кон, сестра друга его юности Альфреда Кона, с которой Вальтер и Дора подружились – не знаю, насколько тесно – ещё в «Молодёжном движении», до их отъезда в Швейцарию; Вальтер увидел её впервые за пять лет. Вспыхнуло страстное влечение к ней, и она, пожалуй, тоже некоторое время была в смятении, пока не уяснила, что не может остановить на нём свой выбор. Возникла ситуация, похожая на описанную у Гёте в «Избирательном сродстве»195. Когда я приехал в Берлин, Вальтер с Дорой посвятили меня в их ситуацию и попросили меня как друга дать им совет и помочь в положении, когда каждый подумывал о браке с другим партнёром. Ни один из браков не состоялся, однако с этим кризисом распад семьи Беньямина вступил в острую стадию. Лето оказалось временем высокого напряжения и больших ожиданий. Оба были убеждены, что, наконец, испытали большую любовь. Начавшийся здесь процесс длился два года, и временами Вальтер с Дорой возобновляли супружеские отношения – пока эти отношения окончательно не превратились в 1923 году в дружественное совместное проживание, прежде всего, ради Стефана, в воспитании которого Вальтер принимал существенное участие, но ещё и по финансовым соображениям. В последующие годы до их развода всё так и оставалось, разве что Вальтер надолго уезжал или снимал отдельную комнату. С тех пор каждый шёл своим путём, хотя они и рассказывали друг другу обо всём, что их волновало.
В критические месяцы начала разрыва оба – насколько я мог судить как очевидец – сохраняли трогательные и нежные дружеские отношения. Никогда они не были так предупредительны друг к другу, как в те апрельские дни и весь следующий год. Каждый боялся обидеть другого, и демон, временами вселявшийся в Вальтера, проявляясь в деспотизме и требовательности, казалось, совсем его оставил. Мои тогдашние встречи с ними и Эрнстом Шёном – Дора приезжала с ним на несколько дней в Мюнхен во время поездки в Брейтенштейн, курортное местечко Земмеринга – были лучшими, какие я помню. Дора ещё сильно тяготела к Вальтеру, но говорила о нём каким-то новым тоном. Не то чтобы она сомневалась в его одарённости, в его гении, которые столь много значили для неё, но начала говорить о таких чертах, которые прежде никогда не затрагивались, в том числе и о своих переживаниях в браке. К моему изумлению – ведь оба пользовались психиатрической терминологией с большой сдержанностью – Дора приписывала Вальтеру невроз навязчивых состояний. Я и позднее слышал от неё такое, хотя по своему опыту не мог подтвердить справедливость её слов. Дора, будучи очень чувственной женщиной, сказала, что интеллект Вальтера мешал его эросу. Расставание с его интеллектуальной сферой, к которой она ещё долго была привязанной, далось ей нелегко и привело к полному перевороту в её жизни.
Я впоследствии разговаривал и с другими женщинами, с которыми Беньямин был близко знаком, а одной даже делал в 1932 году брачное предложение196. Все подчёркивали, что Беньямин как мужчина был для них непривлекателен – сколь бы ни впечатляли и даже ни восхищали их его ум и речи. Одна из его знакомых сказала мне, что он для неё и её подруг вообще не существововал как мужчина, им и в голову не приходило, что в нём присутствует и это измерение. «Вальтер был, так сказать, бестелесен». Была ли причиной некая нехватка витальности у Беньямина, как это многим казалось, или скрещение витального – а оно в те годы часто проявлялось – с его совершенно метафизической ориентацией, которая принесла ему славу отрешённого?
В том же году в наших письмах и разговорах начал играть особую роль круг, который сложился тогда вокруг странной фигуры Оскара Гольдберга и который интересовал нас с разных сторон. Если об истоках экспрессионизма и о «Неопатетическом кабаре» можно прочесть немало, то этот кружок окутан тьмой; а ведь он и позднее (после 1925 года) под вывеской «Философская группа» всё ещё выступал в качестве дискуссионного центра по многим живым проблемам философии не меньше, чем в двадцатые годы, особенно перед моим отъездом в Израиль197. К «неопатетикам» принадлежали и Оскар Гольдберг (1887–1951), и Эрих Унгер (1887–1952), которые тогда были ведущие умы в этом кругу. Гольдберг изучал медицину, однако, по-моему, так никогда и не практиковал. Маленький толстый человек с внешностью китайского болванчика, он оказывал колоссальное магнетическое воздействие на часть еврейских интеллектуалов, сгруппировавшихся вокруг него, – лишь на её «обочине» присутствовали два– три нееврея. Один из них, Петер Хухель, говорил мне: «Я был шабес-гоем198 при Гольдберге». Гольдберг, происходивший из благочестивой семьи, был знатоком еврейской Библии и ещё в юные годы пускался в рассуждения, связанные с числовой мистикой, о построении Торы из Имени Божьего. Но главным авторитетом для посвящённых этого круга он стал благодаря видéниям, которые посещали его в шизоидном сумеречном состоянии перед пробуждением, и благодаря откровениям относительно Торы, на которые Гольдберг выдвигал притязания. Он тогда ещё ничего не опубликовал, кроме тонкой брошюры «Пятикнижие Моисеево, числовое строение» (1908)199. Он распространял свои учения посредством частных курсов, и если кого-то из его приверженцев спрашивали, почему он следует тому или иному пункту иудейского ритуала или же нарушает этот пункт, следовал ответ: «Так нам сказал Оскар». Вопросов к Оскару не существовало, так как он был просветлённым обладателем откровения. Не чуждый философскому образованию и интересам, он выстроил из биологических и этнологических категорий – что тогда было в ходу в научном мире – своего рода биологическую каббалу, которая должна была показать ритуал Торы – «Действительность евреев», как гласит название его основного произведения (1925)200 – как некий континуум совершенной магии. В этих мыслях не было ни недостатка в демонических взглядах, ни недооценки чар, исходивших из комментария, который казался эзотерическим и объявлял иудаизм стадией теологического распада магической религии древнего еврейства и при этом не чурался никаких последствий и нелепостей. У Гольдберга дело сводилось к восстановлению магических уз между Богом и его народом, чей биологический центр якобы представлял собой сам Оскар, причём вещи, непригодные к осовремениванию, без рассмотрения отодвигались в сторону. Его формулировкам были присущи необычайная бойкость, самомнение и какой-то люциферический блеск. Вначале он занимался теософией, но вскоре стал самостоятельным, причём пользовался значительным философским дарованием Эриха Унгера, который был его главным рупором и интерпретатором. Уже многократно упомянутый Симон Гутман и Унгер были его ближайшими доверенными лицами. В то время, когда Беньямин возобновил общение с этими людьми, которых знал с юности, я познакомился с некоторыми из приверженцев Гольдберга, и они пытались приобщить меня к этому кругу. Беньямин питал антипатию к Гольдбергу, который обычно мало говорил и был неприкосновенным как глава секты, и однажды даже не смог пожать его руку, протянутую для приветствия. Беньямин говорил мне, что Гольдберг окружён настолько нечистой аурой, что он просто не может её вынести. Унгер же, наоборот, был ему по-человечески приятен и философски очень интересен. Беньямин обратил моё внимание на первые публикации круга Гольдберга и особенно на сочинения Унгера, в которых, среди прочего, выдвигалось требование о «Безгосударственном основании еврейского народа» <Die staatenlose dung einesjüdischen Volkes> метафизическими средствами, в противовес эмпирическому сионизму201, за который боролся кружок Гольдберга. Вальтер и Дора иногда встречались с Унгером, Гольдбергом и другими в Лихтерфельде202, у близкой подруги Доры, Элизабет Рихтер-Габо, которая покровительствовала и кругу Гольдберга.
Я был интересен этим людям не только тем, что имел доступ к древнееврейским истокам, но прежде всего тем, что изучал каббалу, как они слышали от друга моей юности. Каббала там высоко котировалась не столько из-за её религиозных и философских аспектов, подвигших меня к её изучению, сколько из-за её магических импликаций, о которых Гольдберг имел экстравагантные представления. Моё негативное отношение к попыткам втянуть меня в этот круг и к псевдокаббале, которая преподносилась мне от имени Гольдберга, несколько раз приводило Беньямина в замешательство, хотя он и совсем не дорожил Гольдбергом, зато стремился поддерживать связь с Унгером. В последующие годы у нас было много поводов говорить или писать друг другу о публикациях и иной деятельности гольдберговского кружка, пропагандировавшего массовую эмиграцию из Европы к «первобытным», т. е., по Гольдбергу, способным к магии, народам. Отрицание буржуазного мира, в котором они усердствовали, привело их – прежде всего, в их печатных формулировках – к близости к движениям за социальную революцию, тогда как на самом деле речь у них шла о новой теократии, мировым заправилой которой мнил себя Гольдберг.
Живя уже в Иерусалиме, я подружился с Эрнстом Давидом, который финансировал издание главного труда Гольдберга. Это был человек с благородным характером, долго находившийся под обаянием Гольдберга в этом кругу и с трудом расставшийся с ним, нарушив заповеданное Гольдбергом табу на эмиграцию и на участие в сионистском строительстве. От Давида и его жены я много слышал об экзотерических и эзотерических аспектах этой группы. Тогда же, после выхода в свет «Действительности евреев», я написал длинное письмо с критикой этой книги, и Беньямин и Лео Штраус распространили его в Берлине в списках, что не способствовало симпатии ко мне со стороны приверженцев Гольдберга. То, что порыв воображения, свойственный Гольдберговым толкованиям Торы, не только впечатлял, но и восхищал других своими скорее зловещими сторонами, демонстрируют не только труды палеонтолога Эдгара Даке, но и произведения Томаса Манна, метафизические части его романа «Иосиф и его братья» в первом томе, в «Историях Иакова», полностью базируются на книге Гольдберга. Правда, это не помешало Манну несколько лет спустя в специальной главе «Доктора Фаустуса» сделать Гольдберга мишенью своей иронии. Там Гольдберг выведен в образе приват-доцента д-ра Хаима Брейзахера, который в качестве своего рода метафизического сверхнациста – излагает свою магическую расовую теорию по большей части подлинными словами Гольдберга. Интерес к этой – с позволения сказать – иудейской секте Беньямин сохранил вплоть до гитлеровской эпохи.
После описанных событий между Вальтером и Дорой, которые ввели между нами троими дружественное «ты», я вернулся в Мюнхен. Я пытался подвигнуть их к большей ясности не только в чувствах, но и относительно пути, каким они хотели пойти, а прежде всего к пониманию, действительно ли чаяния их жизни будут исполнены после заключения новых браков? Я полагал, что это возможно, но не так уж правдоподобно. С Эрнстом Шёном я уже был знаком, а про Юлу Кон знал тогда лишь то, что мне рассказывал Вальтер об излучаемых ею чарах. Об этих и некоторых других событиях – например, о моей новой встрече с Эрнстом Блохом в Мюнхене – потом мы не встречались до 1968 года – свидетельствует следующее письмо от 26 мая 1921 года:
«Дорогой Герхард,
я искренне и от всей души надеюсь, что твоя неудовлетворённость работой и усталость от жизни остались в прошлом и не так уж зависят от прояснения событий у нас. Ведь здесь до решения ещё далеко, и определённо нельзя сказать даже “когда”. Но вполне возможно, как ты пишешь, что ясность может установиться быстрее, чем мы знаем, во внутреннем измерении – но это не гарантирует того, что – какое бы ни было принято решение – оно окажется окончательным, т. е. выразится во вновь обретённом постоянстве образа жизни. Правда, мы оба, конечно, ни в каком смысле не позволим связать себя цепью потрясений, сомнений и мучений и всё больше стараемся обрести прежний покой. Во всём этом хуже всего то, что я опасаюсь за здоровье Доры, если она не успокоится. Врач определённо диагностировал катар в верхушках лёгких, который, хотя сам по себе и не опасен, но делает необходимым щадящий образ жизни. Внешние симптомы в последнее время отступили, так что Дора уже почти не кашляет, однако это мало о чём говорит. Перед поездкой она ещё раз сходит к врачу. Сможешь ли ты с ней увидеться вскоре или нет, вроде бы пока ещё (или опять-таки) неясно, так как пока Дора не определила свои планы, она ещё не знает, посетит ли тебя по дороге туда или обратно. Это также зависит от Э. Ш. Но я думаю, что теперь ты её всё-таки повидаешь. По крайней мере, я бы хотел, чтобы Дора, независимо от прочих поездок, четыре недели полечилась бы воздушными процедурами в Брейтенштейне. Меня ты этим летом увидишь обязательно. Неясно только – где и когда… Что происходит с моей статьёй о насилии – не понимаю. Экземпляр для тебя я передавал – а Блох её уже знал. Он взял её у тебя почитать ещё раз? Когда он едет в Вену? Я бы хотел увидеть этим летом и его. Не исключено, что я тоже поеду в Австрию, хотя, конечно, не теперь. В самом Гейдельберге [где жила Юла Кон] я буду лишь проездом, во всяком случае, сначала встречусь с Ю. К. в каком-нибудь другом месте, вероятно, в конце июня, а до этого буду находиться здесь у Гуткиндов, а кроме того, съезжу к [Фердинанду] Корсу [другу эпохи “Свободного студенчества”] и к Рангу.
Дело с С. Фишером, очень пронырливым, но пугливым господином, зашло в тупик и зависит от того, в какой степени вмешается мой покровитель [Мориц Гейман или Рудольф Кайзер?]. А о том, каким сложным механизмом надувательства это опять-таки определяется, ты знаешь. Темп, слава Богу, значительно замедлился. При моём посещении Фишера я произвёл неплохое впечатление, везенье было мне в помощь.
К моей большой радости и облегчению, в эти дни я смог написать предисловие к Бодлеру, “Задача переводчика”203. Оно полностью готово, но пока не знаю, как я смогу его размножить».
Вскоре после этого Беньямин и сам приехал в Мюнхен проездом к Доре в Земмеринг. Тогда же он купил за 1000 марок (14 долларов!) акварель Клее Angelus Novus. В своей статье «Вальтер Беньямин и его ангел»204 я рассказал об этом подробно, пристальнее рассмотрев его интимное отношение к этой картине. В конце июня он ещё раз вернулся в Мюнхен и жил в квартире, которую я делил со своей будущей женой, Эльзой Бурхардт (друзья называли её Эша); некоторое время там висела и картина Клее. Я тогда работал над подробной рецензией на мистическую лирику евреев; этой теме была посвящена развращённая экспрессионизмом книга Меера Винера (который сам по себе был выдающимся гебраистом) «Лирика каббалы», и я мобилизовал весь мой полемический задор205. Я рассказал Беньямину, чтó Талмуд и мистики той эпохи говорили о гимнах ангелам, и сведения эти упали в Беньямине на очень плодородную почву. В те дни он был в превосходном настроении и состязался с Эшей в шутливо-иронических диалогах. Вальтер рассказал о встречах с Соломоном Фридлендером, который, как и он сам, был чужд кругу Гольдберга и относился к его завсегдатаям с философским цинизмом: впоследствии по этическим воззрениям Фридлендер стал строгим кантианцем. Беньямин сделал мне подарок: философский opus magnum Фридлендера «Творческая индифферентность»206, о котором он был высокого мнения. А я тогда рассказал Беньямину о значительном религиозно-философском труде Франца Розенцвейга «Звезда искупления», вышедшем в 1920 году и начавшем меня занимать207. В связи с моими публикациями в журнале «Еврей» я сказал, что Вальтеру не осталось ничего, кроме как подписаться на этот журнал, и мы послали заявление на подписку для него.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































