Читать книгу "Если я останусь"
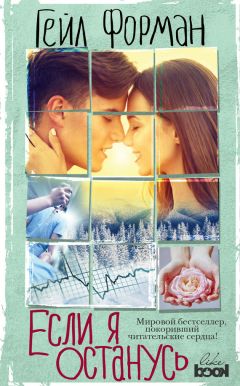
Автор книги: Гейл Форман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Гейл Форман
Если я останусь
Нику
Наконец-то…
Навсегда
© А. Олефир, перевод на русский язык, 2012
© ООО «Издательство «Эксмо», 2012
07:09
Все думают, что это случилось из-за снега. В каком-то смысле, наверное, так и есть.
Я проснулась утром, а газон перед нашим домом укрыт легким белым покрывалом. Оно лишь сантиметра три толщиной, но в этой части Орегона все, как правило, замирает, едва посыплет даже легкий снежок, потому что на всю округу один-единственный снегоочиститель и тот трудится на расчистке дорог. Здесь у нас с неба обычно падает мокрая – кап-кап-кап, – а не замороженная вода.
В общем, снега достаточно, чтобы не идти в школу. Мой младший брат Тедди издает боевой клич, когда мамино утреннее радио объявляет об отмене занятий.
– День снега! – вопит братишка. – Пап, пойдем лепить снеговика.
Папа улыбается и постукивает по трубке. Он начал курить ее недавно, когда вдруг увлекся этим старым сериалом «Папе видней», популярным в пятидесятые годы. Еще он носит галстуки-бабочки. Я никак не могу понять – то ли его новый образ – это верх элегантности, то ли папа просто насмехается и таким способом сообщает, что когда-то был панком, а теперь учит детей в средней школе, то ли учительство и в самом деле превратило его в завзятого консерватора. Но запах трубочного табака мне нравится: он сладковатый и дымный – и напоминает о зиме и дровяных печах.
– Ты, конечно, можешь предпринять героическую попытку, – отвечает Тедди папа. – Но вряд ли на дорожках хоть что-то залежалось. Пожалуй, сейчас у тебя лучше получится снежная амеба.
Я знаю, папа счастлив. Жалких три сантиметра снега означают, что все школы округа закрыты, включая мою старшую и среднюю, где преподает папа, – так что для него это тоже неожиданный выходной. Мама, работающая в туристическом агентстве нашего городка, выключает радио и наливает себе вторую чашку кофе.
– Ну, раз вы все сегодня бездельничаете, то я уж точно не поеду работать. Это просто несправедливо. – Она берет телефон и звонит на работу; закончив разговор, смотрит на нас: – Мне что, теперь завтрак готовить?
Мы с папой хором хохочем: мама «готовит» кукурузные хлопья и тосты. Повар у нас папа.
Притворяясь, что не слышит нашего хохота, она достает из шкафчика коробку «Бисквика»[1]1
«Бисквик» – кулинарная смесь для выпечки. (Здесь и далее примечания переводчика.)
[Закрыть].
– Ну ладно, вряд ли это так сложно. Кто хочет оладий?
– Я, я хочу! – подпрыгивает Тедди. – А можно с шоколадной стружкой?
– Не вижу препятствий, – отвечает мама.
– Ура-а! – вопит Тедди, размахивая руками.
– Что-то у тебя многовато энергии для столь раннего утра, – поддразниваю я и поворачиваюсь к маме: – Пожалуй, тебе не стоит позволять Тедди пить так много кофе.
– Я уже давно завариваю ему без кофеина, – парирует мама. – Он просто буен от природы.
– Главное – мне не заваривай без кофеина, – сдаюсь я.
– Ну, это уже было бы насилие над ребенком, – замечает папа.
Мама вручает мне дымящуюся кружку и газету.
– Там отличная фотография твоего красавчика.
– Правда? Неужели фотография?
– Ага. Кажется, с лета мы большего и не видели. – Мама поднимает брови и смотрит на меня искоса – так она «заглядывает в душу».
– Это да, – отвечаю я, невольно вздыхая.
«Звездопад», так называется группа Адама, быстро набирает популярность, и это прекрасно по большей части.
– Ах, слава молодым не впрок, – изрекает папа, но при этом улыбается. Я знаю, он очень рад за Адама. Даже горд.
Я пролистываю газету до календарного раздела. Там маленькая информационная врезка о «Звездопаде» с еще меньшей фотографией всей четверки, а рядом большая статья про «Бикини» и огромный снимок их вокалистки, панк-рок-дивы Брук Веги. О ребятах сказано только, что «местная группа “Звездопад” выступит на разогреве у “Бикини” на портлендском отрезке гастрольного тура звезд панк-рока по стране». В статье не упоминаются куда более важные для меня новости: вчера вечером «Звездопад» был хедлайнером в одном из клубов Сиэтла и, судя по эсэмэске, которую Адам прислал мне в полночь, собрал полный зал.
– Едешь сегодня? – спрашивает папа.
– Собиралась. Если весь штат не парализует из-за снега.
– И в самом деле, ведь надвигается метель. – Папа указывает на одинокую снежинку, неторопливо плывущую к земле.
– Еще я, кажется, буду репетировать с каким-то пианистом из университета, его профессор Кристи где-то откопала.
Профессор Кристи, университетская преподавательница музыки на пенсии, у которой я занимаюсь последние несколько лет, все время ищет новые жертвы – с кем я могла бы сыграть. «Держи себя в форме, и ты еще покажешь всем этим снобам из Джульярда[2]2
Джульярд – престижная консерватория в Нью-Йорке.
[Закрыть], что значит настоящее исполнение», – говорит она.
Я еще не поступила в Джульярд, но прослушивание прошло чрезвычайно удачно. И баховская сюита, и Шостакович лились из меня так, как никогда прежде, – будто мои пальцы стали живым продолжением струн и смычка. Когда я закончила играть – тяжело дыша и с дрожью в ногах, оттого что слишком сильно их сжимала, – один из членов комиссии даже похлопал, а это, как мне кажется, случается не так уж часто.
Когда я выползла за дверь, тот же самый экзаменатор сказал мне, что их консерватория давно «не видела деревенских девочек из Орегона». Профессор Кристи сочла это добрым знаком и уже не сомневалась в моем зачислении, в отличие от меня. К тому же я и сама толком не знала, хочу я этого или нет. Как и стремительный взлет группы Адама, мое поступление в Джульярд, если оно, конечно, состоится, создаст некоторые сложности или, точнее, усугубит те, что возникли в последние несколько месяцев.
– Я хочу еще кофе, кто со мной? – спрашивает мама, нависая надо мной с древней кофеваркой.
Я вдыхаю аромат кофе – густого, черного, французской масляной обжарки, как мы все любим. Один только запах меня уже бодрит.
– Я-то подумываю, не пойти ли еще поспать, – говорю я. – Виолончель в школе. Так что я даже позаниматься не могу.
– Не будешь заниматься? Целых двадцать четыре часа?! «Молчи, молчи, разбитая душа»[3]3
Цитата из песни «Молчи» («Be Still») американской хард-рок-группы «Нельсон».
[Закрыть], – восклицает мама. Хотя она и приобрела с годами некоторый вкус к классической музыке – «с этим как с вонючими сырами: постепенно начинаешь разбираться», – но невольное прослушивание моих марафонских репетиций не всегда приводит ее в восторг.
Со второго этажа доносится лязг и грохот: Тедди лупит по своей барабанной установке. Вообще-то она папина – была когда-то, когда он играл в широко известной в узких кругах жителей нашего городка группе и работал в музыкальном магазине.
Я вижу папину довольную улыбку и чувствую привычный укор совести. Знаю, это глупо, но меня всегда мучил вопрос, не расстроен ли папа, что я не пошла в рок-музыку. В общем-то, я и собиралась, но в третьем классе на уроке музыки вдруг увидела виолончель, и она показалась мне совершенно живой. Казалось, если на ней играть, она откроет множество секретов, так что я начала учиться. Прошло уже почти десять лет, а я все продолжаю.
– Слишком шумно, чтобы спать, – перекрикивает мама грохот барабанов.
– А знаете что, – говорит папа, попыхивая трубкой, – снег-то уже тает.
Я иду к задней двери и выглядываю наружу. Сквозь облака пробилось солнце, и слышен шорох тающего льда. Я закрываю дверь и возвращаюсь к столу, замечая:
– Похоже, округ погорячился.
– Возможно, но отменить отмену школы уже нельзя. Что сделано, то сделано, я уже взяла выходной, – радуется мама.
– Именно. Но мы можем извлечь пользу из этого неожиданного подарка судьбы и куда-нибудь поехать, – предлагает папа. – Прокатимся. Навестим Генри с Уиллоу.
Генри и Уиллоу – давние друзья родителей из музыкальной тусовки; у них тоже появился ребенок, и они решили начать вести себя как взрослые. Живут они в большом старом фермерском доме. Генри приспособил сарай под домашний офис и занимается там компьютерным дизайном, а Уиллоу работает в ближайшей больнице. У них маленькая дочка. Именно она – истинная причина, по которой мама с папой хотят туда поехать. Тедди только что исполнилось восемь, мне семнадцать, а значит, из нас уже давно выветрился тот кисловатый молочный запах, от которого так млеют взрослые.
– А на обратном пути можем заглянуть в «БукБарн». – Похоже, мама меня заманивает.
«БукБарн» – это огромный пыльный старый магазин подержанных книг. В дальнем углу у них сложены двадцатипятицентовые записи классической музыки, которые, кажется, никто, кроме меня, никогда не покупал. А я прячу целую гору их под кроватью. Коллекция классической музыки – не то, о чем станешь рассказывать всем и каждому.
Я показала ее Адаму, но только после того, как мы пробыли вместе пять месяцев. Я думала, он будет смеяться. А как же иначе – такой крутой парень, в зауженных джинсах, черных полукедах, с полным набором грамотно потрепанных панк-рокерских футболок и с изысканными татуировками на теле. Он совсем не из тех, кто обращает внимание на таких, как я. Вот почему два года назад, впервые поймав его взгляд в школьной музыкальной студии, я была совершенно уверена, что Адам потешается надо мной, и старалась не попадаться ему на глаза. Как бы там ни было, но смеяться он не стал. Оказалось, у него под кроватью пылится коллекция панк-рока.
– А еще можно заскочить на полдник к бабушке с дедушкой, – говорит папа, уже протягивая руку к телефону. – Потом вернемся, и у тебя останется куча времени, чтобы добраться до Портленда, – добавляет он, набирая номер.
– Я за, – соглашаюсь я.
Дело вовсе не в притягательности «БукБарна» и не в том, что Адам на гастролях, а моя лучшая подруга Ким занята подготовкой выпускного фотоальбома. И даже не в том, что моя виолончель в школе и мне выдалась возможность остаться дома, посмотреть телевизор или поспать. Я и в самом деле с удовольствием куда-нибудь съезжу со своей семьей. О таком тоже не рассказывают всем подряд, но Адам понимает меня и в этом.
– Тедди, – зовет папа. – Собирайся. Мы отправляемся на поиски приключений.
Тедди завершает барабанное соло лязгом тарелок. Минутой позже он влетает в кухню в полной боевой готовности, как будто натягивал одежду, сбегая по крутым деревянным ступенькам нашего щелястого викторианского дома.
– «Школа закрылась на лето…»[4]4
«School is Out for Summer» – песня Элиса Купера.
[Закрыть] – поет он.
– Элис Купер? – вопрошает папа. – Ужели мы так низко пали? Пой хотя бы «Рамонз»[5]5
Американская рок-группа.
[Закрыть].
– Школа закрылась навсегда, – продолжает Тедди, не обращая внимания на протесты папы.
– Вечный оптимист, – шучу я.
Мама смеется и ставит на кухонный стол тарелку слегка подгорелых оладий.
– Налетай, семейство.
08:17
Мы втискиваемся в машину – ржавенький «бьюик», который уже был стар, когда бабушка отдала его нам после рождения Тедди. Родители предлагают мне повести, но я отказываюсь. За руль проскальзывает папа. Теперь ему нравится водить машину, а многие годы он упорно отказывался получать права и повсюду разъезжал на велосипеде. Когда он играл в группе, его нелюбовь к вождению означала, что во время гастролей за рулем постоянно торчали его друзья музыканты. Они только глаза закатывали от папиного упрямства. Мама на этом не остановилась: она канючила, упрашивала, иногда орала, чтобы он получил права, но папа отстаивал свою любовь к педальной тяге.
– Что ж, тогда тебе следует построить велосипед для семьи из трех человек, причем с защитой от дождя, – заявляла мама. В ответ на это папа всегда смеялся и говорил, что уже почти придумал его.
Но когда мама забеременела Тедди, то настояла на своем – хватит, сказала она. И папа, видимо, понял: что-то изменилось. Он перестал спорить и сдал на права. Он также вернулся к учебе, чтобы получить сертификат на преподавание. Полагаю, с одним ребенком еще можно было оставаться не совсем взрослым, но с двумя пришло время расти – время носить галстук-бабочку.
Галстук-бабочка на папе и сегодня, а также пестрая спортивная куртка и винтажные рокерские ботинки.
– Я смотрю, ты приоделся ради снега, – замечаю я.
– Я как почта, – отвечает папа, счищая с машины снег пластмассовым динозавром Тедди – одним из тех, что разбросаны по газону. – Ни слякоть, ни дождь, ни полдюйма снега не заставят меня вырядиться как дровосек.
– Эй, мои предки были дровосеками, – предостерегающим тоном заявляет мама. – Не сметь глумиться над бедными лесными жителями, пусть они и были голь перекатная.
– Даже и не думал, – отвечает папа. – Просто подчеркиваю стилистический контраст.
Папа несколько раз поворачивает ключ зажигания, и только тогда машина оживает. Как обычно, начинается борьба за музыку. Мама хочет слушать радио «Эн-пи-ар», папа – Фрэнка Синатру, а Тедди – музыку из мультика про «Губку Боба»[6]6
Имеется в виду полнометражный мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».
[Закрыть]. Я хочу классику, но, понимая, что, кроме меня, в нашей семье любителей нет, готова согласиться на «Звездопад».
Папа предлагает сделку.
– Раз уж мы все сегодня не пошли в школу, то нам просто необходимо немного послушать новости, чтобы не стать невеждами…
– По-моему, нужно говорить «невежами», – перебивает мама.
Папа закатывает глаза, сжимает мамину руку и по-учительски откашливается.
– Так вот, я говорю: сначала «Эн-пи-ар», а потом, когда новости кончатся, классическая волна. Тедди, тебя мы этим пытать не будем, можешь слушать «Дискмен». – И папа начинает отсоединять переносной плеер от автомобильного радиоприемника. – Но включать Элиса Купера в моей машине нельзя, я это запрещаю. – Папа лезет в бардачок, проверить, что там есть из музыки. – Как насчет Джонатана Ричмена?[7]7
Джонатан Ричмен – американский певец, гитарист и автор песен.
[Закрыть]
– Я хочу «Губку Боба», он уже там, – верещит Тедди, подпрыгивая и указывая на плеер. Шоколадные оладьи с сиропом явно только усилили его возбуждение.
– Сынок, ты разбиваешь мне сердце, – хмыкает папа. Мы с Тедди оба были воспитаны на бесхитростных песнях Джонатана Ричмена, святого музыкального покровителя мамы с папой.
Музыка выбрана, и мы отъезжаем. Кое-где на дороге попадаются пятна снега, но по большей части она просто мокрая. Что ж, это Орегон – дороги всегда мокрые. Мама обычно шутит, что именно на сухой дороге люди попадают в беду:
– Наглеют, забывают об осторожности и гонят как ненормальные. А у копов в такой день прямо праздник по выписыванию штрафов за превышение.
Я прислоняюсь головой к окну, глядя, как мимо проносится живая картина: темно-зеленые ели, чуть припорошенные снегом, клочковатые полосы белого тумана, и надо всем этим тяжелые серые тучи. В машине так тепло, что стекла запотевают, и я рисую на них загогулины.
Когда новости заканчиваются, мы переключаемся на классическую радиостанцию. Я слышу первые аккорды Третьей виолончельной сонаты Бетховена – того самого произведения, над которым мне следовало бы работать днем, – и меня накрывает ощущение некой вселенской гармонии. Я сосредотачиваюсь на музыке, представляя, будто играю; мне приятно, что выдалась возможность позаниматься, и радостно ехать в теплой машине вместе с семьей и моей сонатой. Я закрываю глаза.
Не ожидаешь, что радио после такого будет продолжать работать. Но оно работает.
Машина раскурочена. Удар четырехтонного грузовика на скорости шестьдесят миль в час пришелся прямо в пассажирскую сторону с силой атомной бомбы. Он оторвал двери, выбросил переднее пассажирское сиденье через водительское окно; смахнул ходовую часть, закинув ее за дорогу, и в клочья разодрал мотор, будто легкую паутинку. Он отбросил колеса с колпаками далеко в лес и поджег обломки бензобака, так что на мокрой дороге теперь плещутся крошечные язычки пламени.
Шум был чудовищный. Симфония скрежета, хор хлопков, ария взрыва и наконец заунывный лязг железных листов, врезавшихся в стволы деревьев. Потом все стихло, кроме одного: Третьей виолончельной сонаты Бетховена – она по-прежнему звучит. Радио в машине каким-то чудом не оторвалось от аккумулятора, и в безмятежной тишине февральского утра разливается Бетховен.
Сначала я думаю, что все в порядке. Во-первых, я по-прежнему слышу сонату. Во-вторых, я стою здесь, в кювете у обочины. Я оглядываю себя: все, что я надела сегодня утром – и джинсовая юбка, и шерстяной джемпер, и черные ботинки, – выглядит точно так же, как когда мы выехали из дома.
Я взбираюсь на дорогу, чтобы получше разглядеть машину. Только это больше не машина, а голый металлический скелет, без сидений, без пассажиров. Значит, остальных наверняка выбросило, как и меня. Я отряхиваю руки о юбку и иду вдоль шоссе искать родных.
Первым я вижу папу. Даже с расстояния нескольких метров заметно, как карман его пиджака оттопыривается от трубки.
– Папа, – зову я и иду к нему, но дорога вдруг становится скользкой, на ней появляются какие-то серые ломти, похожие на цветную капусту.
Я понимаю, что сейчас вижу, но это почему-то не связывается сразу с отцом. В памяти всплывают только новостные репортажи о торнадо или пожарах – о случаях, когда один дом разносит в щепки, а другой, совсем рядом, стоит целый и невредимый. Мозги моего отца на асфальте, но его трубка по-прежнему лежит в левом нагрудном кармане.
Потом я нахожу маму. На ней почти нет крови, но губы уже посинели, а белки глаз совершенно красные, как у вурдалака из малобюджетного ужастика. Она кажется совершенно ненастоящей. И оттого, что мама похожа на какого-то нелепого зомби, я чувствую, как к сердцу подступает страх.
«Нужно найти Тедди. Где же он?»
Я оборачиваюсь, внезапно перепугавшись, как в тот раз, когда на десять минут потеряла его в гастрономе. Я была уверена, что его похитили. Конечно же, оказалось, что он убрел инспектировать кондитерский отдел. Когда я нашла брата, то не знала, обнимать его или ругать.
Я бросаюсь к кювету, из которого только что вылезла, и вижу торчащую оттуда руку.
– Тедди! Я тут! – кричу я. – Давай тянись, я сейчас тебя вытащу.
Но, подбежав ближе, замечаю металлический блеск серебряного браслета с подвесками в виде виолончели и гитары. Адам подарил мне его на семнадцатый день рождения. Это мой браслет, он был на мне сегодня утром. Я смотрю на свое запястье: он по-прежнему на мне.
Я медленно подхожу еще ближе и наконец понимаю, что там лежит не Тедди. Это я. Кровь из груди пропитала рубашку, юбку и джемпер и теперь пятнает девственно-белый снег, словно капли краски. Одна нога торчит под неестественным углом; кожа и мышцы разошлись, и я вижу белые проблески кости. Мои глаза закрыты, темные волосы промокли и покрылись кровавой коркой.
Я резко отворачиваюсь. Это неправильно. Такого не может быть. Мы ведь поехали покататься. Это все нереально. Я, наверное, просто заснула в машине.
«Нет! Хватит. Пожалуйста, хватит. Проснись же!» – визжу я в морозный воздух.
Холодно, от моего дыхания должен идти пар – но его нет. Я перевожу взгляд на свое запястье – то, на котором нет крови и грязи, щипаю его как можно сильнее.
И не чувствую ничего.
Раньше у меня бывали кошмары: мне снились концерты, на которых я никак не могла вспомнить пьесу, или разрыв с Адамом, но я всегда могла приказать себе проснуться, поднять голову от подушки, прервать фильм ужасов, который крутился под закрытыми веками. Я пробую снова:
«Проснись! – кричу я. – Проснись! Проснись! Проснись!» Но не могу, не просыпаюсь.
Потом я что-то слышу. Музыка, я по-прежнему слышу музыку – и сосредотачиваюсь на ней. Я перебираю пальцами, будто играю Третью виолончельную сонату Бетховена на невидимом инструменте – я часто так делаю, когда слушаю произведения, над которыми работаю. Адам называет это «воздушной виолончелью». Он все время спрашивает, сможем ли мы когда-нибудь сыграть дуэтом – он на воздушной гитаре, а я на воздушной виолончели.
«А потом можно будет расколотить наши воздушные инструменты, – шутит он. – Вот увидишь, тебе захочется».
Я играю, фокусируясь только на этом, пока в машине не умирает последняя частичка жизни и музыка не уходит вместе с ней.
Вскоре слышатся сирены.
09:23
«Я что, умерла?»
Похоже, уже пора спросить себя об этом.
«Я мертва?»
Поначалу мне казалось очевидным, что так и есть. А мое пребывание здесь – лишь пауза перед ярким светом и «всей жизнью, проносящейся перед глазами», после чего я отправлюсь куда-нибудь еще.
Вот только уже подъехала «скорая помощь», а с ней полиция и пожарные. Кто-то накрыл моего папу простыней; пожарный застегивает маму в пластиковый мешок. Я слышу, как он говорит о ней с другим пожарным – тому на вид не больше восемнадцати. Опытный объясняет новичку, что маму, скорее всего, ударило первой и убило мгновенно, этим-то и объясняется отсутствие крови.
– Мгновенная остановка сердца, – говорит он. – Если сердце не работает, нельзя истечь кровью: она не течет, а едва сочится.
Я не могу думать о том, что из мамы сочится кровь. Вместо этого я отмечаю, как все правильно получилось: ее ударило первой, так что она заслонила собой нас. Конечно, это произошло случайно, но вполне в мамином стиле.
Но я-то, я-то мертва? Та я, которая лежит на краю дороги, свесив ногу в кювет, окружена группой мужчин и женщин, с бешеной скоростью суетящихся вокруг моего тела и втыкающих неведомо что в мои вены. Я полураздета: врачи «скорой» вспороли мою рубашку. Одна грудь оголилась. Я отворачиваюсь в замешательстве и смущении.
Полиция зажгла аварийные фонари вокруг места происшествия и просит водителей с обеих сторон поворачивать назад: трасса перекрыта. Полицейские вежливо предлагают маршруты объезда, проселочные дороги, по которым люди смогут добраться туда, куда им нужно.
Наверняка им есть куда спешить, этим людям в машинах, но многие из них не поворачивают назад. Они выбираются из салонов, обхватывают себя руками, чтобы не замерзнуть, и разглядывают аварию. Потом они отворачиваются, некоторые плачут, одну женщину рвет в придорожные кусты. И хотя эти люди не знают, кто мы и что случилось, они молятся за нас. Я чувствую, как они молятся.
Это также подталкивает меня к мысли, что я мертва. Кроме того, мое тело выглядит совершенно неподвижным и бесчувственным – а ведь, судя по моему виду, по ноге, которую на скорости шестьдесят миль в час асфальтовая терка ободрала до кости, я должна страдать от адской боли. И я даже не плачу, хоть и знаю, что с моей семьей случилось нечто немыслимое. Мы теперь как Шалтай-Болтай: и вся королевская конница, и вся королевская рать не смогут нас снова собрать.
Я обдумываю все это, когда рыжеволосая веснушчатая женщина-врач, трудящаяся надо мной, отвечает на мой вопрос.
– Кома по шкале Глазго – восемь. Даем кислород, сейчас же! – кричит она.
Она и санитар с очень худым лицом проталкивают мне в горло трубку, присоединяют к ней подушку с клапаном и начинают качать кислород.
– За сколько долетит «Лайф-флайт»?[8]8
«Лайф-флайт» – американская медицинская воздушно-транспортная служба.
[Закрыть] – спрашивает врач.
– За десять минут, – отвечает санитар. – А до города двадцать.
– Мы довезем ее за пятнадцать, если будешь гнать как чертов псих.
Я догадываюсь, о чем думает санитар: если они разобьются, то мне от этого пользы не будет, – и невольно соглашаюсь. Но он ничего не говорит, только стискивает зубы. Меня грузят в машину «скорой помощи»; рыжая садится сзади, со мной. Одной рукой она ритмично сжимает кислородную подушку, а другой поправляет на мне капельницу и кардиомониторы. Затем она убирает прядь волос с моего лба и говорит мне: – Держись.
* * *
Впервые я выступала, когда мне было десять; к тому моменту я играла на виолончели уже два года. Сначала я занималась прямо в школе, в рамках образовательной программы по музыке. Мне здорово повезло, что у нас вообще нашлась виолончель: они очень дороги и хрупки. Но какой-то старенький профессор литературы из университета перед смертью завещал свой «Гамбург» нашей школе. В основном инструмент торчал в углу – большинство детей хотели учиться играть на гитаре или саксофоне.
Когда я заявила маме с папой, что собираюсь стать виолончелисткой, они оба расхохотались. Позже они извинялись за это, объясняя, что заржать их вынудила картина маленькой меня с огромным инструментом между тощих ног. Как только они поняли, что я серьезно, то немедленно проглотили свои смешки и нарисовали на лицах одобрение и поддержку.
Однако реакция родителей ранила меня – я никогда им не рассказывала, как именно, и не уверена, что они бы поняли, даже если бы я рассказала. Папа иногда шутил, что больница, где меня родили, должно быть, случайно подменила младенцев, потому что внешне я совсем не похожа на остальных членов семьи. Они все светловолосые и светлоглазые, а я как их негатив: темные волосы и темные глаза. Но когда я подросла, шутка про больницу приобрела новый смысл – наверняка не тот, что вкладывал папа. Иногда я и вправду ощущала себя пришелицей из другого племени. Я не походила ни на общительного ироничного отца, ни на шебутную тусовщицу маму. И будто в подтверждение, я, вместо того чтобы пойти учиться играть на электрогитаре, взяла и выбрала виолончель.
К счастью, в моей семье музыка была важнее, чем ее жанр, и, когда через пару месяцев стало ясно, что моя любовь к виолончели не мимолетна, родители взяли мне инструмент напрокат, чтобы я могла заниматься и дома. Нудные гаммы и трезвучия привели к первым попыткам изобразить «Twinkle, Twinkle, Little Star»[9]9
«Моя звездочка, мерцай» – популярная детская песенка.
[Закрыть], потом они уступили место простейшим этюдам, пока наконец я не начала играть сюиты Баха. В моей средней школе музыкальная программа была не особенно сильной, так что мама нашла мне учителя-студента, который приходил раз в неделю. В течение нескольких лет студенты, учившие меня, все время сменялись, а когда мои умения превосходили их, играли вместе со мной.
Так продолжалось до девятого класса, когда папа, знакомый с профессором Кристи со времен работы в музыкальном магазине, спросил, не захочет ли она давать мне частные уроки. Профессор согласилась меня послушать; как она позже мне сказала, не ожидая многого, просто из любезности. Они с папой сидели внизу и слушали, как я в своей комнате репетировала сонату Вивальди. Когда я спустилась к ужину, профессор Кристи предложила взять мое обучение в свои руки.
Однако первое мое сольное выступление случилось задолго до нашего знакомства с ней. Это произошло в нашем городке, в зале, где обычно играли начинающие местные группы, так что для неподзвученного классического инструмента акустика там была отвратительная. Я играла виолончельное соло из «Танца феи Драже» Чайковского.
Стоя за сценой и слушая, как другие дети исполняют свои пьесы на визгливых скрипочках и громыхающем пианино, я чуть не сбежала с перепугу. Я выскочила в служебную дверь и скорчилась на крыльце снаружи, бешено дыша себе в ладони. Мой учитель-студент не на шутку испугался и послал розыскную партию.
Нашел меня папа. Он тогда еще только начинал преображаться из битника в консерватора, так что на нем был старомодный костюм с кожаным поясом в заклепках и черные низкие сапоги.
– Ты тут как, Мия-вот-те-на, нормально? – спросил он, садясь рядом со мной на ступеньки.
Я помотала головой, слишком пристыженная, чтобы говорить.
– А что такое?
– Я не могу, – разрыдалась я.
Папа вскинул лохматые брови и вперил в меня серо-голубые глаза. Я почувствовала себя каким-то чужестранным животным неведомой породы, которое изучают и пытаются понять. Сам-то папа всю жизнь выступал со всякими группами. Наверняка у него никогда не бывало такой ерунды, как страх сцены.
– Ну, это было бы обидно, – сказал папа. – У меня для тебя роскошный концертный подарок, куда лучше цветов.
– Отдай его кому-нибудь другому. Я не могу выйти туда. Я не такая, как вы с мамой или даже Тедди.
Тедди к тому моменту едва исполнилось полгода, но уже стало ясно, что в нем больше огня и энергии, чем когда-либо будет во мне. И конечно же, он был белокурым и голубоглазым – да и в любом случае, родился он в родильном центре, а не в больнице, так что его уж никак не могли перепутать.
– И то верно, – задумчиво пробормотал папа. – Когда Тедди закатил свой первый концерт на губной гармошке, он был спокоен как удав. Просто чудо какое-то.
Я засмеялась сквозь слезы. Папа мягко обнял меня за плечи.
– Знаешь, меня перед каждым концертом жуткий мандраж разбирал.
Я недоверчиво взглянула на папу – мне всегда казалось, что он-то всегда и во всем уверен на сто процентов.
– Это ты нарочно так говоришь.
Он покачал головой.
– Нет, не нарочно. Прямо ужас что бывало. А ведь я барабанщик и всегда сидел сзади. Никто и внимания на меня не обращал.
– И что ты делал? – спросила я.
– Назюзюкивался, – просунув голову в дверь, сообщила мама. На ней красовались черная виниловая мини-юбка, красная майка и Тедди, радостно пускающий слюни в своей «кенгурушке». – Выпивал пару литров пива перед концертом. Тебе я это не рекомендую.
– Пожалуй, твоя мама права, – согласился папа. – Социальные службы не одобряют пьяных десятилеток. Кроме того, я тогда кидался палочками и заблевывал сцену, но там-то был панк. А если ты швырнешь в зал смычок да еще будешь вонять, как пивзавод, получится неловко и неуместно. Твои приятели-классики такие снобы в этом вопросе.
Я рассмеялась. Мне все еще было страшно, но мысль о том, что, возможно, страх сцены я унаследовала от папы, утешала: все-таки я никакой не подкидыш.
– А что, если я запутаюсь? Если совсем ужасно сыграю?
– У меня для тебя новости, Мия. Здесь и так полно всяких ужасов, так что ты не слишком выделишься на общем фоне, – заявила мама.
Тедди взвизгнул в знак согласия.
– Ну правда, как ты справляешься с мандражом?
Папа по-прежнему улыбался, однако я поняла, что теперь он стал серьезен, потому что заговорил медленнее:
– Да никак. Просто играешь, несмотря на страх. Просто держишься.
И я вышла на сцену. Я не блеснула своей игрой, не снискала славы, не сорвала стоячую овацию, но и не провалила все на свете. И после концерта я получила свой подарок: устроившийся на пассажирском сиденье машины, он выглядел таким же человекоподобным, как та виолончель, к которой меня потянуло два года назад. И этот инструмент был не из проката – он принадлежал мне.









































