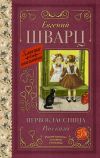Текст книги "Колония нескучного режима"

Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Но в глубине Юликова организма, чуть ниже живота, всё же тянуло и покалывало. Нет, не зависть это была к бесстрашию, проявленному лучшим другом, хорошо понимавшим, на что идёт. Точно это знал. Скорее, это был вопрос, адресованный самому себе: смог бы? Пошёл бы на заклание ради Приски? Ну, ради такой, как она? Ответ самому себе был неожиданным, быстрым и удивил: бе-зу-слов-но! Да, если б не Гвидоха!.. Эх, ч-чёрт, если б он, Юлька Шварц, не на разливе тогда стоял, на открытии выставки, а первым к Приске подкатил, первым зазнакомился, первым бы в Жижу затянул. Он прыснул и поперхнулся сам от себя: «в жижу затянул» – смешно получилось… А и затянул бы! И кого б, интересно, мы сегодня на выходе имели в сложившейся ситуации? Гвидона? А может, не Гвидона, а Юлия Шварца? Неплохого, кстати, живописца. Говорят, даже талантливого.
Лёгкое соперничество между друзьями имело место всегда, с детских лет, правда, в открытую не демонстрировалось ни одним, ни другим. Однако у Шварца было незначительное преимущество, по крайней мере в делах учебных. Мама Юлика, Мира Борисовна, работала преподавателем немецкого языка в их с Гвидоном школе, а заодно и завучем, и потому Юлику приходилось ездить со своей Серпуховки на Арбат, в школу, где работала мать. Так распорядилась Мира Борисовна, не желая глаз спускать с повышенно бойкого сына. Но и плюсы от этого были заметно ощутимы. Немецкий, агрессивно заталкиваемый в него матерью по поводу и без, Юлик знал весьма крепко. Прочие отметки ниже четвёрок заносились учителями в дневник тоже нечасто из-за нежелания конфликтовать с суровым завучем. Что до поведения, то было оно так себе, страдало от избыточного темперамента ученика Шварца, но всё же, при жёстком контроле строжайшей Миры Борисовны, не опускалось ниже границы терпимого. Гвидон же, не обладая подобной поддержкой изнутри, оставался, по обыкновению, таким, каким ему быть хотелось, черпая от школы педагогические блага по остаточному принципу. Таисия Леонтьевна, будучи по природе своей интеллигенткой старого образца, школу сына недолюбливала из-за повышенной идеологической муштры и пыталась мягко игнорировать родительские собрания, держа эту вакансию для отца. Однако Иконников-старший в такие места тоже был не ходок, тем более что большую часть времени проводил в Ленинграде, откуда был родом, у престарелых родителей, просиживая неделями в Пушкинском доме за работой над очередной диссертацией о поэте. Мира Борисовна таким отношением Иконниковых к школе была крайне раздражена. Не давало угомониться агрессивное комсомольское прошлое. Под жернова строгой Миры Борисовны в своё время попал и Юликов отец, архитектор Ефим Захарович Шварц, бескомпромиссно уволенный супругой из семьи в тридцать втором из-за несогласия мужа с линией партии, издавшей негласный приказ о принудительном изъятии у собственных граждан излишков средств накопления для целей дальнейшей индустриализации страны. По велению домашней царевны девятилетнему Юлику общение с отцом в любом варианте отныне было запрещено и недоступно. Проникновение с обратной стороны также было исключено в силу сооружённых матерью редутов и прочих неприступных оградительных сооружений. Ходили слухи, что Ефим Захарович, не призванный в армию по причине слабого зрения, скончался от остановки сердца осенью сорок первого при рытье окопов линии обороны в районе подмосковного Крюково.
Одним словом, ученик Юлий Шварц, вольно или невольно замешенный на дрожжах боевого маминого темперамента и податливого отцовского чувства правды, на выходе являл собою любопытный образец носителя соревновательной неуступчивости, наколотой на костяк пламенной справедливости. Отсюда проистекало многое, как, например, извечное желание выступать защитником своего неуклюжего друга, худющего и длиннорукого Гвидона Иконникова по кличке Гиви, которую тот ненавидел. Из-за клички нередко возникали школьные драки, в которые в обязательном порядке втискивался отважный Шварц, чтобы лишний раз доказать несправедливость обвинений друга в принадлежности к грузинской составляющей рода Иконниковых. Мира Борисовна сильно бранилась, когда Юлька приносил вместе с обычной дневниковой четвёркой внушительный синяк под глазом и надорванный форменный рукав.
– Я не понимаю, что в этом такого обидного! – негодовала она, делая примочку на начинающем желтеть сыновьем синяке. – Что он о себе такого возомнил, этот ваш Гвидон! Ему что, стыдно, когда его уравнивают с грузином? А кто, по-твоему, наш вождь?! Бурят? Мексиканец? Наш вождь – грузин! И мы этим гордимся, весь наш народ. И русские, и украинцы! – Она шумно выдохнула. – И татары, и грузины!
– А евреи, как мы? Евреи гордятся? – неожиданно отреагировал Юлик на очередную мамину выволочку. – Вот когда меня, например, Швариком за глаза дразнят, я ведь не горжусь, я иду морду бить.
– Замолчи!!! – высоко взвизгнула мать, бешено вращая яблоками глаз. – Не сметь издеваться над святым! Все гордятся, все без исключения! И запомни: нет никаких евреев в отдельности. И нет татар. Есть великое братство народов нашей страны, которое гордится тем, что у него был, есть и будет великий отец, прародитель всех народов. Великий Сталин!
– А для чего вы тогда меня Юликом назвали? А не Ферапонтом, например, если так получается, что евреев совсем нету?
Вопрос неразумного сына прозвучал для матери неожиданно. На мгновенье она потерялась, не зная, что ответить. Но ответила:
– Это только в память твоего прадеда. А так бы – ни за что!
– А грузины, значит, отдельно? – не унимался настырный сын. – Все мы состоим в одном братстве, а грузины этим братством, получается, управляют?
Шёл тридцать пятый год, Юлику стукнуло двенадцать, и это был единственный случай в его жизни, когда его измолотила родная мать. Она лупила сына молча, сжав зубы в приступе неуправляемой ярости, отшвырнув куда подальше педагогические приемы, которым была обучена и обучала сама, обезумев от того, что сама же и натворила, своими же заботами и трудами. Юлик не сопротивлялся и не орал. Он просто сжался в безмолвный комок и терпел, пока не минует приступ материнского бешенства. Понимал, что он сказал какую-то гадость и что этого говорить было нельзя, по крайней мере ей. Но отчего-то не сожалел о сказанном.
Наконец мать остановилась. Порывисто хватая ртом воздух, привалилась спиной к стене.
– Не смей… – выдавила она из себя. – Никогда не смей его трогать… Он этого не заслужил…
– Ладно, – ответил Юлик, поднявшись на ноги, – не буду. Я не хотел, это просто вырвалось. Нечаянно…
Он подошёл к матери и обнял её за живот. Так они постояли недолго, и она сказала, уже почти совсем успокоившись:
– Пойдём в ванную, сделаю ещё примочку.
Он кивнул головой и поплёлся вслед за Мирой Борисовной. Больно не было. Было жалко и противно…
Первый сексуальный Юликов опыт пришёлся на второй их приезд в Жижу, тем же, первым жижинским летом, после десятого класса. Глиняное приключение, что случилось в июне, так разохотило и увлекло, что решили повторить экспедицию через месяц. Тем более уже определилось место, где можно было надёжно остановиться и без лишних вопросов. Были бы «Гусиные лапки» и ландрин. Уговорили ехать и девочек: Юлик уломал Кишлянскую, а Гвидон – Айнетдинову. Сказали, на два дня, лепить горшки из глины, на специальном гончарном станке. Фиру Кишлянскую мама отпустила легко, не боясь. Всё же с самим сыном завуча Миры Борисовны поедет. Ну и потом… свои как-никак, одной нации, а не какие-нибудь там неизвестно кто.
Алка Айнетдинова ехала просто так, за компанию с подружкой. Поцелуйных планов не имела, тем более с этим долговязым Гиви, который и целоваться-то, наверное, ни разу не пробовал. А то, что Фирка едет из-за Юлика, она знала точно. Та ей по секрету сообщила, что по её расчетам уже пора. Уже можно. И не только целоваться. Надо только всё знать как следует, чтобы не оказаться в дурах. Но Юлик-то наверняка уже всё прошёл, так что можно попробовать, если что…
До глины дело не дошло, хотя честно собирались и месить, и лепить. С собой был портвейн и початая бутылка сухого. На портвейн с трудом наскребли, а сухарь Гвидон увёл из маминого буфета. Там он простоял в самом низу последние полгода и был окончательно забыт Таисией Леонтьевной. Отец же этим делом никогда не интересовался. Его, кроме Пушкина и диссертаций, вообще мало что интересовало.
Из двух барышень хороша во всех смыслах, если по-взрослому смотреть, была, конечно же, Алка. Сиськи её рвались в небеса, как два соседних пика коммунизма, и, даже не потыкав пальцем, было ясно, что отдача от них будет не меньше, чем рикошет от накачанного до отказа баскетбольного мяча. Именно их, уставившись по случаю и без, неотрывно исследовал глазами Гвидон, не принимая во внимание прочие нюансы предстоящих отношений. Юлик же действовал правильней и по-мужски хитрей. Его расчёт строился как раз на нюансах. Сам же нюанс состоял в том, чтобы надёжно заполучить товар не наилучшего качества, но зато по вполне доступной цене. Дополнительными факторами в расчёте являлся нагловатый бегающий Фиркин взгляд, нескрываемая раскрепощённость в поведении и отсутствие защитного культурного слоя в семье торгового работника, откуда она происходила. Плюс, наверное, единство быстрых целей, исходя из национальной особенности, связанной с естественной страстностью натур. Так полагал Шварц. Прикидывал и уже мысленно определял, не без скрытого удовольствия, своё победное место в необъявленном соревновании с Гвидоном за преимущественное обладание мужским началом. Относительно Алки твердо знал – не даст ни за что. Тем более – Гиви. Знал, но с Гвидоном своими знаниями не поделился. Хотелось… ох как хотелось, проявив дружеское участие, утешительно похлопать его по плечу, обнадеживая следующим когда-нибудь успешным походом за предметом мечтательных вожделений.
Насчёт Гвидона и Алки – так и вышло. Она рано ушла спать, ни намёком не выразив охоты вступать с Гиви в межполовые отношения. Юлик же, дождавшись темноты и без особого труда заполучив в распоряжение партнёршу, ошибся в главном – недооценил самого себя и свои мужские умения. В самый ответственный момент, когда голые, с чёрными волосками ноги решившейся Кишлянской, подрагивая, послушно разъехались в стороны и Юлик впервые в жизни так близко увидел в полутьме ещё никем не тронутую Фиркину розочку, с ним произошло то, о чём потом так не любят рассказывать мужчины, но зато с весёлым удовольствием обсуждают между собой опытные женщины. Юлик ощутил, как по голым ногам его стекает тёплый воск и как сам он конвульсивно дёргается то ли в приступе обуявшего его страха, то ли в порыве угарной страсти, вызвавшей преждевременное извержение из него этой липкой отвратительной жижицы, напоминающей густой рисовый отвар.
– Ты чего, Юль? – приподнявшись на локте, напряглась Фирка. – Чего случилось?
Он не ответил, а, подхватив в ком одежду, погнал прочь из Прасковьиного амбара. Сначала просто на улицу, в никуда, потом – к глиняному оврагу. Там он натянул штаны, майку, сел на край земной расщелины, опустил ноги в мутную глиняную жижу и заплакал…
Утром пытался вести себя бодро, с ухмылкой, при этом Фирке в глаза смотреть избегал. Но уже успел просечь – позор его зафиксирован и принят к сведению женской общественностью. Понял по тому, как они переглядывались украдкой, Айнетдинова и Кишлянская. Не врубился лишь Гвидон, пребывая в полной уверенности в несокрушимой победе своего удачливого друга и радуясь открытию счета.
Через год Алка Айнетдинова убыла с семьей в эвакуацию, в Башкирию, и следы её затерялись. Поговаривали, вышла там замуж за местного продовольственного снабженца. А Эсфирь Кишлянская ушла добровольцем на фронт, медсестрой, и погибла, когда тащила на себе бойца из-под бомбёжки. Вместе с раненым её разорвало на части так, что и нечего было собирать. Узнав об этом уже потом, через год после войны, когда он вернулся домой и попытался найти кого-либо из однокашников, Юлик, ужаснувшийся поначалу от того, что ему пришлось узнать про Фирку, внезапно ужаснулся и от другого, ужаснулся сам себе, своему мерзкому и гадливому чувству облегчения из-за того, что свидетельства его прошлого позора больше нет.
Его прочие мужские победы, уже из действительных, из тех, что пришлись на военные годы, были многочисленны и, по обыкновению, носили кратковременный характер. Сначала была ротная санитарка Аня, таскавшая им спирт. Она и сама была не прочь дёрнуть глоток-другой и залечь по-быстрому с кем-нибудь, кто побойчей и помоложе. Таким оказался младший лейтенант Шварц, с новенькими знаками отличия на отложном воротнике, только прибывший из учебки прямо на фронт. С Аней он с первого же раза постарался расквитаться за незабытый ученический позор. Расквитался так, что санитарка начала подворовывать и лямзить спирт персонально для Юлика сверх всяких отпущенных норм, за что и поплатилась переводом в другой полк. Но пока длилась их связь, не по-военному неистовая и неуёмная, вверенный Шварцу сапёрный взвод, разогреваемый спиртом неугомонной Ани, показывал славные результаты, воюя немца каждый раз так, словно это был последний бой.
Дальше были фрагменты, их было много, и они плохо запоминались Юлику из-за отсутствия сколько-нибудь значимого чувства с обеих сторон – так, быстрые фронтовые соединения: в землянке, в кустарнике, в деревенской избе, в стогу сена. Это потом уже, на территории немца, всё пошло куда как культурней. Удивляла странная предрасположенность немок отдаваться победителю без мучительных внутренних переживаний. Как только они убеждались, что опасность для жизни и здоровья отсутствует, то сами деловито разбирали чистую постель и приглашали русского воина занять в ней завоёванное место. Такая покладистость немок была приметна сразу, с первого взгляда, и этому лейтенант Шварц долго не мог найти объяснений. Позже сообразил: немецкая пунктуальность и разумный подход к жизни касались всех, и женщин в том числе. Немецкая самка, в отличие от нашей, борется за выживание цивилизованно и делает свой вынужденный выбор разумней. Без стенаний и соплей.
«Наши б так не сумели, наши б кто удавился потом, а кто бился бы до последнего», – подумал он, когда «немецкие» встречи, порой с долей откровенно неприкрытой благосклонности со стороны их баб, стали привычно-регулярными в течение всего времени, пока они давили немца на его территории.
Зато в «комендантский» период, пока поднимали из руин Крамм, регистрировали возвратившихся после войны немецких солдат и помогали местным выживать, случилась короткая любовь. Ну, не любовь, скорее, неподдельная увлечённость. Немочка, из чудом уцелевших евреек, фрау Эльза Хоффман, была балериной, бывшей, с длиннющей, без единой морщинки тонкой шеей, талией в обхват двумя ладонями и отсутствием в жизни мужчины вообще. К тому же умная, злая и чувственная, как нарывающий и готовый каждую минуту прорваться чирей. Стоило лишь прикоснуться пальцем к любому не покрытому одеждой месту на теле, как та начинала вибрировать и стонать в ожидании продолжения. Шварца такая странность немкина и удивляла, и заводила одновременно. И поэтому, расквартировываясь на краммский период службы, он выбрал постой именно у неё и прожил в её квартире почти до самой демобилизации и возвращения на родную Серпуховку, к заждавшейся его строгой маме, которая ко Дню Победы стала директором их с Гвидоном школы.
Оставшийся месяц пришлось доживать в построенной к тому времени для советских служащих казарме, но каждый день, словно заведённый, он заруливал на привычный адрес, чтобы… Короче, старался не пропустить и дня.
Таких женщин он ещё не знал. Она-то и обучила лейтенанта Шварца искусству истинной любви между женщиной и мужчиной. Или истинной страсти. Оказалось, в этом деле в ход идёт всё, о чём Юлик и не подозревал, начиная с пальцев ног и заканчивая трепетными ласками вокруг… В общем, уезжал лейтенант Шварц, пройдя нешуточную школу иноземных знаний бытия, дарованных ему тонкошеей балериной в отставке вместе с игриво-страстным именем Хуан.
Дожав кафешные остатки, Шварц неторопливо поднялся и вышел на Арбат. Был июньский вечер, но сумрак ещё не достиг той точки, когда Москва готова была переключиться на вечернюю жизнь. Небо изливало остатки розоватого света, оставаясь, по существу, чистым, несмотря на то что основные облака расползлись по его нижнему краю и оторвавшиеся от них бело-серые хлопья произвольным образом отлетали на большие и малые расстояния.
Он сел в троллейбус. Тот задвинул дверные гармошки и покатил вдоль Арбата, в сторону Смоленки. Юлик катил вместе с троллейбусом, считая по пути фонари освещения – просто так, тупо, потому что никак не мог сосредоточиться на том самом, что начало грызть ему кишки, когда он взял в руки Прискину фотографию. В глубине Спасоналивковского переулка высветилась маленькая белая церковь. Он и прежде замечал её не раз, когда пробегал мимо переулка, спеша в школу или возвращаясь обратно к Смоленке, но никогда не заходил внутрь, полагая, что такому, как он, безбожнику от иудейского племени и юному натуралисту будет, наверное, обременительно располагать дополнительным знанием не прямого назначения. Он даже не знал, работает она или нет, в смысле – «Аллилуйя тебе, Христос воскрес». Где-то изредка негромко позванивало – он слышал не раз, – но так уж исторически сложилось, что разновсяких храмчиков и храмов в этом районе Москвы было немало, и откуда доносился до его ушей этот дальний звон – сообразить Шварц не мог.
В этот момент двери открылись, и, поразмыслив мгновенье, он выскочил из троллейбуса на воздух. Как раз напротив церковного переулка.
«Интересно, – подумал Юлик, – а свечки нынче принято ставить на желание?»
Он прошёл ещё немного и увидел, что из дверей храма вышли, держась под руки, две арбатского вида старушки.
«Стало быть, работает, – убедился он и двинулся ближе к дверям. – Покреститься, что ль? – выплыла идиотская мысль. – Во мать удивится! Двойной удар будет, точно: и по еврейской линии, и по партийной».
Оглянувшись на всякий случай, Шварц зашёл внутрь и осмотрелся. Народу уже не было, служба закончилась, свет от паникадила едва достигал пола храма, горели лишь пара свечей да одна из лампад. Третья свеча, израсходованная до половины, не горела, торчала просто так, с обгорелым кончиком. Юлик выдернул её из гнезда, поджёг от горящей свечки и вставил обратно в то же самое гнездо.
– Значит, так, – обратился он к себе. – Если выгорит дело – покрещусь. – И добавил после паузы: – Когда-нибудь. И пропади всё пропадом…
Что это было за дело, чем оно должно закончиться и кто должен был пропасть пропадом, Шварц уже отчётливо себе представлял. Впоследствии, вплоть до самого конца жизни, он не раз благодарил себя за принятое им в этот день безрассудное решение. Это был вечер пятницы. Оставалось лишь прокачать детали с Гвидоном…
А в понедельник утром скульптор Гвидон Иконников набрал номер Евгения Сергеевича и попросил о встрече. Тот, уверенный, что дело сдвинулось быстрее, чем он сам предполагал, дал согласие и назначил рандеву на том же месте, на среду, тоже на одиннадцать.
Когда Гвидон появился в Союзе, тот уже был на месте. Берендеев в отделе отсутствовал – видимо, был выпровожен заблаговременно. Евгений Сергеевич поднялся, приветливо кивнул, протянул руку. Гвидон пожал её и опустился на стул. Кагэбист улыбнулся:
– Ну что, Гвидон, вас можно поздравить?
Гвидон поднял глаза:
– Так вы уже знаете?
Евгений Сергеевич развёл руками:
– Догадываюсь. Вы приняли правильное решение, Гвидон. И теперь нам с вами предстоит большая работа. Очень большая и очень ответственная.
Иконников выдержал паузу и произнёс:
– Я имел в виду, что вы знаете о том, что мы с Присциллой Харпер теперь муж и жена. Мы поженились. Зарегистрировали законный брак.
Евгений Сергеевич удивлённо поднял глаза:
– В каком смысле поженились? Как это? Когда?
– В прошлую пятницу, – спокойно ответил Гвидон. – В ЗАГСе. Пришли и расписались. – Он посмотрел в глаза сотруднику органов и отчётливо проговорил: – Потому что так мы с ней решили. После нашего с вами разговора.
– Надеюсь, отдаёте отчёт своим словам? – сухо спросил сотрудник. – Место для шуток нашли неудачное.
– А я не шучу, – без всякого выражения на лице ответил Гвидон, – можете проверить, вам это несложно.
– Что ж, проверим, Гвидон Матвеич, непременно проверим… – Казалось, он был едва заметно растерян, вырабатывая одновременно план дальнейших действий. И Гвидон понял, что сидящий напротив него самоуверенный чекист совершенно не готов к такому повороту событий. Это придало ему храбрости, и он приступил к следующему этапу разговора, к тому, ради которого пришёл на эту встречу.
– Вы не ругайте меня, пожалуйста, Евгений Сергеевич, – неожиданно с просительной интонацией в голосе произнёс Иконников. – Понимаете, я прикинул и понял, что не смогу. Ну не такой я человек. Я и в жизни-то неуверенный, а в таком деле, подумал, буду и вовсе плохим помощником. Это ж не война, не фронт: заряжай – наводка двадцать – прицел пятнадцать – огонь! Тут подходы нужны, тонкость особая. А я врать не умею, не приучен с детства, так уж вышло. От этого и сижу без мастерской. А ведь пришлось бы притворяться, а? Наверняка же?.. А я не справлюсь, завалю всё дело рано или поздно. – Он смиренно положил руки на колени. – Вот… такие дела…
Евгений Сергеевич выслушал без единой эмоции. Встал:
– Мне кажется, Иконников, вы сидите сейчас передо мной и дурочку разыгрываете. Я не то-о-о… Я не э-э-это… А насчёт регистрации живо всё просекли, руки в ноги и в ЗАГС. Да ещё, уверен, всех там заморочили и все нужные ходы разузнали. Ну, это мы ещё разберёмся, как вы там своего добивались, это дело такое…
Гвидон смиренно слушал, опустив глаза в пол. Когда чекист взял паузу, он тут же втиснулся в неё, чтобы успеть перешибить настроение начальника:
– Я, собственно, знаете, чего о встрече попросил? – Тот с раздражением бросил взгляд на Иконникова. – Я хотел сказать, что у меня есть товарищ один, тоже наш, художник, очень хороший художник, так вот он тоже влюбился в мою девушку, я имею в виду, в мою жену… И в общем, так достаёт нас, что мы от него уже прячемся просто. Он считает, что первым с ней познакомился и что я поступил с ним подло, отбив её у него.
Евгений Сергеевич хмуро посмотрел на Гвидона:
– Ну и для чего вы, Иконников, мне всё это рассказываете? Чтобы я вас пожалел? Вам ещё самому себя жалеть придётся, и не раз. Это уж я вам гарантирую.
– Так вот я и говорю… – не обращая внимания на его слова, продолжил Гвидон. – А давайте мы его на ней женим? Ну, то есть… вы жените! – Он запнулся. – Я хочу сказать, он на ней тоже женится. Он ведь человек совсем другой, это не я. Он согласится сто процентов. И сумеет как надо сотрудничать. Он и языки знает, немецкий правда, но хорошо, почти свободно. У него мама партийно подкованная, идейная, директор школы. И сам фронтовик, ордена имеет, медали. Тоже до Берлина дошёл и потом ещё там служил, в Крамме. После войны уже.
– В храме? – недоверчиво переспросил кагэбэшник. – Это в каком ещё храме?
– Да нет, не храме, а в Крамме. Город такой немецкий, до Берлина немного не доходя. В советской комендатуре. Замом коменданта. – И, не сбавляя темпа, продолжил: – И Суриковку закончил с отличием, как я. – Он с надеждой посмотрел на чекиста. – Его возьмите, а? Меня не надо, я не справлюсь, точно говорю.
Человек в штатском аж поперхнулся и злобно произнёс на повышенных тонах:
– Вы что такое несёте, я не понял? Вы разведётесь, а на Харпер вашей женится ваш друг? А для чего ж вы тогда женились? Чтобы голову нам морочить? Или цену набивать? Я вам ясно уже сказал, Иконников, вам конец! Забудьте о карьере, о мастерской, о заказах! Вы сами себе своими руками могилу выкопали!
В этот момент дверь в отдел кадров осторожно приоткрылась и в проём просунулась лысая голова Берендеева. Губы его растянулись в опасливой улыбке, и он спросил:
– Чайку, может, желаете, Евгений Сергеевич?
– Закройте дверь! – крикнул тот, и кадровик испуганно исчез в проёме.
Гвидон никак не прореагировал на ситуацию, а довольно спокойно попытался объяснить:
– Вы меня не поняли, товарищ уполномоченный… простите… Евгений Сергеевич. Я говорю не о Прис, моей жене, а о Патриции, которая моей жене приходится родной сестрой и заодно является её неотличимым близнецом. Как говорится, однояйцовым. И потом… Она влюблена в Советский Союз, они с Приской были тут три раза, в детстве, жили под Сочи. Она неплохо говорит по-русски, обожает русскую культуру, сказки Пушкина знает, Рахманинова исполняет, Чайковского. Она пианистка, заканчивает там учёбу…
– Да-да, они там такую музыку любят, для эмигрантов и гомосексуалистов, известное дело. Другую их не учат исполнять? – ехидно прервал Гвидона особист.
Гвидон потупился:
– Да нет, она много чего исполняет и очень хочет приехать в Москву, кстати говоря… – Он снова постарался быть ближе к теме. Особист слушал молча, видно было, как у него на скулах под кожей ходят желваки. Он явно начал что-то схватывать, и водянистый взгляд его стал постепенно приобретать явственный серо-голубой оттенок. – Так вот я и подумал, – продолжил исповедь скульптор, – раз Юлик… то есть художник Шварц, Юлий Шварц, так влюблён в мою жену, то наверняка влюбится и в её двойника, в сестру. В Патрицию Харпер. Влюбится и женится. А дальше вы делайте с Юлькой… то есть со Шварцем, всё что надо по вашим делам. И отказа не будет – он такой, я его хорошо знаю.
– Еврей? – быстро спросил особист. И сам же ответил: – Еврей… Это, может, и к лучшему.
– Еврей-еврей, – с готовностью согласился Гвидон. – Стопроцентный! И по папе, и по маме! Я и подумал…
– Он сейчас где? – по-деловому поинтересовался Евгений Сергеевич, и Гвидон сразу сообразил, что как минимум катастрофы уже не произойдёт. Было видно, что мысленно сотрудник КГБ уже проворачивает в голове пару новых вариантов: во-первых, закрывается собственная жопа после фиаско со скульптором; во-вторых, руководству предлагается значительно более интересная комбинация с участием потенциально заинтересованного фигуранта. И более правильной для этого дела национальности.
– Он сейчас здесь, – ответил Гвидон, – ждёт в предбаннике Союза. Я ему ничего пока не говорил, но взял сюда на всякий случай. Сказал, может, вопрос с мастерской для него выгорит.
– Ну хорошо, – вернувшись к прежним интонациям в голосе, уже вполне спокойно сказал Евгений Сергеевич, – допустим, мы даём ей въездную визу и она приезжает в Москву. Почему вы решили, что она захочет стать супругой этого… как его…
– Шварца? – помог ему Гвидон.
– Да, Шварца этого вашего.
– Потому что Присцилла это берёт на себя. Она слишком хорошо знает свою сестру и уверена, что Юлик… то есть Юлий Шварц, с его талантом, с его коммуникабельностью, с его чувством юмора, – именно тот человек, который ей нужен.
– Постойте, так вы что, обсуждали с ней наш контакт?
– Да упаси бог, Евгений Сергеевич, я что, разве не понимаю, что можно, а чего нельзя? Да ни в коей мере. Просто он так нас достал… извините… честно говоря, что она первая начала этот разговор. А я тогда и подумал… И вот вам после этого позвонил…
– Значит, слушай сюда, Иконников. – Сотрудник резко перешёл на «ты». – Ты сейчас ступай и позови сюда друга, а по тебе решать будем после. Когда с другом определимся. И запомни: контакта нашего не было. Ни для кого. Надеюсь, разжёвывать не надо?
– Не надо, Евгений Сергеевич. Только…
– Что – только? – недовольно переспросил тот.
– Мы рассчитываем, всё же… Я хотел сказать… спросить… Присцилла, моя жена, может рассчитывать на встречу со своим отцом? Если всё будет как положено. Или… по крайней мере, чтобы Патриция с ним встретилась, сестра, без разницы. А лучше – обе. Это возможно?
– Нет ничего невозможного, Иконников, – сухо ответил Евгений Сергеевич, – но лучше не рассчитывайте. А впрочем… посмотрим. – Он ударил ладонью по столу, обозначая этим конец беседы. – Сейчас иди те и позовите сюда этого вашего… как его… Шварца. Всё!
Он повернулся спиной к скульптору и не поворачивался обратно до тех пор, пока в дверь не постучал художник Юлий Шварц.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?