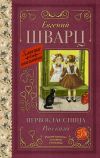Текст книги "Колония нескучного режима"

Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Ну да, – почесал голову Юлик. – Понедельник для соотечественников – день гнетущий. Ладно, ждите!
Он выскочил на Крымский Вал, схватил машину и сгонял в «Балчуг», в буфет гостиницы. Там его ещё не успели забыть. Обе буфетчицы, трудящиеся посменно, за последние пару лет неплохо изучили путь в полуподвал на Октябрьской. Каждая держала другую за потенциальную соперницу, и потому каждая пыталась оставлять Юлику экспортное румынское пиво в литровых ёмкостях для поддержания боевого духа в теле и душе любвеобильного художника. Юлик старался не обижать ни ту ни другую. С крутобёдрой Алевтиной с первого дня знакомства у него сложились отношения лёгкие и непритязательные. Она звонила и заезжала после смены с пивом и всегда свежей воблой. Сразу раздевалась и ныряла в постель в предвкушении обалденных Юликовых ласк. Обычно спешила: нужно было успевать до прихода мужа со службы. Муж служил в охране Генерального штаба Вооружённых сил СССР, и по этой причине Юлик старался не ударить в грязь лицом, не ведая того, что близость буфетчицы с супругом не доставляла той и доли подвального блаженства, а выстраивалась по принципу: раз – два – отбой. И так два раза в три недели. Все восемь лет супружества.
Другая, бесформенно-худая, Раиса, с туго пришпиленной к голове крашеной копной плохих волос, напоминала нераскрывшийся мухомор, но по буфету была старшей. А пиво любили все: друзья, друзья друзей, подруги друзей друзей, а также собственные подруги, подруги подруг, их многочисленные друзья и все без исключения натурщицы вне зависимости от степени дружбы. Румынское же давали только в «Балчуге», так что приходилось соответствовать потребности, резервируя часть запаса прочности и для буфетной командирши. Та, в отличие от помощницы, претендовала на «отношения» и обычно посещала полуподвал в состоянии лёгкой романтической задумчивости. Предложения руки и сердца от Шварца она так и не дождалась, но надежду не оставила и потому пиво таскать не переставала. К напитку, по обыкновению, прилагался отвес копчёного сервелата, недорезанного на порционные бутерброды гостиничным постояльцам. Для того чтобы деликатесное пиво не кончалось никогда, пока живы все участники общества его потребления, Юлик, применив творческий подход, рассчитал максимальные усилия для поддержания минимального тления в очаге балчугского буфета. Получалась такая картина. Алевтина – раз в две недели, не больше: при всём уважении не она таки определяет политику выноса не пробитого по кассе румынского продукта. Раиса, к сожалению, не реже одного оловянного солдатика в десять дней. Но никак не больше. И не чаще. Иначе себе круче выйдет – настолько дорогостоящим для Шварца окажется пенный продукт, что в глотку не польётся…
Короче, смотался в «Балчуг» и обратно, там застал Алевтинку, удачно отоварился и на той же машине вернулся обратно. Да в придачу с воблой, не пересохшей ещё, как всегда.
Потом, пока пили пиво другого сорта, честного, Юлик объяснял разницу между односолодовым и просто ячменным. А заодно учил Триш чистить и употреблять в пищу эту самую русскую воблу, с аккуратным объеданием рёбрышек, и, выдёргивая из межрёберных промежутков самые тонкие и вкусные кусочки, одновременно руководил дележом вобляной икры и прожаркой на спичке плавательного рыбьего пузыря.
Триш быстро захмелела и попросила проводить её в дамскую комнату, а заодно показать другие работы Шварца. Юлик проводил, объяснил, как лучше дёрнуть за ручку бачка так, чтобы не завалиться и попутно достичь слива воды. А потом, после бачка, не дойдя до картин, они стали целоваться там же, где оказались, в пространстве между туалетом и отгороженным помещением, где были сколочены стеллажи с подрамниками.
А ещё через сорок минут Гвидон и Приска незаметно испарились, и Шварц остался наедине с младшей Харпер. А ещё через девять часов они проснулись в обнимку в той самой комнате со стеллажами, куда так и не вспомнили, как и когда добрались.
На другой день Юлик перевёз Тришкины чемоданы к себе на Октябрьскую. А ещё через неделю, после того как сёстры обошли пешком всю Москву, облазив по наводке своих мужчин старые московские закоулки, накатавшись вдоволь на троллейбусе и метро, перепробовав все варианты уличных пирожков с капустой, рисом и повидлом, они решили вчетвером сесть в электричку и укатить в Жижу, к заскучавшей без друзей Параше. Вечером Юлик достал из морозилки два вафельных фунтика, один протянул Триш и спросил:
– Мороженого хочешь? Настоящее, московское. Сливочный вкус. – И услышал ответ, которому очень обрадовался, потому что понял, что с этой нерусской девушкой они существуют на одной волне.
– Нет, – ответила Триш, сохраняя серьёзную мину. – Не хочу. Нормального хочу, немороженого. Такого, как ты. – И засмеялась.
Утром перед отъездом к Шварцу заглянул Ирод. Он привычно сунулся мордой в зарешёченное полуокошко мастерской и, не обнаружив никого, разочарованно гавкнул. Юлик был в спальном пространстве. Услышав позывные, он подошёл к окну, распахнул его и кивком головы дал Ироду разрешение на спуск.
Тот взвизгнул от радости, отжал мордой чуть приоткрытую дверь, ведущую в полуподвал, и понёсся по ступенькам к знакомому проёму. Забежав внутрь, сразу кинулся целоваться со Шварцем. Из кухни на звуки собачьей радости выглянула Триш. И обалдела:
– Тот самый?
– Ну да, – ответил Шварц. – Царь Ирод собственной персоной. Вот, в гости пожаловал. Жрать, наверное, захотел.
Триш присела и поманила Ирода к себе. Тот осторожно приблизился и вопросительно заглянул ей в глаза. Страха не было ни с той ни с другой стороны. Был явный взаимный интерес. Она погладила его по голове – Ирод позволил, не отстранился. Тогда она прижала его к груди, и пёс от удовольствия завёл глаза к потолку. Триш поднялась:
– Надо его кормит. Он едет в кантри хаус.
– Понял, – послушно отреагировал Шварц и улыбнулся, прижав девушку к себе. – А я еду?
Их жижинская неделя начала августа выдалась на удивление безоблачной. В том смысле, что небо, словно приветствуя возвращение обитателей Парашиного дома в расширенном составе, раскинулось над Жижей чистым и ослепительно-голубым, раздвинув горизонт и оттеснив облака за нижние его края по всей небесной окружности, куда хватало глаз. Стоял полный воздушный штиль, однако августовская жара каким-то чудом ухитрялась не задирать градус выше двадцати семи.
– Рай! – выдохнула Приска и посмотрела на сестру. – Рай?
– Рай? – переспросила та, подставляя лицо небу.
– Парадайз… – Приска обняла её и спросила по-русски: – Нравится?
Тришка подумала и ответила, тоже по-русски:
– Мне так кажется, я влубила… мм… влубилась. Очен силно. Райт?
– Правильно, – засмеялась Приска, – а куда ты ещё должна была деться?
Внезапно Патриша перешла на английский:
– Скажи, Прис, я была там. – Она указала рукой в конец двора, где размещался грубо сколоченный туалет. – Это навоз. Да? Там отверстие вниз и темно. А где же тогда…
Прис вздохнула:
– Привыкай, милая, это Россия. А то, что ты видела, это русский туалет. – Она подтолкнула сестру рукой в направлении будки, состроив при этом рожицу. – Смелей…
Ирод, почуявший запах настоящей, негородской свободы, какую нигде и никогда ещё не нюхал, обезумел от свалившегося на него счастья. Он носился по деревне как умалишённый, заглядывал во все дыры, от амбара, откуда не выветривался запах коровьего молока, до куриной кормушки с остатками засыхающих картофельных очисток и недобранного курами прошлогоднего зерна. Отметился в заброшенной церкви, что через овраг, оставил густой след в саду, определив себя в совладельцы никем не охраняемого яблоневого рая. Затем сгонял на кладбище, что отстояло от Жижи на полпути, не доходя до Хендехоховки. Ближе к первому вечеру похлебал глиняной жижи из оврага, замарав рыжей мутью передние лапы. После вечерней дойки баба Параша налила ему молока, и он, заведя глаза, лихорадочно выхлёбывал драгоценную парную жидкость, ради которой готов был отныне верой и правдой служить этой доброй женщине с тёплыми, грубоватыми руками, совсем не похожей на его столичную крестную – дворничиху с Октябрьской.
Когда приехали и разместились, Параша вопросительно кивнула Юлику на Триш:
– Твоя?
Тот гордо кивнул в ответ:
– Чья ж ещё, баб Прасковь?
– Харошия тожа, – благосклонно покачала та головой. – Как энта, как наша. И по лицу такая ж. Тольки…
– Что? – насторожился Шварц.
– Тольки пришибленная малость, не так весёлая, как наша. Тожи нерусская?
– Тоже, – обречённо согласился художник, – ты погоди, баб Параш, она попривыкнет, перестанет стесняться. У них там так принято, у нерусских.
– Ну-ну… – согласилась хозяйка, – пущай покушаеть и обвыкнеть, а там и повеселеет, гляди… Вам где постилать-то, на двору аль в хати?
– На сене, – категорично отозвался Шварц, – а то она хорошо не обвыкнет и придётся менять её на нашу. А я не хочу её менять, я её люблю. Она мне будет законная жена, поняла, баб Прасковь?
Утром ушли за грибами, вместе с Иродом; проходили весь день, потом вместе чистили грибную добычу, сидя в палисаднике. Вернее, чистили все, кроме Гвидона, который вызвался довести домой девчурку лет шести-семи, на которую они наткнулись в лесу. Он присоединился к остальным позже, отмахав лишних километров пять, до Боровска и обратно.
А к вечеру безотказная Параша нажарила полную сковороду крупно накромсанных боровиков, перемешанных с подберезовиками и молодым репчатым луком с огорода. Оттуда же копанули молодой ещё картошки, отварили и, обжигая губы, ели прямо так, в мундире, откусывая от круглых горячих картофелин, присыпанных крупной сероватой солью и бабкиным укропом. А грибы ели ложками, вилка в доме была одна, её решено было оставить хозяйке, чтобы никому не было обидно. На десерт был самогон из сахара и ночь на сеновале. Но это – у Юлика с Тришей. Гвидон с Приской предпочли остаться в избе – не хотели мешать влюблённым.
Странно, но за тридцать прожитых лет – Юлик как-то поймал себя на этой мысли – он не был ни разу влюблён. Когда-то слышал в компании разговор знакомых врачей: если мужчина до тридцати не любил ни разу или по крайней мере не жил продолжительное время с постоянной женщиной, к которой испытывал привязанность или симпатию, то ищите в этом патологию.
Юлик тогда прикинул и сообразил, что в запасе у него ещё года три. Потом вдруг возник откуда ни возьмись косяк девок из балетного училища – каким ветром его надуло, он уж и не помнил. Кто-то приволок к нему в мастерскую одну, остальные в поисковой лихорадке набежали вслед. Ну и разговор врачебный тот как-то стёрся сам собой. Помнится только, что стал вдруг везде не успевать, а кордебалетные девки роились вокруг, как голодная стая мух, все из провинции, все хотели дружить и все давали без прелюдий и последствий, кто в расчёте на Москву, кто – на портрет маслом в рост на пуантах. Те, что истинно балетные, с талантом, духовкой в лице и растяжкой на полциферблата по вертикали, те не приходили и не давали. Те у станка день и ночь гнули, про тех уже всё давно и самим им, и учителям их известно было. Потом кордебалет испарился в один день, видать, кончилась их маета у поручня да разобрали девок по провинциальным театрам.
Но памяти, какой хотелось, не осталось. Не задела ни одна. Уж и молоденькие были, и тонкошеие, и сами дюймовочки-тростиночки, фуэте всё своё крутили как бешеные, на спор, кто больше оборотов даст, гнулись как резина, через голову наперекосяк: и стоя, и лёжа, и в прыжке успевали безотказно давать. Позже понял – отдавала кисловатым по́том эта любовь, хоть и молодым, балетным, но на рецептор пробивало, как ни старались, ни брызгались, ни терлись, не отбивался ничем крепкий аромат юных рабочих лошадок…
В очередной раз вспомнил о тех врачах, когда закончил наливать на открытии Гвидоновой выставки. Увидел тогда Иконникова в паре с англичанкой, сразу подумалось: могла бы в этот раз и на мне сработать медицина, тормознуть у нехорошей черты, известно ж, вот-вот уже по самой границе патологии пойду, тридцатник как-никак…
Триш лежала рядом, закинув руку ему на грудь, и безмятежно спала. Пахло сеном и тёплой коровой. Последнего поросёнка Параша забила в прошлом году и больше решила хряков не выкармливать – забота большая. Шварц не спал, он думал. Тишина была такой, что если бы куры дышали, то их дыхание он бы наверняка мог услышать даже через внутреннюю амбарную перегородку. Юлик лежал и думал, отчего так случилось, что он полюбил эту женщину, которую даже не успел как следует узнать. Которая родилась и прожила свои годы чёрт знает где, в чужих местах, там, где не пахнет поросёнком, где не говорят по-русски и не едят ничего, не сняв мундир. Где не стесняются говорить о деньгах, не боятся анонимки от соседа и не заставляют учить наизусть клятву пионера, напечатанную на тетрадной обложке. А может, и правда уехать отсюда насовсем, подумалось ему ни с того ни с сего… К чёртовой матери. Жениться на Тришке и дёрнуть с ней в Англию. А потом и Гвидон подтянется. С Приской. И жить себе там… Писать, выставляться, рожать детей английской королеве… А этих послать. Куда подальше. Нет, это невозможно, достанут и там. Достанут и прикончат, эти могут, они такие. Пусть лучше здесь достают, здесь всё же понятнее. И мать застрелится, если что, эта уж точно такой измены не переживёт. И Гвидон не приедет, Таисию Леонтьевну не оставит, это точно. Бред какой-то…
За день до Тришкиного приезда они все вместе решали, как правильно поступить: он, Гвидон и Приска. Решили пока ничего о существе дела Трише не сообщать, пусть всё идёт как идёт. В конце концов, пускай у неё будет свой, независимый выбор, и если в её жизнь войдёт Юлик, если так обернётся, что они на самом деле станут нужны друг другу, то тогда и посмотрим, вводить сестру в курс дела или не обязательно.
Он осторожно повернулся на бок и посмотрел на Триш. Тонкий лучик света от жижинской луны, пробиваясь через кривую щель над дверной притолокой, упирался размытым кончиком прямо в Тришкин лоб, чуть-чуть сползая на висок. Внезапно Юлик ощутил, что ничего дороже этой наивной чужеземной девчонки у него не было и нет. Он привстал на локте и вгляделся в её лицо. И тут его прострелило. Разом. Он понял вдруг, что такое любовь. Жил, жил и не знал. Понятия не имел. Знал только, что это история совсем не про то, что происходит в кровати между женщиной и мужчиной. Это – другое. Он вдруг вспомнил, как это началось. И когда. Тогда, когда они ели сегодня жареные грибы бабкиными ложками. Триш доела, облизала ложку, зажмурившись от удовольствия, и положила её на стол. И он вспомнил, как мысленно захотел эту ложку схватить и сунуть в рот, чтобы ощутить в себе запах любимой женщины. И слиться с ним. Изнутри… не понимая, что происходит, не отдавая себе отчёта в этом странном своём порыве. А дошло до него лишь теперь, спустя несколько часов, когда смотрел на освещённое лунной полоской лицо Триш Харпер: на завиток у её виска, на тонкую голень откинутой голой ноги с трогательно изогнутым, как натянутый лук, средним пальцем, на смешно торчащую соломинку, надёжно застрявшую в тёмно-русых волосах, на длинные пальцы под прозрачно-бледной кожей с коротко подстриженными ноготками, на два сердоликовых шарика в круглых мочках её ушей, обрамлённых по кругу полоской тусклого серебра, на едва заметную родинку на обнажённом левом плече, – вот она где, любовь, это так просто, оказывается, хотя и другое. Нужно просто очень хотеть облизать ложку после любимого человека.
И это незнакомое другое, зачатое и отыскавшееся где-то глубоко внутри его, в самых кишках, сейчас медленно выплывало наружу, таща за собой новую, не пробованную ещё жизнь, смывая по пути все его прежние жизни с картинными страстями, картонными чувствами, фальшивыми словами и обманными любовями…
Утром отправились в ничейный яблоневый сад, нарвали мешок вольных яблок, и мужики по очереди тащили этот мешок обратно. А окончательно нашедший своё счастье Ирод, нахватавший репейников, нёсся впереди, рассекая крепкой собачьей грудью высокую траву некошеного сада. Он метался влево и вправо, как бы расчищая своим новым хозяевам путь, отбегая в стороны и тут же возвращаясь обратно, демонстрируя готовность к преданной службе и верную покорность одновременно.
А потом они давили сок, как и в прошлый раз, но теперь уже вчетвером. И пили его, пили, проливая себе на грудь: свежайший, пахучий, шибающий в нос тысячью колючих, остро-сладких кислинок. И Триш смеялась, заливисто и громко, а он шептал ей в ухо:
– Я так люблю твой смех… и твой запах… Знаешь, я когда-нибудь соберу их в маленький флакончик и, когда тебя не будет рядом, буду брызгать из него себе в лицо…
А ночью, при свете луны, Юлик снова любил свою девушку, свою Триш, дочь шпиона и убийцы Джона Ли Харпера и главы знаменитого «Harper Foundation» Норы Харпер, внучку придворного советника королевы Великобритании, сэра Мэттью, о которых ничего не знал и которые ничего для него не значили, кроме того, что за всех за них он, Юлий Шварц, непременно рано или поздно должен пострадать. Он любил свою будущую невесту и жену так, как никогда не любил никого, задыхаясь от неуёмного желания, не веря, что это происходит с ним. С ними… В эту ночь он задумал серию ставших впоследствии широко известными «белых работ».
А последним жижинским утром, когда они проснулись, он спросил:
– Ты выйдешь за меня?
– Конечно, – ответила Триш, блаженно потягиваясь, – только три условия.
– Это какие? – насторожился Шварц.
– Ирод останется с нами. Мне нужно пианино. И ты купишь юнитаз для грэнни Параша, – серьезно ответила Триш.
Через два дня после возвращения в Москву Приска улетела в Лондон. Триш оставалось до отъезда ещё двенадцать дней. Гвидон переселил их к маме на Кривоарбатский, сам же на это время переехал к Юлику в мастерскую, доживать дни до отлёта. А вечером Шварц поднял трубку, набрал номер Евгения Сергеевича и доложился по-военному:
– Патриция Харпер улетает через двенадцать дней. Готов регистрировать брак. Жду инструкций.
И поехал добывать настройщика, чтобы в оставшиеся до самолёта дни Триш могла играть на «Бехштейне» Иконниковых своего любимого Шопена. Вернее, теперь «Бехштейн» принадлежал уже не им, а Патриции Харпер, получившей его в качестве свадебного подарка от расчувствовавшейся таким оборотом событий Таисии Леонтьевны.
Дальше было необыкновенно просто. Нужный механизм был взведён в тот же момент, часы оттикали пару-тройку дней, после чего Юлию Ефимовичу Шварцу позвонили и сообщили время регистрации в ЗАГСе Ленинского района. Со стороны жениха в качестве свидетеля выступил Гвидон Матвеевич Иконников. Не вестину сторону не представлял никто. При вступлении в законный брак жене была присвоена двойная фамилия – Харпер-Шварц.
В тот же день, получив на руки свидетельство о регистрации брака, Юлик отправился оформлять нотариальную копию, чтобы Трише теперь было чего предъявлять за границей при оформлении будущих виз. То же самое в прошлый раз сделал для Приски Гвидон.
Триш улетала в понедельник. А за три дня до отъезда, в пятницу, Евгений Сергеевич позвонил сам. Сказал, пускай, мол, ваша супруга летит себе, а мы давайте-ка встретимся с вами в следующий четверг, в одиннадцать, и очень подробненько поговорим о жизни… Подъезжайте по адресу… Далее он назвал подъезд, этаж и квартиру известного Дома на известной набережной, куда Холстомеру следовало прибыть без опозданий.
Если бы художник Юлий Шварц, он же агент-осведомитель Холстомер, знал, что в мае сорок пятого, на следующий день после Победы и три последующих страшных дня в указанной ему квартире отсиживался его тесть, английский шпион, перебежчик и убийца, а ныне з/к колонии строгого режима гражданин Великобритании Джон Ли Харпер, он чрезвычайно был бы таким обстоятельством удивлён. Равно как был бы удивлён и сам сотрудник карательных органов, человек неизвестной Шварцу должности и звания, с обычным, довольно приятным на слух именем Евгений Сергеевич.
Ещё больше удивился бы и не поверил сотрудник в то, что в назначенный им четверг он не встретит своего подопечного на пороге конспиративной квартиры на набережной, а будет сидеть перед старшим следователем КГБ с кровавыми подтёками на избитой морде, давая нужные следствию показания на своих руководителей и на самого себя.
А ещё через день, в ночь с пятницы на субботу, он умрёт в камере-одиночке тюрьмы КГБ на Лубянке от кровотечения внутренних органов, открывшегося у него на второй день побоев. Умрёт, так и не узнав, по какой конкретно из множества возможных причин ему довелось стать жертвой репрессий, обрушившихся на бывших работников МГБ и МВД, слившихся в единое целое, которое продолжало находиться под заботливым опекунством Лаврентия Берии, позже арестованного, но сумевшего попутно утащить с собой в могилу не одну тысячу сотрудников преступного ведомства.
Дела, курируемые Евгением Сергеевичем, сразу после его ареста были собраны в кучу, перехвачены бумажной бечёвкой и снесены в лубянский архив.
Накануне, до того как идти на встречу, Юлик и Гвидон поговорили. Дело было на Октябрьской. Решительный Гвидон предложил сразу уйти в отказ, чтобы разрубить вопрос раз и навсегда, а заодно выровнять шансы. «Скажешь, как я: мол, чёрт попутал, Евгений Сергеич, извините-простите-не-могу-не-буду. А там – смотря уж что он ответит, по обстоятельствам. Ну, не стрелять же нас будут, в конце концов. Мы ж воевали, награды имеем. А с мастерскими всё равно швах теперь, по-любому не видать как своих ушей. Да и хер с ним, в Жижу уедем и построимся».
Шварц осторожничал, опасаясь столь резкого перехода в примитивный оппортунизм по отношению к чёртовой власти. Почесал в ухе и раздумчиво произнёс, то ли в шутку, то ли всерьёз:
– Слушай, а может, и на самом деле отвалить к Тришке, а хер им уже оттуда показать? А? Или… вместе рванём? Заодно?
Оба знали, что это просто очередной Юликов трёп. Но Гвидон всё же хмыкнул, поддержав тему:
– Неплохо б, конечно… Знаешь, я как-то думал про это… Так… во сне, можно сказать.
– И чего показывали? – заинтересованно напрягся Юлик.
– А кино показали. Рассказать? – Шварц развел руками: само собой, мол. – Ну так вот. Приехали мы с тобой туда, прилетели, а дальше едем на машине, на красивой, на блестящей такой, с круглой блестяшкой на капоте. В машине, кроме нас, Тришка и Прис. Довольные все, хоть и трезвые. Е-е-едем, е-е-едем, е-е-едем… Вокруг дома красивые, лужайки… под английский газон, народ весь такой ухоженный, благочинный, ручками нам машет. И снова едем, едем, едем бесконечно. Ищем чего-то, чего – не понимаем, но знаем, что очень надо. Всем причём. Вдруг Приска как заорёт: «Стоп! Стой, Гвидон!!» – и рукой указывает вперёд. Смотрю, Ирод бежит навстречу и вроде как не внутрь к нам просится, а чтобы мы за ним ехали. Ну, мы поехали, а он впереди бежит, не медленней, чем мы сами. Дальше смотрим, две женщины на обочине стоят, голосуют. И Ирод вроде как остановился, ну, что бы мы их подобрали. Смотрим, это Мира Борисовна твоя. И моя заодно.
– Это что, Таисия Леонтьевна, что ли? – не скрывая явного интереса к рассказу, уточнил Юлик.
– Ну да, я ж сказал, моя! И они сели к нам, и все спокойно уместились. Обе весёлые, обе сразу с девками нашими журчать чего-то стали. Моя мать – по-английски почему-то, а твоя – по-немецки.
Шварц пожал плечами:
– Ну это ясное дело.
– Короче! – продолжил Гвидон. – Девки – на чисто русском. И все смеются без перерыва. А мы вроде ни при чём с тобой. Как будто нас вообще нет. А дорога всё хуже и хуже. Ухабы пошли разные, грунтовка началась, а лужайки кончились, уже давно, как только Ирод появился, так и кончились. Он, кстати, так и бежит впереди. А потом вдруг на месте встал и головой вбок кивает. Глядим – а это кладбище наше, ну, которое перед Хендехоховкой. А он дальше побежал. Саму Хендехоховку пробежал без остановки – и снова вперёд. А Мира Борисовна твоя смеётся как ненормальная, аж закатывается. Говорит сквозь смех: «Знаете, как мы тут им вломили? Просто хендехох сплошной!» По-немецки говорит, а всё понятно. Это она про фашистов, про войну. А Триша твоя ей отвечает и тоже смеётся: «Мира Борисовна, всё наоборот, наши тут немца хлебом-солью встречали. То есть ваши, русские, а не наши». А моя мать тоже смеётся и тоже спрашивает вдруг: «А мы разве не по Англии едем, милые?» И все вдруг резко перестали смеяться и замолчали. И так тихо стало, что просто жуть какая-то на всех напала.
– И на меня? – недоверчиво спросил Шварц.
– На тебя – не знаю, ты вылез из машины и стал целовать Парашу. А она увёртывалась сначала, а потом смирилась и махнула рукой в сторону. И Ирод залаял как ненормальный. Мы смотрим туда, куда махнула, а там Жижа наша, надвое оврагом глиняным разрезанная. Как родная стоит. И сад за ней с яблоками, и церковь разрушенная, и Парашина изба. И Мира Борисовна твоя говорит: «Я хочу, чтобы вы мне, мальчики, каждый по горшку накрутили». Так и сказала: «Накрутили». И мы пошли крутить. А машина красивая куда-то пропала.
– Уехала?
– Нет, именно пропала. Растворилась, как не было.
– И чего? – не понял Шварц. – И всё?
Гвидон искренне удивился:
– А тебе что, мало? Ясно ж сказано: все дороги ведут в Рим. То есть в Жижу. В том смысле, что выше жопы не прыгнешь. Вот про это сон.
Шварц мечтательно откинулся на кресло:
– Хороший сон… Будто правда кино посмотрел. А чего ты мне раньше-то не рассказывал?
– Ну, во-первых, чтоб ты меня к психиатру не отправил. А во-вторых, время не пришло. Теперь – в самый раз, – ответил Гвидон и налил обоим.
В этот момент Шварц понял вдруг, что не сообщил Мире Борисовне о том, что женился. Та едва пережила год назад смерть Сталина и в каком-то смысле была всё ещё плоха. В том смысле, что явно не готова к постижению такой шокирующей новости. Он опрокинул в рот полстакана портвейна, поставил стакан на стол и подумал: «Узнает, что англичанка, с ума сойдёт. И не простит. Подожду пока. Может, раньше посадят».
Когда Юлий Шварц звонил в чекистскую квартиру, он уже не метался. Шёл сдаваться на милость власти. А по сути, разоблачать самого себя. Это значило, что и Гвидона. Оба они такое развитие событий допускали, но терять уже было нечего. И делить тоже. И плакаться в жилетку. Дело было сделано. Оба женились на ком хотели.
Дверь не открыли. Он опять позвонил и снова прождал минут пять, но безрезультатно. Тогда он коротко, на всякий случай, для очистки совести, тренькнул звонком в последний раз и, не дожидаясь результата, пошёл себе вниз по лестнице. Вернувшись в мастерскую, первым делом набрал известный номер. На том конце взяли трубку:
– Вас слушают.
Голос был незнакомым. Шварц замялся, но всё же сказал:
– Мне бы с Евгений Сергеичем переговорить. Мне назначено… было…
– Вы кто? – сухо спросили на том конце.
– Э-э-э… моя фамилия Шварц. Юлий Шварц. Он просил меня… – Юлик было подумал, надо б рассказать, что никто так и не открыл назначенную дверь на седьмом этаже хитрого Дома, но быстро передумал. И закончил фразу: – Он просил как-нибудь позвонить, это насчёт мастерской для художника. Вопрос содействия, вроде того…
Голос долго не обдумывал услышанное:
– Евгений Сергеевич больше здесь не работает. И сюда не звоните. Всё, до свиданья!
Раздались короткие гудки. Шварц в задумчивости положил трубку.
– Интересно, это хорошо или очень плохо? – спросил он сам себя. И не сумел ответить. А Гвидон, узнав про дверь и про этот разговор с неизвестным, рассудил так: если они в наших услугах не нуждаются, то и слава богу! А именно – пошли они все в жопу, и будь что будет!
До приезда девочек в середине будущего лета оставалось меньше года. Надо было как-то заработать денег, чтобы с весны начать строиться в Жиже, потому что и Триш, и Приска ехали уже не для того, чтобы стажироваться и развлекаться с русскими друзьями. Они возвращались домой, к законным мужьям, чтобы любить их и жить с ними в той стране, которая разрешила, хоть и обманом, заключить им брачный союз.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?