Читать книгу "Кошмар в Берлине"
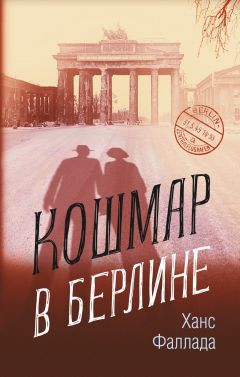
Автор книги: Ханс Фаллада
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Ну что, Цахес, – сказал он этому мерзавцу, который, конечно же, все уже знал – ведь подобные новости распространяются по маленьким городкам с быстротой молнии. – Нашли ваш тайник – а ведь всего несколько дней назад вы здесь стояли и клялись жизнью матери, что ничего не прячете. Клятвопреступник, вот вы кто!
Цахес не отвечал: стоял, опустив голову, взгляд метался туда-сюда – лишь бы на бургомистра не смотреть.
– Вы хоть понимаете, какой ущерб причинили городу, да что там – всем немцам? – И бургомистр принялся перечислять: – Фургон табака, сигар и сигарет. Два фургона вина и шнапса – все это украдено у немецкого народа, получено в обход других. Но вы предпочитали лгать и уверять, будто никаких припасов у вас нет, и все приберегали для себя, в соответствии со старым добрым лозунгом вашей партии: частное превыше общего!
Цахес стал еще бледнее, все краски схлынули с его лица; над его головой бушевала буря, но он не произносил ни слова.
– Но и это еще не все. – И Долль продолжил перечислять: – Фургон белья – а у меня для больницы не осталось ни одной простыни, ни одного полотенца. Пять радиоприемников, три пишущие машинки, две швейные, одна лампа «горное солнце» – а еще целый фургон одежды и прочего барахла. Тьфу нас вас, разоритель, предатель собственного народа, сколько же вы наворовали!..
Долль распалялся все больше – его бесило безответное оцепенение Цахеса. В прошлый раз ему не удалось до него достучаться, не удалось пробудить хоть какие-то человеческие чувства – и опять то же самое!
– Вы не понимаете, – продолжал Долль, овладевая собой, – вы вообще не думаете о том, какой удар вы нанесли по жалким обломкам немецкой репутации, если, конечно, от нее еще хоть что-то осталось! Когда я с протянутой рукой являюсь в комендатуру и жалуюсь, что мне опять нечем накормить малых детей, туберкулезников, тяжелобольных, что мне неоткуда взять койки для больницы, – знаете, что мне там отвечают? «Бургомистр должен изыскивать средства. У немцев все есть – просто они прячут свое добро. Немцы – лгуны и обманщики. Поищи хорошенько, бургомистр!» И выходит, что русские правы! А с какой стати им менять свое мнение о нас, если они находят тайники вроде твоего, мерзавец ты эдакий?! А теперь сотни людей должны мерзнуть дальше, потому что в нужный момент ты не соизволил раскрыть рот, негодяй!
И тут опозоренный и обруганный Цахес все же раскрыл рот, в первый и единственный раз, и фраза, которую он произнес, была достойна настоящего национал-социалиста – она могла родиться только в мозгах члена партии:
– Я бы выдал герру обер-бургомистру свой тайник, если бы он пообещал мне долю, пусть даже небольшую…
Бургомистр Долль остолбенел, потрясенный этим бесстыдным, чудовищным эгоизмом человека, который был совершенно равнодушен к страданиям других – лишь бы самому не страдать. И ему вспомнился недавний разговор с адъютантом коменданта. Адъютант рассказывал, что простые солдаты Красной армии долго думали, будто немцы живут так же, как их собственный народ: что война разорила их до крайности, что они чуть ли не умирают с голоду… Они не видели другого объяснения, почему немцы так безжалостно разоряли их родину. Но по мере наступления, очутившись на немецкой земле, они все увидели собственными глазами: деревни, богатые и благоустроенные, каких у них на родине не осталось, хлева, в которых теснился откормленный скот, здоровое, сытое сельское население. И в крепких каменных домах этих крестьян они обнаружили не только огромные радиоприемники, холодильники, всяческие удобства – нет, среди всего этого великолепия нашлись самые простенькие, дешевенькие швейные машинки из Москвы, пестрые платки с Украины, иконы из русских церквей – сплошь награбленное, наворованное добро. Зажиточные хозяева отнимали последнее у бедняков. И тогда в солдатах Красной армии вспыхнула ненависть и глубокое презрение к этому народу, который не ведал стыда, не желал обуздывать свою алчность, стремился все захапать, все загрести под себя – и пусть остальные пропадают.
Типичный представитель этого народа стоял сейчас перед бургомистром. Удивляться было нечему: в конечном итоге им было совершенно все равно, кого обречь на гибель – русских или немцев. Они не чувствовали никакой общности со своим народом, хотя эта самая общность возводилась в один из основных принципов их партии. Из всего они хотели извлечь выгоду, на всем нажиться, и не важно, сколько тысяч людей придется загубить. Много их нынче развелось, таких цахесов. И Долль велел полицмейстеру увести бывшего пивовара и посадить в самую дрянную камеру, на хлеб и воду. На молокозавод придется подыскать кого-нибудь другого. А этот предатель собственного народа пусть под строжайшим надзором целыми днями таскает тяжеленные мешки – авось долго он так не протянет!
Цахеса увели; больше Долль его не видел и не знал, что с ним сталось. Потому что вскоре после этого Долль заболел – и его болезнь была не в последнюю очередь спровоцирована этими переживаниями.
Когда за подлецом закрылась дверь, бургомистр остался один в кабинете. Он сидел за столом, подперев голову рукой. Он чувствовал, что его ярость выдохлась и душу наполняет тихое, невыразимое отчаяние. С яростью легче было справиться, чем с этим отчаянием, в котором не было ни проблеска надежды. К полной своей неожиданности, он обнаружил, что в этом отчаянии растворилась и его ненависть. Он постарался припомнить все то зло, которое причинили ему нацисты: многолетние преследования, арест, слежка, угрозы, бесчисленные запреты. Тщетно: он больше не испытывал к ним ненависти. Более того: он понял, что ненависть испарилась давно. Когда он производил конфискации у членов партии, держался сурово и безжалостно, он просто выполнял свой долг. С тихим ужасом он осознавал, что в домах людей, которые в партии никогда не состояли, он вел себя точно так же. Всех, всех их он в равной степени презирал. Он не мог ненавидеть тех, кого считал всего-навсего мелкими, злобными зверьками – так, именно так смотрели первые русские солдаты на него и его жену, так и он теперь смотрел на всех немцев.
Но ведь он и сам из той же стаи, он сам немец – слово, которое во всем мире давно превратилось в ругательство. Он один из них, и ничто не отличает его от соотечественников. Как в старой поговорке, которая и по сей день не устарела: с волками жить – по-волчьи выть. Он тоже вкушал ворованного хлеба из разоренных земель – и теперь должен за это ответить! О да, он не мог их больше ненавидеть хотя бы потому, что сам был одним из них. Ему осталось только бессильное презрение – и себя он презирал не меньше всех прочих.
Как ему говорили в комендатуре? Все немцы лгут и обманывают. Цепочка случайностей привела к тому, что он сделался бургомистром провинциального городка, и на этом посту он ежедневно убеждался: русские, увы, правы. На него нахлынули воспоминания: он снова видел пришедшую к нему на прием женщину, мать двоих маленьких детей. По ее лицу катились слезы: ее дом в Берлине разбомбили, и у нее не осталось буквально ничего – ни кроватки, ни кастрюльки, ни одежды для детей. «Сжальтесь, герр бургомистр, вы не можете просто прогнать меня! С пустыми руками я к детям не вернусь!»
У бургомистра тоже ничего не было, но он все же изловчился помочь. Нашел членов партии, у которых требуемого было в избытке, и уделил от этого избытка просительнице – не то чтобы много, но достаточно. А на следующий день перед ним стояла уже другая женщина, соседка той, которую он только что облагодетельствовал, тоже мать, тоже очень бедная: оказалось, что особа, ради которой он так старался, которую всем обеспечил, ночью стащила у соседки несколько тряпок с веревки! Немцы против немцев, каждый за себя, наперекор всем и всему.
Вспомнился бургомистру и извозчик, которого наняли перевезти вещи парализованного старика в дом престарелых, но когда он дотуда добрался, все, что еще было пригодно к употреблению, с телеги исчезло – то ли сам извозчик украл, то ли, как он утверждал, прохожие растащили. Немцы против немцев!..
Подумал он и о подлеце враче, который, стремясь отомстить за какие-то старые обиды, признал больную женщину здоровой и пригодной к тяжелой работе, – этот врач щедро раздавал дефицитные лекарства своим друзьям, но оставлял без помощи тех, кто был ему безразличен и тем паче враждебен. Ну и что, что они страдают – пусть страдают дальше! Немцы против немцев!
Он вспоминал, как люди крали друг у друга лошадей из стойла, птицу, с большим трудом откормленных кроликов, как они проникали на соседские огороды, выдергивали из земли овощи и рвали с деревьев недоспелые плоды, ломая при этом плодоносящие ветки – не для какой-то своей пользы, а просто чтобы напакостить ближнему. Словно выпустили на волю орду сумасшедших, которые, руководствуясь своими безумными хотениями, творили что в голову взбредет. Он знал, как они доносят друг на друга, как бросаются бессмысленными, лживыми обвинениями, рассыпающимися при первой же проверке и придуманными просто по злобе, чтобы нагнать на соседей страху – пускай боятся! Немцы против немцев!..
Долль сидел за бургомистерским столом, обхватив голову руками, и было в этой голове совершенно пусто. Как наивно было думать, что мир только и ждет, как бы помочь немцам выбраться из грязи, из этой жуткой воронки, в которую их швырнула война. И не менее наивно было полагать, будто он, Долль, чем-то отличается от своих соотечественников: он тоже всего-навсего мелкий злобный зверек, как и все они. Ему не подавали руки, сквозь него смотрели как сквозь стену.
И правильно делали: немцы, все и каждый из них, достойны ненависти и презрения. Долль тоже кое-кого ненавидел, например старого ветеринара Виллема-порося, а также скопом нацистов, всех до одного. Но теперь его ненависть – и общая, и частная – иссякла: ведь он был не менее достоин ненависти, чем те, кого он ненавидел.
Ничего не осталось, Долль был опустошен – и им овладела глубокая апатия. Эта апатия, постоянно подстерегавшая его на протяжении последних месяцев, но на время заглушенная навязанной ему активной работой на бургомистерском посту, наконец-то прорвалась и завладела им. Он смотрел поверх стола, заваленного бумагами, его поджидали десятки срочных дел – но какой во всем этом смысл?.. Немцы обречены на гибель, и он в том числе! Все усилия тщетны!
В дверь заглянула секретарша:
– Пришли из комендатуры – вас срочно вызывают к коменданту, герр бургомистр!
– Да, хорошо, – отозвался он. – Сейчас иду…
Но никуда не пошел, а остался сидеть за столом; секретарша еще несколько раз напоминала ему о коменданте. Не то чтобы он думал о чем-то определенном, не то чтобы пытался побороть апатию – этот путь тоже бессмыслен, все пути бессмысленны, так как все ведут немцев в никуда…
Нет, он просто сидел, и никаких внятных соображений не было в его голове. Если бы он взялся описывать свое душевное состояние, то, наверное, сказал бы, что внутри у него клубился туман – серый, густой туман, в котором не видно ни зги и не слышно ни звука. И больше ничего…
Наконец – поддавшись настойчивым уговорам секретарши – он поднялся и отправился в комендатуру, просто потому, что ходил туда уже сотни раз. Это было ничуть не лучше и не хуже всего прочего, что он сейчас мог сделать. Пойдет он в комендатуру или нет, больше не имело значения. Ничто больше не имело значения – даже сам герр доктор Долль. Поражена была самая сердцевина его существа, и инстинкт самосохранения отказал.
Вскоре после этого бургомистр Долль серьезно заболел – и перестал быть бургомистром. Его жена, которой тоже нездоровилось, отправилась с ним в районную больницу…
Глава 5
Прибытие в Берлин
1 сентября этого беспощадного 1945 года герр и фрау Долль прибыли в Берлин. Они почти два месяца пролежали в больнице и по-прежнему были далеки от выздоровления. Но они боялись, что если еще промедлят, то потеряют берлинскую квартиру.
Поезд, который должен был отходить в полдень, тронулся только с наступлением сумерек; несмотря на разбитые окна и загаженные купе, он был переполнен. Набившиеся в неосвещенные вагоны люди были настроены агрессивно, взрывались от любого слова и каждого соперника в борьбе за сидячее место воспринимали как личного врага.
Доллям удалось занять два места, но к ним тут же кто-то подсел, а вокруг со всех сторон обступили те, кому мест не досталось. Ящики били по ногам, рюкзаки больно задевали по лицу. В кромешной тьме ничего не было видно, но ненависть всех ко всем витала в воздухе и ощущалась даже сквозь отвратительный запах, который, несмотря на разбитые окна, из купе не выветривался. Вонь была адская, и она только усиливалась по мере того, как на станциях подсаживались все новые и новые пассажиры, с огромным трудом вбивавшиеся в плотную толпу и проклинавшие каждого, кому удалось сесть.
Эти люди, подсаживавшиеся по дороге, были в основном грибники из Берлина – свои корзины они запросто ставили сидящим на колени, мрачно буркнув, что, дескать, потом заберут. Но поскольку в купе и так было не повернуться, выходило, что корзины больше и девать-то некуда: у фрау Долль на коленях ехали четыре штуки, у Долля – три.
Они не протестовали, никому не отвечали и ни во что не вмешивались: слишком они были больны и слабы, чтобы с кем-то ругаться. Только одна мысль занимала Долля: как сохранить за собой квартиру. Ведь это его последняя надежда когда-нибудь начать новую жизнь.
Долль, конечно, отдавал себе отчет, что квартира – не более чем соломинка, но, если у них был хоть какой-то шанс сохранить за собой берлинское жилье, он не желал этот шанс упускать. Так он говорил и жене, которая утратила бодрость духа от постоянных печеночных недомоганий и заразилась его безрадостным настроем. «Скорее всего, нам скоро придется умереть, но в большом городе умереть можно незаметно и даже с долей комфорта. Только подумай: там есть газ!»
Если у других багажа было слишком много, то у Доллей, наоборот, маловато. Они везли с собой лишь маленький чемоданчик, в котором лежало немного хлеба, банка мясных консервов и четверть фунта зернового кофе в бумажном рожке, а также две книжки и всего ничего туалетных принадлежностей. Долль был одет в легкий костюм, фрау Долль одолжила у подруги светлый летний плащ. В карманах у Долля едва наскреблось бы три сотни марок, которые он занял у знакомого; единственное ценное имущество, которое у них при себе было, это бриллиантовое кольцо молодой женщины.
Поезд стоял на каждой станции бесконечно долго, а когда наконец трогался, то тянулся еле-еле. Долли мрачно глядели на огненные линии и точки, которые выплевывала во тьму труба локомотива, работавшего на буром угле, – за войну они вдоволь насмотрелись на «фейерверки и как-то потеряли к ним вкус. Каждое воспоминание о шутихах военного времени отдавалось болью. В мерцании этих пляшущих светлячков виднелись фигуры на подножках, которые, пригнувшись и ухватившись одной рукой за холодную латунную штангу, подставляли спину густому потоку искр. Видимо, в рюкзаках они везли настолько ценный груз, что ни опаленная, тлеющая одежда, ни риск сорваться их не пугали.
Но у большинства из них в рюкзаках всего-то и было, что горсть картошки, или мешочек муки, или фунт-другой гороха – запас продовольствия, которого в лучшем случае хватит на неделю. И все-таки они с какой-то почти тупой покорностью висели в потоке ветра и искр, не обращая внимания на дымящуюся одежду. Все это были люди маленькие; того, что они везли, ждали их жены и многочисленное потомство. Спекулянты, которые меняли продукты куда более дорогие: масло, шпик, яйца, – а картошку и муку запасали мешками, – они жизнью на подножке не рисковали, они нанимали грузовик и в качестве оплаты отдавали водителю часть груза, их не ждали изголодавшиеся дети…
Но кто тут спекулянт, а кто нет? Когда Долли решили перекусить и в непроглядном мраке купе распаковали хлеб с консервами, некоторые попутчики, несмотря на вонь, учуяли запах съестного и стали отпускать язвительные замечания в адрес тех, кто может позволить себе лопать мясо. Дескать, честным путем нынче мяса не достанешь, посмотреть бы на этих едоков при свете!
Долли не откликались: они быстренько дожевали то, что уже держали в руках, а остатки запихнули обратно в чемоданчик и еще теснее прижались друг к другу. Фрау Долль закутала их обоих в позаимствованный плащ – становилось все холоднее. Они обнялись и приникли друг к другу. Долль свернул себе сигарету из остатков табака, и тут же раздался едкий голос:
– Третью закурил! Вот я и говорю: одним все, другим ничего – куда катимся?
Народ принялся честить неистребимых спекулянтов и бонз, и про Доллей забыли. Они стали шепотом обсуждать берлинскую квартиру. Теперь, когда они приближались к цели, когда перед ними вообще замаячила хоть какая-то цель, их мучила тревога – ведь они не получали никаких известий о квартире аж с марта. В городе шли тяжелые бои, зданий разрушенных не счесть – может, ее уже и не существует, этой квартиры?
– Вот будет дело! Мы тут тащимся, мерзнем – а квартиры-то и нет! Ох и посмеюсь же я!
– А я сердцем чую, что с квартирой все в порядке. Ну а комнату Петты мы быстренько отремонтируем – не так уж сильно она выгорела!
– Утешительница моя!..
– Да ты только подумай: у меня в Берлине полно друзей! Когда мой первый муж был жив, мы многим помогали – пусть теперь они для нас что-нибудь сделают! Больше всего я надеюсь на Бена: у Бена мать – англичанка, наверняка он сейчас пойдет в гору. Эрнст (первый муж молодой женщины) вытащил его из концлагеря, уж он этого не забудет!
– Хочется верить, Альма! Надеяться надо на лучшее, но точно предсказать ничего нельзя. Точно мы знаем только одно: мы есть друг у друга и всегда будем вместе! И ничто нас не разлучит. Ничто!
– Так тому и быть! – согласилась она. И поежилась в его объятиях. – Холодно! – шепнула она.
– Да, холодно! – подтвердил он и прижал ее к себе еще крепче.
Берлин! Берлин, снова Берлин!.. Любимый город, в котором оба они выросли – только он лет на тридцать раньше, – этот сверкающий огнями, бешеный, неутомимый город! Кажется, будто он погряз в бесконечном угаре развлечений и удовольствий – но только до тех пор, пока не вспомнишь об огромных, мрачных рабочих окраинах. Берлин, город труда! Они возвращались обратно, чтобы начать жизнь заново; если и был хоть где-то на Земле у них такой шанс, то только здесь – в этом разрушенном, выгоревшем, обескровленном Берлине!
Было половина третьего ночи, когда Долли сошли с поезда в Гезундбруннене; комендантский час истекал в шесть. Ледяной ветер гулял по вокзалу, все окна до единого, казалось, были разбиты. От этого холода, от этого ветра негде было укрыться! Они пристраивались то тут, то там, но всюду ужасно мерзли. В чудом уцелевших на платформе постройках было не теплее. Ветер задувал сквозь разбитые окна, и люди, скорчившись, бесформенными клубками сидели на полу, безнадежно и тупо ожидая утра.
Фрау Долль втиснулась в людскую гущу, чтобы хоть как-то спрятаться от ледяного ветра. Но едва она присела на свой чемоданчик, как ее тут же согнали с места: нельзя загромождать проход! И она, всегда находчивая, веселая, боевитая, без единого возражения примостилась к этой человеческой свалке с краю. И поплотнее закуталась в плащик, надеясь найти защиту от пронизывающего ветра, который все равно пробирал до костей.
Долль собрал по карманам последние крошки табака, дрожащими от холода пальцами свернул кривую папироску и забегал туда-сюда. В развалинах бывшего вокзального здания он помедлил, всматриваясь в темный, без единого огонька город, озаренный лишь блеклым светом месяца, – но так и не разглядел ничего, кроме руин.
– Не выходите! – предостерег голос из темноты. – Комендантский час еще не закончился. Патрули иногда стреляют без предупреждения.
– Да я вовсе и не собирался выходить! – ответил Долль и швырнул в развалины окурок последней папироски.
А про себя подумал: хорошенькое начало! Воображение часто подводит человека, и то, что представляется трудным, зачастую оказывается легче легкого, а то, о чем вообще не задумываешься, и становится главной преградой. Эти два ледяных часа на разрушенном до основания вокзале, и курево кончилось – и Альма больна!.. Лицо у нее совсем пожелтело…
Он развернулся и потопал к ней.
– Я больше не могу, – сказала она. – Должен же где-то быть медпункт или врач, который мне поможет. Пойдем поспрашиваем. Я превратилась в ледышку, у меня все болит!
– Нам пока еще нельзя в город. Комендантский час! Патрули иногда стреляют без предупреждения.
– Ну и пусть стреляют! – в отчаянии воскликнула она. – Если кого-нибудь из нас подстрелят, то, по крайней мере, им придется отправить нас туда, где тепло и есть врач.
– Ну-ну, Альма, – увещевательно проговорил он. – Давай действительно поищем медпункт или врача. Ты совершенно права: все лучше, чем околеть на этом холоде.
Чтобы выйти с вокзала, пришлось пробираться через развалины. Слабый лунный свет скорее путал, чем освещал дорогу. Долль со своим плохим зрением почти ничего не видел.
– Идем! – позвала она, прибавляя шаг. – Кажется, впереди улица! Может, там и медпункт найдется.
Он неуверенно двинулся за ней. Но тут же споткнулся и чуть не рухнул в какой-то темный провал.
– Ох! – вскрикнула молодая женщина. – Сильно ушибся?..
– Не, ну дожили! – раздался из кромешной тьмы возмущенный голос, звучавший с настоящим берлинским акцентом. – Мужик падает, а баба даже не думает упасть вместе с ним! Дела-а!
– И как бы мне это помогло? – осведомился Долль и, несмотря на боль, невольно рассмеялся. – Если бы моя жена тоже навернулась? Куда мы вообще попали?
– Метро Гезундбруннен, – послышался другой голос. – Но первый поезд только в шесть тридцать.
– Спасибо большое! – ответил он, и они двинулись дальше, на этот раз крепко держась друг за дружку. – Ну, вот Берлин нас и поприветствовал: немножко больно, зато от души. Подобно завоевателю, я поцеловал землю этого города и таким образом закрепил свое право на него – и то, что я услышал в ответ, меня вполне устраивает.
– Ничего не повредил?
– Да нет – кожу на ладонях содрал и ударился немного.
Они нырнули в темное море развалин – до дна уличного ущелья лунный свет не доставал. Пробирались медленно, на ощупь. На пустынной улице царила мертвая тишина, их шаги отдавались эхом.
– Тут мы любой патруль издалека услышим, – сказал Долль. – Десять раз успеем спрятаться.
– Погоди, – ответила она. – Там вроде бы медпункт виднеется. Зажги-ка спичку.
Это действительно оказался медпункт, но внутри было темно, и ни на звонок, ни на стук никто не подал признаков жизни.
– Боюсь, что звонок вообще не работает, – наконец проговорил Долль. – Что теперь? Вернемся на вокзал?
– Нет-нет, только не на вокзал! Давай еще поищем врача или полицейский участок. Да, участок был бы лучше всего. Они наверняка разрешат нам посидеть в караулке и немножко согреться.
Они принялись блуждать по мертвенно-тихому городу, где ни в одном окне не горело ни огонька, и наконец действительно отыскали полицейский участок. Звонить пришлось долго. Наконец вышел полицейский.
– Чего надо? – грубо осведомился он.
– Мы только что приехали в Берлин по железной дороге. Моя жена больна, а медпункт закрыт. Позвольте нам, пожалуйста, посидеть до шести у вас в караулке и согреться.
– Нельзя, запрещено, – отрезал полицейский.
Они принялись просить и клянчить. Они никому не помешают, будут сидеть тихо как мышки!
Но полицейский оставался неумолим:
– Если что-то запрещено, я этого разрешить не могу! И вообще, что вы делаете на улице? Комендантский час!
– Ну так арестуйте нас за это на часок-другой, герр вахмистр! – взмолилась молодая женщина. – Тогда и мы внутри посидим, и вы ничего не нарушите!
Но это предложение тоже не нашло у полицейского отклика – он взял и просто захлопнул дверь. Они остались одни на темной улице.
Супруги посмотрели друг на друга: лица у обоих были растерянные, бледные. И тут они заметили, что уже светает – близится день.
– Значит, скоро шесть. Просто пойдем дальше. Может, трамвай попадется.
Немного времени спустя они уже сидели в автобусе, который вез фабричных рабочих на утреннюю смену. Автобус мимо их дома не проходил, но на нем они добрались до станции городской электрички: вскоре должен был отойти первый поезд. Но тут их подстерегало новое препятствие: билетерша проспала, а контролер у турникета отказывался пропускать людей без билетов – дескать, не имею права!
– А если касса откроется через час?
– Значит, в этот час никто не пройдет! Закон есть закон!
– Но мы опаздываем на работу! – возмущался народ.
– А мне что за дело? У меня свои обязанности!
– Ах так? Ну посмотрим! – крикнул кто-то из местных. – Ну-ка, все за мной!
Через боковой вход, через забор – затем в сумерках через пути, через рельсы под напряжением – и снова через ограду. Долли тащились в хвосте: у Альмы внезапно разболелась нога, а у него после падения ныло все тело. Наконец, едва дыша, они добрались до платформы – и успели увидеть лишь красные хвостовые огни утреннего поезда.
И снова ожидание и холод, дорога и усталость, пересадки и новое ожидание – как же им хотелось домой!.. Как они мечтали о своей кушетке!.. Просто лечь, согреться и заснуть!.. И ни о чем больше не думать!.. Просто отключиться!..
Наконец – ура – они вышли на своей станции.
– Через пять минут будем дома! – подбодрил он ее.
– С нашей скоростью – через все двадцать, – отозвалась она. – Понять бы, что у меня с ногой. Вроде бы маленькая ссадина… О боже, и этого моста нет – в марте он еще стоял!..
И пока они брели, из последних сил переставляя ноги, – из-за разрушенного моста пришлось заложить очередной огромный крюк, – на этом бесконечном пути им попадались только руины – старые, которые появились еще при них, и новые, которые возникли после их бегства из Берлина. Они совсем притихли, плелись, не говоря ни слова, – так много было новых развалин. Долль думал: что мне с ней делать, если окажется, что квартиры больше нет? Она больна и совершенно измучена.
Наконец они в последний раз свернули за угол – и стали судорожно вглядываться в фасады. На этот раз он опередил ее:
– Я вижу цветочные горшки на нашем балконе! Даже рамы на месте! Альма, наша квартира цела!
Они посмотрели друг на друга и слабо улыбнулись.
Ключа у них не было, нужно было найти консьержа. Плохие новости, очень плохие новости! Маленький консьерж исчез еще в апреле: то ли убили в бою, то ли арестовали, жена не знала. Не знала вообще ничего.
– Удрал, вы думаете, вот так взял и убег? Ну не-ет, не таков мой муж, чтобы сбежать от жены и детей, не способен он на такое, герр Долль! И с чего бы ему драпать? Он никому ни в жизнь зла не причинил! Ключ от квартиры? Нет, ключа нету. Туда въехал кто-то, жилконтора поселила, да всего пару дней назад, какая-то то ли танцовщица, то ли певичка, в общем, из театра какая-то бабенка, не знаю точно. С матерью и дитем, да, вообразите, у нее и дите имеется! Ну само собой, пришлось ей подлатать те комнаты, которые окнами на улицу, да. А в задних комнатах по-прежнему живет старая Шульциха, которую вы пустили, когда уезжали в деревню, чтоб присматривала за вещами. Ну, как уж она там за чем присматривала, это вы сами посмотрите, фрау Долль, чего я зря трепаться буду. Вашу большую кастрюлю, если что, фольксштурм забрал. А вот куда делся пылесос, и книги, и ведра, и из кухонных шкафчиков все припасы – об этом я ничего не знаю, фрау Долль, сами у Шульцихи спросите, если, конечно, ее выловите. Она говорит, что живет здесь, но чтоб я знала, где она живет на самом деле! Ее иной раз целую неделю не видать, и за квартиру она не платит!
Медленно, ох как медленно взбирались Долли по лестнице – а ведь до квартиры аж четыре пролета! Они не стали обсуждать с консьержкой все плохие новости, которые она на них вывалила, и между собой тоже не перемолвились ни словом. Только их лица, казалось, стали еще бледнее, чем были после этой бессонной ночи, в течение которой они, больные, сперва тряслись в поезде, а потом сидели на морозе…
Долго, ох как долго жали они на кнопку звонка, прежде чем из квартиры – из их квартиры! – донесся какой-то шорох. Они терпеливо ждали, когда дверь наконец откроется. Их впустила молодая темноволосая дама, наспех накинувшая первые попавшиеся одежки. (Правда сказать, было утро, часов восемь.)
– Ваша квартира?.. Это моя квартира, мне в жилищном управлении выдали ордер… Нет, сударыня, ничего вы тут не сделаете. Три передние комнаты принадлежат мне, я потратила несколько тысяч марок, чтобы привести их в божеский вид… Две другие комнаты выгорели дотла, вы это должны знать не хуже меня, если это действительно ваша квартира, сударыня! Большая комната с окнами во двор – там живет фрау Шульц, но ее сейчас дома нет, и я не знаю, появится ли она сегодня. Во всяком случае, дверь заперта… Да, мне очень жаль, сударыня, но тут холодно, а я стою в одной сорочке, и вообще я рассчитываю еще поспать… Это все вы скажете в жилконторе, сударыня. Хорошего утра!
На этом дверь захлопнулась, и Долли остались в передней одни. Он взял жену за руку и медленно повел ее – она тяжело опиралась на него, – внутрь квартиры. Но там все было заперто, ни в одну комнату не попасть. Тогда он отвел ее на кухню и усадил на единственный стул (да ведь, кажется, их раньше было три?) между газовой плитой и столом.
Молодая женщина покорно села. Впрочем, молодой она сейчас не выглядела: пялилась в пространство невидящим взглядом, и лицо у нее было больное, желтое. Долль взял ее холодные руки, погладил их и сказал:
– Да, начало скверное, моя милая Альма! Но так просто мы не сдадимся – мы непременно найдем выход. Нас голыми руками не возьмешь!
В ответ на эти ободряющие слова фрау Долль попыталась улыбнуться, и это была самая блеклая, самая жалкая, самая душераздирающая улыбка, какую Долль видел на женских устах. Потом она подняла голову и стала разглядывать кухню – долго, очень долго; изучила каждый предмет и наконец воскликнула жалобно:
– Моя кухонька! Ты только оглянись: тут же все, все наше! А эта баба не пускает меня дальше прихожей, не предлагает мне даже присесть в моей собственной квартире! – фрау Альма, казалось, вот-вот заплачет – но глаза у нее были сухие. – И – я не знаю, заметил ты или нет через открытую дверь? – у нее в комнате стоит наша тумбочка из-под радиоприемника и большое желтое кресло, в котором ты так любил сидеть! Ну погоди, я сию минуту пойду в жилконтору!
Но никуда она не пошла – осталась сидеть, тупо глядя перед собой. Она всегда была избалованной блестящей дамой. А теперь сидит в дешевеньком плащике, который ей совершенно не идет – да и тот чужой! – чулки изорваны корзинами грибников, а на руках и лице – грязь и копоть после долгой поездки по железной дороге…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































