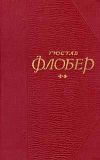Текст книги "Атлас. Личная библиотека"

Автор книги: Хорхе Борхес
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Ars Magna[14]14
Великое искусство (лат.).
[Закрыть]
Перевод Б. Дубина
Я стою на одном из перекрестков улицы Раймунда Луллия на острове Мальорка.
Эмерсон считал, что язык есть окаменевшая поэзия; чтобы оценить его мысль, достаточно вспомнить, что все отвлеченные слова – на самом деле метафоры, включая слово «метафора», по-гречески означавшее «перенос». Для тринадцатого века, исповедовавшего культ Писания, иначе говоря – совокупности слов, одобренных и отобранных Святым Духом, подобная мысль невозможна. Разносторонне одаренный человек, Раймунд Луллий наделил Бога несколькими атрибутами (благостью, величием, вечностью, всемогуществом, премудростью, волей, праведностью, славой) и изобрел своеобразную логическую машину, состоявшую из деревянных концентрических дисков, которые покрыты символами божественных атрибутов и при вращении их исследователем порождают трудноопределимое, почти бесчисленное количество понятий богословского порядка. Точно так же он поступил со способностями души и свойствами предметного мира. Как и следовало предположить, из всей этой затеи ничего не вышло. Через несколько веков Джонатан Свифт высмеял ее в третьей части «Путешествий Гулливера»; Лейбниц ее оценил, но от создания машины, разумеется, воздержался.
Напророченная Фрэнсисом Бэконом экспериментальная наука привела сегодня к возникновению кибернетики, позволившей человеку ступить на Луну и создавшей компьютеры, которые, если будет позволено так выразиться, представляют собой позднее потомство горделивых кругов Луллия.
Словарь рифм, заметил Маутнер, это еще одна разновидность логической машины.
La jonction[15]15
Место слияния (фр.).
[Закрыть]
Перевод Б. Дубина
Тут сходятся две реки: прославленная Рона и почти неизвестный Арв. Мифология – не пустая выдумка словарей, а неистребимое обыкновение души. И две сливающиеся реки – это, в некотором смысле, два древних слившихся в объятии божества. Это, должно быть, чувствовал Лаварден, принимаясь за свою оду, но между тем, что́ он чувствовал, и тем, что́ увидел, встала риторика, которая превратила широкую глинистую реку в перламутры и жемчуга. Как бы там ни было, все относящееся к воде сродни поэзии и не перестает нас волновать. Море, вклинившееся в сушу, это fjord или firth – имена, которые рождают бесконечное эхо; реки, впадающие в море, вызвали к жизни великую метафору Манрике.
На этом месте похоронены останки Леонор Суарес де Асеведо, моей бабушки с материнской стороны. Она родилась в Мерседес во время мелкой стычки, которую в Уругвае называют теперь Великой Войной, и скончалась в Женеве в 1917 году. Бабушка жила памятью о кавалерийской доблести ее отца посреди горной долины под Хунином и уже почти выдохшейся, оставшейся только словами ненавистью «к трем величайшим тиранам Ла-Платы – Росасу, Артигасу и Солано Лопесу». Под конец она совсем измучилась; мы стояли вокруг ее кровати, а она еле слышно уронила: «Дайте вы мне спокойно помереть» – и добавила крепкое словцо, которое я тогда в первый и последний раз от нее услышал.
Мадрид, июль 1982 года
Перевод Б. Дубина
Пространство можно разделить на вары, ярды или километры; время нашей жизни таким меркам не подчиняется. Я только что получил ожог первой степени, и врач сказал, что мне придется безвыходно провести в этом безличном номере мадридской гостиницы десять-двенадцать дней. Но я ведь знаю, что подобная сумма невозможна; знаю, что каждый день состоит из мгновений, которые и есть единственная реальность и каждое из которых несет свой особенный вкус меланхолии, счастья, подъема, скуки или страсти. В одной из строчек своих «Пророческих книг» Уильям Блейк говорит, что в каждой минуте заключено шестьдесят с лишним золотых дворцов и шестьдесят с лишним железных ворот; скорее всего, моя цитата рискованна и неточна, как ее источник. Ровно так же и Джойс в своем «Улиссе» вкладывает долгие дневные маршруты «Одиссеи» в один совершенно обычный дублинский день.
Обожженная нога отставлена в сторону и дает о себе знать: это похоже на боль, но это не боль. Я уже чувствую тоску по той минуте, когда затоскую по этой минуте. От неверного времени пребывания здесь я удержу в памяти единственный образ. И знаю, что сам удивлюсь этому воспоминанию, вернувшись в Буэнос-Айрес. Думаю, ночь будет ужасной.
Улица Лаприда, 1214
Перевод Б. Ковалева
По этой лестнице мне доводилось подниматься бесчисленное количество раз; наверху меня ждал Ксуль Солар. В этом высокого роста скуластом и улыбчивом человеке прусская, славянская и скандинавская кровь смешалась с кровью ломбардцев и латинян: его отец, Шульц, был из Балтии, а мать – из северной Италии. Однако более существенно другое смешение: языков, религий и, по всей видимости, всех звезд во Вселенной, поскольку был он астрологом. Люди, особенно в Буэнос-Айресе, живут, безропотно принимая то, что они называют реальностью; Ксуль же, напротив, жил преобразованием и переделыванием всего на свете. Он изобрел два языка; один, креольский, был по существу кастильским, обогащенным неожиданными неологизмами и чуть менее неуклюжим. Слово «игрушка» приобретало значение «гнилой груши»; ему нравилось говорить, например, «целлуются» и «полюбливаются»; он также употреблял слово «бесчувствоваться», а в разговоре с одной ошеломленной аргентинской дамой как-то бросил: «Мне нравится Лао», – и добавил: «Как? Разве вы не знаваете, кто такой Лао-цзы?» Другой язык был панъязыком, основанным на астрологии. Он также изобрел игру игр, разновидность сложных двенадцатеричных шахмат, в которую следовало играть на доске, состоящей из ста сорока четырех квадратов. Однако всякий раз, объясняя мне принципы игры, он чувствовал, что она выходит слишком элементарной, и усложнял правила еще сильнее, поэтому я так никогда и не научился в нее играть. Мы вместе читали Уильяма Блейка, особенно «Пророческие книги». Он старался разъяснить мне Блейковскую мифологию, но я не всегда соглашался с его трактовками. Он восхищался Тёрнером и Паулем Клее, а в 1920-е годы имел наглость не восторгаться работами Пикассо. Я подозреваю, что поэзию он чувствовал хуже, чем язык, но важнее всего для него были живопись и музыка. Он построил полукруглое пианино. Для него не имели значения ни деньги, ни успех; он жил подобно Блейку или Сведенборгу – в мире духа. Он исповедовал политеизм; одного Бога ему было мало. В Ватикане он восхищался могущественной римской организацией с филиалами практически во всех городах, что можно отыскать в атласе. Я не знал более разнообразной и восхитительной библиотеки, чем была у Ксуля Солара. Он познакомил меня с «Историей философии» Дойссена, которая, в отличие от других, начинается не с Греции, а с Индии и Китая и в которой есть глава, посвященная Гильгамешу. Он умер на острове в архипелаге Эль-Тигре.
Он сказал жене, что, пока она будет держать его за руку, он не умрет. Как-то ночью ей пришлось ненадолго отлучиться и, когда она вернулась, Ксуль был уже мертв.
Каждый выдающийся человек рискует быть запечатленным в анекдотах; теперь я помогаю свершиться неизбежному.
Пустыня
Перевод Б. Дубина
В трех-четырех сотнях метров от пирамиды я наклонился, набрал горсть песка, через несколько шагов молча высыпал его на землю и чуть слышно произнес: «Я изменил Сахару». Случившееся было ничтожно, но бесхитростные слова говорили правду, и я подумал: для того чтобы их произнести, понадобилась вся жизнь. Память о той минуте – среди самых важных вещей, которые я вывез из Египта.
22 августа 1983 года
Перевод Б. Ковалева
Брэдли полагал, что настоящий момент есть тот, в котором текущее к нам будущее распадается на прошлое. Иными словами, бытие перестает существовать или, как об этом не без некоторой меланхолии сказал Буало:
Как бы то ни было, преддверие чего-либо или свежее ощутимое воспоминание более реальны, чем эфемерное настоящее. Преддверие поездки – одна из ценнейших ее частей. И хотя наше путешествие в Европу началось на самом деле позавчера, 22 августа, его предвосхитил ужин, который состоялся восемнадцатого числа. В одном японском ресторане встретились Мария Кодама, Альберто Хирри, Энрике Пеццони и я. Еда представляла собой антологию всех мимолетных вкусов, пришедших к нам с Востока. Путешествие, казавшееся нам таким близким, уже почти началось – с беседы и шампанского, которого мы не заказывали, его нам предложила хозяйка заведения. Своеобразия этому и без того необычному для меня японскому местечку на улице Пьедад в тот вечер придавала и музыка оживленного хора голосов: какие-то люди приехали из Нары или из Камакуры, чтобы отпраздновать день рождения. Мы одновременно пребывали и в Буэнос-Айресе, и на ближайшем этапе путешествия, и в Японии, которую мы и помнили, и предчувствовали. Этот вечер мне не забыть.
Штауббах
Перевод Б. Дубина
Далеко не так прославленный, как Ниагара, он куда чудовищней и куда глубже врезан в мою память, этот водопад Штауббах на Лаутербруннене, Ручей Водяной Пыли из Чистого Истока. Он открылся мне в 1916 году; я еще издали услышал непомерный гул крутых и могучих вод, отвесно падавших в каменный колодец, прорытый и углублявшийся с начала времен. Мы провели там целую ночь; в конце концов постоянный шум стал для нас, как и для жителей тамошней деревни, беззвучным.
В многоликой Швейцарии столько всего, что есть место и страшному.
Колония-дель-Сакраменто
Перевод Б. Ковалева
И здесь тоже была война. Я пишу «тоже», потому что это утверждение применимо ко всем местам в мире. Убийство человека человеком – один из древнейших обычаев нашего уникального вида, не менее древний, чем размножение и сны. И сюда, на другую сторону моря, пала огромная тень Алжубарроты и тех королей, что ныне обратились в прах. Здесь тоже сражались кастильцы и португальцы, которые по прошествии времени станут называть себя по-другому. Я знаю, что во время Аргентино-бразильской войны один из моих предков участвовал в осаде этого города.
Здесь мы явственно ощущаем присутствие времени, чувство столь редкое в этих широтах. Среди домов и стен сохраняется прошлое, вкус которого так ценится в Америке. Не требуется ни дат, ни имен собственных; достаточно нашего непосредственного ощущения, как если бы речь шла о музыке.
Кладбище Реколета
Перевод Б. Дубина
Там нет Исидоро Суареса, командовавшего в сражении под Хунином атакой гусар, которая была мелкой стычкой и преобразила историю Америки.
Нет Феликса Олаваррии, делившего с ним походы, тайну, мили, снега вершин, риск, дружбу и изгнание. Там всего лишь прах его праха.
Там нет моего деда, пошедшего на смерть после того, как Митре сложил оружие под Ла Верде.
Нет моего отца, научившего меня не верить в невыносимое бессмертие.
Нет матери, которая мне столько простила.
Там, под эпитафиями и крестами, нет почти ничего.
Не будет там и меня. А будут волосы и ногти, которые так и не узнают, что все остальное мертво, и не перестанут расти, пока не превратятся в прах.
Не будет меня, обреченного стать частью забвения – бестелесной субстанции, из которой создан мир.
О собственноручном спасении
Перевод Б. Дубина
Как-то осенью, в одну из многих осеней времени, синтоистские боги уже не в первый раз собрались в Идзумо. Говорят, их было восемь миллионов, но я – человек стеснительный и среди подобного множества чувствовал бы себя неуютно. Кроме того, мне с такими невообразимыми величинами просто не справиться. Скажем, божеств было восемь, тем более что восемь на здешних островах – счастливое число.
Боги были печальны, но не показывали этого, ведь лица богов – канси, они непроницаемы. Собравшиеся расселись кружком на вершине зеленого холма. И посмотрели со своих небес, или камней, или снежных облаков на людской род. Один из богов сказал:
«Много дней или веков назад мы собрались здесь, чтобы создать Японию и мир. Воды, рыбы, семь цветов радуги, растения и животные вышли неплохо. Чтобы не отягощать людей всем этим многообразием, мы дали им потомство, подарили многоликий день и единую ночь. Еще мы наделили их способностью вносить перемены. Пчела повторяет ячейки того же улья; человек изобрел орудия: плуг, ключ, калейдоскоп. Выдумал меч и военное искусство. В конце концов он создал невидимое оружие, которое может положить конец миру. Чтобы этого безумия не случилось, давайте уничтожим людей».
Все задумались. Другой бог не спеша сказал:
«Это правда. Они выдумали это чудовищное оружие, но создали и совсем другое – вот эту вещь величиной в семнадцать слогов».
И произнес их. Я не знаю того языка и не смог понять сказанного.
Старший бог подытожил:
«Пусть остаются».
Так с помощью хайку был спасен человеческий род.
Идзумо, 27 апреля 1984 г.
Послесловие
Перевод К. Корконосенко
Чем был для нас атлас, Борхес?
Предлогом, чтобы вплести в ткань времени наши мечты, сотканные из души мира.
Перед путешествием мы, закрыв глаза и соединив руки, наудачу открывали атлас и позволяли подушечкам наших пальцев угадывать невозможное: шероховатость гор, гладкость моря, волшебную защиту островов. Реальность оказывалась палимпсестом литературы, искусства и воспоминаний из детства, объединенных нашим общим одиночеством.
Рим для меня становился вашим голосом, декламирующим «Элегии» Гёте, а Венеция для вас – тем, что я пересказывала вам однажды вечером, на концерте в соборе Святого Марка. Париж – это вы, упрямый ребенок, запертый в гостинице и поедающий шоколад над романом Гюго, это ваш способ открывать для меня этот город и наши слезы, когда я подняла голову на лестнице Лувра и увидела Нику Самофракийскую – ту самую статую, по которой отец учил меня постигать красоту. И тогда красота сделалась воплощенной гармонией, обретением невозможного, морским бризом, навеки пойманным в складках туники. Пустыня была сражением при Омдурмане, и Лоуренсом Аравийским, и музыкой тишины – до той самой ночи рядом с пирамидами, когда вы подарили мне империю слов, «преобразили пустыню» и открыли мне, что луна – это мое зеркало.
Время прогибалось для нас и давало защиту, мы входили в него, как наши коты, О́дин и Беппо, залезали в корзины и шкафы, – с той же невинностью, с тем же жадным любопытством к открытию тайн.
Теперь я здесь, и я творю время по ту сторону того времени, где вы путешествуете среди созвездий и обучаетесь языку Вселенной, где вы уже узнали, насколько яркими, добела раскаленными могут быть поэзия, красота и любовь. А я тем временем прилежно пересматриваю дни, страны, встречи, с каждым мгновением приближаясь к вам – пока не исполнится все то, чему необходимо исполниться для нового соединения наших рук. Когда это случится, мы снова будем Паоло и Франческой, Хенгистом и Хорсой, Ульрикой и Хавьером Отаролой, Борхесом и Марией, Просперо и Ариэлем, бесповоротно вместе, единой вспышкой света в вечности.
Дорогой Борхес, да пребудут с вами мир и моя любовь. До встречи.
М. К.
Личная библиотека
Предисловие
Перевод Б. Дубина
Год за годом наша память создает разнородную библиотеку из книг или отдельных страниц, чтение которых делало нас счастливыми и радость от которых нам было бы приятно разделить с другими. Тексты в такой личной библиотеке не обязательно самые известные. И это понятно. Ведь профессоров литературы – а кто, как не они, создает известность? – куда меньше занимает красота, чем превратности моды и даты литературной истории вкупе с пространным анализом книг, которые, кажется, и писались для подобного анализа, а не для читательского удовольствия.
Напротив, задача библиотечки, для которой я пишу предисловия и очертания которой уже смутно различаю, – быть источником этого удовольствия. В отборе книг я не ограничивался своими литературными привычками, определенной традицией, определенной школой, какой-то страной или эпохой. «Иные гордятся каждой написанной книгой, я – любою прочтенной», – написал я однажды. Хороший ли я писатель, не знаю; но читатель, смею думать, неплохой и, уж во всяком случае, чуткий и благодарный. Мне хотелось, чтобы эта библиотека была такой же разнообразной, как неутолимая любознательность, которая подталкивала и по-прежнему подталкивает меня углубляться в различные языки и разные литературы. Я знаю, роман – жанр не менее искусственный, чем аллегория или опера, но включаю сюда и романы, ведь они тоже вошли в мою жизнь. Повторюсь: эта серия разнородных книг – библиотека симпатий.
Мы с Марией Кодамой объехали земной шар по суше и по морю. Были в Техасе и Японии, в Женеве и Фивах. А теперь, чтобы собрать воедино все тексты, которые были важными для нас, обходим дворцы и галереи памяти, как писал Святой Августин.
Книга – вещь среди других вещей, том, затерянный среди других томов, наполняющих равнодушный мир, пока не нашелся ее читатель, человек, которому предназначены ее символы. Из этой встречи и рождается неповторимое чувство, называемое красотой, чудесная тайна, расшифровать которую не под силу ни психологии, ни риторике. «Роза цветет безо всякого почему», – сказал Ангелус Силезиус, а Уистлер через несколько веков заявил: «Искусство существует – и всё».
Пусть же эта книга дождется своего читателя.
Х. Л. Б.
Хулио Еортасар
«Рассказы»
Перевод Б. Дубина
В сороковых годах я был секретарем редакции в одном достаточно неизвестном литературном журнале. Как-то раз, в обыкновенный день, рослый молодой человек, лицо которого я не могу сейчас восстановить в памяти, принес рукопись рассказа. Я попросил его зайти через две недели и пообещал высказать свое мнение. Он вернулся через неделю. Я сказал, что рассказ мне понравился и уже поставлен в номер. Вскоре Хулио Кортасар увидел свой «Захваченный дом» напечатанным с двумя карандашными рисунками Норы Борхес. Прошли годы, и однажды вечером, в Париже, он сказал мне, что это была его первая публикация. Я горжусь, что помог ей появиться на свет.
Темой того рассказа был постепенный захват дома чьим-то невидимым присутствием. В последующих вещах Кортасар брался за нее не так прямо и поэтому более результативно.
Прочитав роман «Грозовой перевал», Данте Габриэль Россетти написал другу: «Действие происходит в аду, но места, неизвестно почему, носят английские названия». То же самое у Кортасара. Его герои – самые обычные люди. Их связывает рутина случайных привязанностей и столь же случайных размолвок. Обстановка – марки сигарет, витрины, прилавки, бутылки виски, аптеки, аэропорты и перроны – тоже самая обычная. Тут читают газеты и слушают радио. Топография – то буэнос-айресская, то парижская, и сначала может показаться, будто речь идет о простой хронике. Но мало-помалу понимаешь, что это не так. Рассказчик умело втягивает нас в свой чудовищный мир, где счастливых нет. Этот мир проницаем, сознание человека может здесь вселиться в животное и наоборот. Кроме того, автор играет с материей, из которой сотканы мы все: я говорю о времени. В некоторых рассказах две временные цепочки сплетаются или подменяют друг друга.
Стиль кажется небрежным, но каждое слово взвешено. Передать сюжет кортасаровской новеллы невозможно: в каждой из них свои слова стоят на своем месте. Пробуя их пересказать, убеждаешься, что упустил главное.
«Апокрифические Евангелия»
Перевод Б. Дубина
Читая эту книгу, мы чудом возвращаемся к первым векам нашей эры, когда религия воплощала страсть. Догматы Церкви и рассуждения богословов последовали потом; вначале самой важной была новость, что Сын Божий тридцать три года существовал в образе человека – подвергнутого бичеванию и распятию человека, чья смерть искупила грехи всех потомков Адама. Среди книг, несших эту новость, были и апокрифические Евангелия. Сегодня слово «апокрифический» обозначает «поддельный» или «ложный», хотя первое его значение – «тайный». Апокрифические тексты охранялись от непосвященных, читать их дозволялось лишь избранным.
Независимо от нашего маловерия, Христос – самый живой образ в памяти человечества. Свое учение, сегодня охватившее планету, ему довелось проповедовать в глухой провинции. Двенадцать его апостолов были людьми неграмотными и бедными. За исключением нескольких начертанных на земле и тут же стертых слов, он ничего не написал. (Пифагор и Будда тоже излагали свое учение вслух.) Доказательствами он не пользовался, естественной формой его мысли служила метафора. Осуждая пышную тщету погребений, он говорил, что мертвецов хоронят такие же мертвецы. Осуждая лицемерие фарисеев – что они похожи на раскрашенные гробы. Он умер молодым на кресте, который в те времена был виселицей, а теперь стал символом. Не подозревая о его беспредельном будущем, Тацит бегло сообщает о нем и именует Хрестом. Никто до такой степени не повлиял и не влияет сегодня на ход истории.
Эта книга не противоречит каноническим Евангелиям. Она лишь рассказывает ту же биографию с непривычными вариациями. Повествует о неожиданных чудесах. Так, она сообщает, что пятилетним мальчиком Иисус слепил из дорожной глины птиц и те, к изумлению его приятелей по играм, вдруг взлетели и, распевая, исчезли в небе. Приписываются ему и жестокие чудеса, на которые способен всемогущий ребенок, еще не наученный разуму. В Ветхом Завете ад (Шеол) – это могила; в терцинах «Божественной комедии» – разветвленная система подземных темниц с точнейшей топографией; в этой книге так зовут героя, который ведет спор с самим Князем Тьмы, Сатаной, и славит Господа.
Вместе с каноническими книгами Нового Завета эти забытые на много веков и воскрешенные сегодня апокрифы – самые древние орудия христианской веры.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?