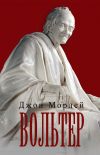Текст книги "Вольтер. Гегель. Шопенгауэр (сборник)"
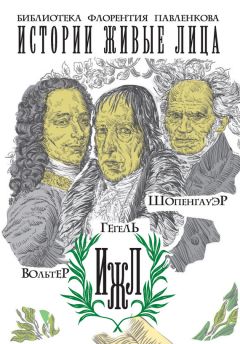
Автор книги: И. Каренин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Вольтер не только исследует творения библейских писателей, он с ними своеобразно полемизирует, как со своими литературными противниками: острит, негодует, ловит их на противоречиях. Он старательно подбирает аргументы, чтобы доказать невозможность даже таких библейских событий, в которых нет ничего чудесного, и приходит в восторг, если случайно наталкивается на аргумент, которого раньше не знал. Характерен в этом отношении рассказ о посещении его знаменитым скульптором Пигалем, приехавшим в Ферней, чтобы сделать статую хозяина замка. Вольтер не соглашался позировать, уверял, что раз у человека нет лица (от худобы), нельзя делать его статуи, и нарочно гримасничал и шевелился, едва гость принимался за работу. Но вот случайно зашла речь об отливке статуй, и Пигаль заметил, что эта операция требует довольно продолжительного времени. Такой аргумент против золотого тельца, на отливку которого, по мнению Пигаля, понадобилось бы полгода, так обрадовал Вольтера, что в благодарность он отдался в полное распоряжение художника, и модель статуи была благополучно окончена. То же своеобразное, полемическое отношение к Библии выражается у Вольтера и в насмешках над теорией, по которой моря покрывали когда-то современные материки и даже горы. В пользу этой теории приводили то соображение, что на горах находят окаменелости рыб и морские раковины. «Но не проще ли, – спрашивает Вольтер, – предположить, что рыб занесли на горы путешественники, а относительно раковин стоит только вспомнить, как много приносилось их с берегов Сирии крестоносцами и пилигримами». Вольтер не знаток в этой области, и, вообще говоря, он не любит рассуждать о том, чего не знает, но этой теории он не мог не преследовать, потому что она напоминала ему о потопе. Старательно критикуя библейские события, он в то же время так сжился с Библией, что относился далеко не хладнокровно и к библейским личностям. К одним он чувствовал вражду, другим покровительствовал. Царя Давида он ненавидел всей душой, а Саула горячо защищал против несправедливостей Самуила. К Соломону у него было двойственное отношение: порицая его за некоторые поступки в начале царствования, он, в общем, относился к нему хорошо и даже называл Фридриха «Соломоном Севера» в разгар «величайшей» дружбы с прусским королем. «Экклезиаста» и «Песнь песней» он перевел стихами, приложив также и подстрочный перевод подлинника.

Гробница Вольтера.
Гравюра Дж. Зиммерли
Собственная философия Вольтера, изложение его положительных взглядов не так велико. Хотя в полном собрании сочинений этого автора оно занимает довольно значительное место, но это происходит от многочисленных повторений в разных сочинениях одних и тех же положений, часто подтверждаемых одними и теми же аргументами. Друзья указывали Вольтеру на эти повторения. «Да, да, – отвечал он, – повторяюсь и буду повторяться, пока люди не исправятся». Он не любил делать вторых изданий своих мелких произведений, а коль расходилась одна брошюра, писал другую на ту же тему, – в другой форме, но с тем же содержанием, изменяя его лишь по некоторым вопросам: о зле в мире, о душе, о нравственности, о наградах и наказаниях Божеством человека. По этим вопросам Вольтер не только меняет свои взгляды, но непрерывно противоречит себе, и не раз в двух произведениях, изданных непосредственно одно после другого, под разными псевдонимами, говорит противоположные вещи.
Вольтер – не систематический мыслитель, а по преимуществу борец, пропагандист и, пожалуй, учитель. Для него практические выводы из теоретических положений часто дороже самих положений. Для него в высшей степени важны тактические соображения о том, как отразится данная мысль в умах последователей, как отзовутся на нее противники двух противоположных направлений: клерикалы и атеисты, не считая Ж.-Ж. Руссо и его последователей, стоящих в стороне от тех и других. Не следует давать противникам никакого оружия в руки; нужно, освобождая читателей из-под авторитета духовенства, предохранять их в то же время от атеизма. Эти правила, несомненно, руководят Вольтером в его пропагандистской деятельности. Поэтому не всегда можно легко и с уверенностью сказать, что в этой массе контрабандных произведений высказывается автором лишь потому, что таково его искреннее убеждение, а что говорится по тем или другим тактическим соображениям. Некоторым пособием в этом отношении может для нас служить одно произведение, стоящее совершенно особняком от других, – это «Трактат о метафизике», написанный еще в Сирее и составляющий первое цельное изложение философских взглядов Вольтера. Он не предназначался для печати, а исключительно для одной только г-жи Дю Шатле, и действительно не был напечатан при жизни автора. На его содержание не могли влиять никакие посторонние соображения. Можно поэтому с уверенностью сказать, что взгляды, перенесенные из этого сочинения в фернейские произведения Вольтера, составляют его действительные убеждения. Хотя никоим образом нельзя заключать обратное, что все мнения, отличающие фернейские произведения от «Трактата о метафизике», высказывались лишь под влиянием тактических соображений: между «Трактатом» и этими произведениями прошло около тридцати лет, и взгляды автора могли, естественно, измениться.
Уже в этом сирейском произведении Вольтер приводит свои два главных доказательства бытия Божия, которые неизменно повторяет и впоследствии: всё в природе устроено разумно, во всем заметна целесообразность, – следовательно, мы должны заключить, что всё в ней устроено высшим разумным существом с мудрыми целями. «Из одного этого, – говорит Вольтер, – я не могу еще заключить, что высший разум, так искусно устроивший материю, создал ее из ничего, – не могу заключить о его бесконечности». К этим заключениям нас приводит другой аргумент: «Я существую, значит, нечто существует, а так как ничто не может само себе дать существования, – следовательно, все получило его от одного вечно существовавшего Бытия, которое и есть Бог. Из этого же необходимо следует, что Бог бесконечен во всех отношениях, так как что же может ограничить его?» Он и здесь уже говорит об атеистах, но спорит с ними только по существу, совсем не затрагивая вопроса о вреде их учения. Вольтер вообще придерживался того мнения, что прогресс знания подрывает атеизм, заставив, например, повсюду признать существование зародышей вместо прежнего представления о происхождении низших организмов из гниющих веществ. Он думал, что философия Декарта, с ее отсутствием пустоты в природе, с ее вечностью и бесконечностью материи, легче допускала возможность обходиться без идеи Творца, чем философия Ньютона с ее пустотою, атомами и конечностью материи. Он был убежден, что Ньютон, взгляды которого он популяризировал, докажет существование Бога французским «мудрецам». Поэтому до появления на сцене во второй половине XVIII века материализма, признававшего основные положения Ньютона и тем не менее отбросившего идею Творца, атеисты не беспокоили Вольтера.
Те мысли «о душе», которые были высказаны Вольтером в «Английских письмах», почти с буквальной точностью повторяются и в «Трактате о метафизике». В этом отношении Вольтер всегда остается верен своему учителю Локку. По вопросу о свободе воли он и в «Трактате», и в написанных тоже в тридцатых годах «Основах философии Ньютона» признает за ней свободу «безразличия». Под влиянием страстей или сильных внешних импульсов воля несвободна, но в совершенно спокойном состоянии человек может по произволу выбирать между несколькими действиями. Здесь он отступает от Локка, но впоследствии, очевидно, глубже вдумавшись в этот вопрос, уже всегда – согласно с Локком – настаивает на том, что наша свобода заключается в возможности делать то, что хотим, но никак не в свободе хотеть или не хотеть. Наши желания всегда имеют достаточную причину в той или другой идее, идеи же в нас непроизвольны. Свобода безразличия, то есть беспричинного выбора, – бессмыслица.
На вопрос, как согласить идею всемогущего и всеведущего Бога с существованием в мире зла нравственного и физического, Вольтер в «Трактате о метафизике» отвечает, что мы не имеем иного понятия о добре и зле, о справедливости и несправедливости, кроме того, которое составили себе о действиях полезных или вредных для общества и сообразных или несообразных с теми законами, которые сами установили. Это идея отношений между людьми, которая совершенно неприменима к понятию о Боге. Говорить, что Бог несправедлив, потому что пауки едят мух, а люди живут только 80 лет, совершенно бессмысленно. Мысль об относительности понятий о добре и зле Вольтер развивает дальше в главе «О добродетели и пороке». Для существования какого бы то ни было общества, говорит он, необходимы законы, – даже для игры необходимы те или другие правила. Существующие законы чрезвычайно разнообразны. В одних странах они наказывают за то, что дозволено в других, и наоборот.
«Все народы согласны лишь в одном: называть добродетелью дозволенное их законами и пороком — запрещенное… Добродетель есть привычка делать то, что нравится окружающим людям; порок – привычка делать то, что не нравится, а нравятся людям поступки, полезные обществу… Меня могут спросить, – продолжает Вольтер, – добро и зло, добродетель и порок существуют, следовательно, не сами по себе, а лишь по отношению к нам? Да, так же точно, как сладкое и горькое, теплое и холодное существуют не сами по себе, а по отношению к нам. Тогда, скажут иные, если нам выгодно убивать, красть, нас ничто не удержит. Я могу ответить этим людям только одно: они, вероятно, будут повешены».
Во всех этих рассуждениях Вольтер является точным последователем Гоббса и Локка, популяризировавшего мысли Гоббса об относительности наших нравственных понятий.
А вот что говорит наш автор в трактате «Le philosophe ignorant»[1]1
«Невежественный философ» (фр.).
[Закрыть], написанном в 1766 году, обращаясь к тому же Гоббсу: «Напрасно удивляешь ты читателей, почти успевая доказать им, что все законы условны, что справедливо и несправедливо лишь то, что условлено называть таковым в данной стране». Вольтер соглашается, что трудно с точностью определить границы между справедливым и несправедливым, как между слабыми оттенками цветов; но главные цвета бросаются в глаза так же точно, как и главные нравственные понятия. Это изменение взгляда на нравственность находится в тесной связи с явившимся у Вольтера в шестидесятых годах третьим доказательством бытия Божия, на котором он настаивает теперь едва ли не больше, чем на двух первых. «Важнее метафизических споров, – говорит он в «Философском словаре», – будет взвесить, не необходимо ли для общего блага нас, несчастных мыслящих тварей, признать существование карающего и награждающего Бога, Который бы служил для нас уздою и утешением?» Вольтер находит, что это совершенно необходимо. Общество атеистов может существовать, по его мнению, лишь в том случае, если оно состоит из одних философов, при этом людей богатых, любящих спокойствие и избегающих трудов и опасностей, сопряженных с занятием общественных должностей. Но как для народа – для бедняков, так и для лиц, занимающих какие бы то ни было должности, вера в карающего и награждающего Бога необходима: это единственная гарантия против тайных преступлений, избегающих людского правосудия. «Если бы Бэйлю (утверждавшему, что общество атеистов может существовать) пришлось управлять пятью-или шестьюстами крестьянами, он не замедлил бы возвестить им награждающего и карающего Бога». С другой стороны, «я не желал бы иметь дела с правителем-атеистом, который нашел бы для себя выгодным истолочь меня в ступе: я совершенно уверен, что был бы истолчен», – утверждает Вольтер. Иметь дело с фанатиком, разумеется, еще того хуже, – тот если не истолчет, то сожжет человека уже без всякой выгоды, и спастись от него гораздо труднее. Но во всяком случае гибельны обе крайности. Спасение в одном деизме, или теизме, как безразлично называет Вольтер свою религию.
Вольтер утверждает теперь, что мораль одна у всех людей, – иногда он прибавляет: у всех разумных, размышляющих людей; иногда же не делает никаких исключений, но тогда сводит эту мораль к единственному правилу: «Не делай другим того, чего не желаешь, чтобы делали тебе другие». Расширяя, таким образом, общечеловеческую мораль, Вольтер не находит, чтобы ей противоречил даже обычай некоторых дикарей съедать своих старых отцов, – обычай, приводимый Локком в пример крайнего разнообразия относительности людских понятий о справедливости. Дикарь, съедающий отца, думает Вольтер, желает, вероятно, быть в свою очередь съеденным своими детьми, когда слишком состарится и полная опасностей жизнь дикаря станет ему в тягость. Иногда Вольтер приводит, впрочем, два-три примера определенных нравственных истин, признанных всем человечеством, и тогда мы с удивлением встречаем среди этих примеров следующий, поражающий своим субъективизмом: «Если я потребую у турка, гебра или жителя Малабарского берега данные им взаймы деньги… все они согласятся, что справедливость требует их заплатить…» («Phil. ignorant»). Невольно вспоминается, что Вольтер никому ничего не был должен, но имел очень неисправных должников, вроде герцога Вюртембергского.
Относительно способа наказания Божеством человека, Вольтер противоречит себе в различных произведениях, по-видимому, умышленно. В «Проповедях», изданных в 1767 году от имени английских духовных лиц, доказывается необходимость будущей жизни. Добродетельные люди часто страдают в этой жизни, и божественная справедливость осталась бы неудовлетворенной, если бы их не ждала награда за гробом. Но в «Диалоге между А., В. и С»., изданном вскоре после «Проповедей», мы находим рассуждения, расходящиеся с мнением благочестивых пасторов. «Вечный принцип так устроил вещи, – говорит А., представитель мнений автора, – что, если моя голова хорошо организована и мой мозг не слишком сыр и не слишком сух, я имею мысли, за что и благодарен от всего сердца». И далее. «Понятие об отдельной от тела душе, – говорит тот же А., – явилось следствием несчастной привычки принимать слова за реальные существа, чему в древности немало способствовал Платон своим философским жаргоном».
В «Истории Женни», романе, выданном автором за произведение английского теолога Шерлока, одно из действующих лиц говорит своему сыну, сделавшемуся атеистом и отчаянным негодяем, что нельзя быть уверенным в полном исчезновении вместе с жизнью того, что в нас мыслит и желает и что называли когда-то монадой. Бог может сохранить монаду после смерти и поступить с нею сообразно с ее поведением при жизни. Но в следующем же произведении, где заходит речь о том же предмете, в диалоге «Соф роним и Аделос», Вольтер говорит устами Софронима, разделяя его точку зрения.
Упорное подчеркивание Вольтером полезности веры не раз служило поводом к заподозриванию фернейского философа в том, что, в сущности, он не верит в Бога, а лишь «изобретает» его согласно знаменитой фразе из одного направленного против атеистов стихотворения. Но стоит вчитаться в произведения Вольтера, чтобы убедиться в том безусловном, решающем значении, какое имело для него телеологическое доказательство бытия Божия. Он не допускал и мысли о возможности движения, развития, присущих самой материи. Она представлялась ему неподвижной, мертвой, бесформенной массой, над которой оперирует действующая по плану внешняя разумная сила, вносящая в материю порядок, дающая ей форму и сообщающая движения. Часовщик, архитектор со своими результатами деятельности представляют для Вольтера полнейшую аналогию с творящей силой и материей. «Природы нет, – твердит он в своих произведениях, – а существует лишь искусство. Каждая соломинка свидетельствует о создавшем ее великом художнике». Тем же дуализмом проникнуты и его социальные и политические взгляды. Народ для него – та же неподвижная, бесформенная масса. Думать за нее, давать ей ту или другую форму могут только высшие, образованные классы. До сих пор масса была зла и фанатична, потому что подражала направлявшему ее духовенству. Когда высшие классы будут состоять из деистов, их терпимость и благожелательность сообщатся и массам посредством примера с их стороны и подражания – с ее.
Вера в Творца и устроителя Вселенной лежала в самой основе миросозерцания Вольтера; зато относительно всех других вопросов, соприкасающихся с этой верой, он находился, по-видимому, в том положении, которое выразил в словах А. в упомянутом нами диалоге: «Относительно всего остального (кроме существования Бога) я брожу ощупью, в потемках. Сегодня я утверждаю явившуюся у меня идею, завтра я сомневаюсь в ней, послезавтра я отрицаю ее. Все добросовестные философы, – добавляет А., – выпивши немного, сознавались мне, что находятся в том же положении». Далее тот же А. поясняет до некоторой степени и отношение Вольтера к вопросу о «полезности». На возражения С., не допускающего, чтобы всемогущий Творец стал наказывать созданные им существа, которые по необходимости совершенно бессильны в его руках, А. отвечает: «Знаю я все, что можно сказать об этом темном предмете, но я об этом не рассуждаю».
Вольтер и Руссо, имена которых так тесно связаны в умах потомства, гробы которых народный энтузиазм поставил рядом в Пантеоне, а кости реакция выбросила в одну яму, были при жизни непримиримыми врагами.
Уже первое произведение Руссо, обратившее на него внимание публики, «Речь о влиянии наук и искусств», должно было показать в нем Вольтеру человека диаметрально противоположных с ним взглядов по одному из самых существенных вопросов. В 1755 году Руссо прислал ему свое второе произведение – «Речь о неравенстве между людьми», – еще резче, в более широкой области, расходившееся со взглядами Вольтера. Дикари, являющиеся у Руссо единственными нормальными представителями человеческого рода, были для Вольтера просто «животными, еще недоразвившимися до человека… Это гусеницы, которые не сделаются бабочками раньше нескольких столетий» («Dial. entre A., В., С».). Вольтеру было тем легче оставлять гусениц за пределами человечества, что он не признавал единства человеческого рода и находил, что приписывать общих предков неграм, краснокожим и европейцам так же неосновательно, как было бы неосновательно предположить, что те деревья, которые застали в Америке первые переселенцы из Европы, не были непосредственным продуктом американской почвы, а произошли от какого-то одного дерева, когда-то выросшего в Старом Свете. Этот взгляд на дикарей не мешал, впрочем, Вольтеру возлагать на них иногда (в некоторых диалогах и отчасти в романе «L’ingénu»[2]2
«Простодушный» (фр.).
[Закрыть]) обязанность побивать своими аргументами бакалавров теологии и священников. Восхваление дикарей было в глазах Вольтера только нелепо, но мнение Руссо о собственности как источнике всех бедствий и преступлений человечества возбуждало его негодование. Для Вольтера уважение к собственности было, наоборот, одним из немногих нравственных правил, одинаково свойственных всему человечеству.
Тем не менее всегда отвечавший любезностью на любезность, Вольтер письмом поблагодарил Руссо за присылку «Речи», коснувшись ее содержания, правда, в шутливой, но, в сущности, лестной форме. «Никогда еще, – писал он, – не было потрачено столько ума на попытку возвратить людей к глупости. Читая вашу книгу, чувствуешь желание пойти на четвереньках. Но шестидесятилетняя привычка заставляет меня предоставить это естественное положение людям, более достойным его, чем мы с вами». И тут же он спрашивает Руссо о здоровье и приглашает к себе в Делис «пощипать нашей травы». Руссо, со своей стороны, почтительно благодарит за это письмо Вольтера, называя его «нашим общим учителем». Он и впоследствии, уже поссорившись, признавал, что сочинения Вольтера имели на него некоторое влияние. «Он сам не думает, но заставляет думать других», – говорил Руссо о фернейском философе.
Обмен любезных писем давал Руссо некоторое право обратиться к Вольтеру по поводу его «Поэмы о бедствии Лиссабона» с частным письмом, в котором он восстает против пессимизма автора поэмы и защищает мир и его Творца от возведенных на них обвинений. Руссо сам обращает внимание на странность того обстоятельства, что из них двоих оптимистом является он, бесприютный бедняк, а пессимистом – богатый, знаменитый, обладающий громадным талантом и влиянием Вольтер, имеющий, казалось бы, всё для того, чтобы быть счастливым.
Но, в сущности, эта перемена ролей была только кажущейся, и пессимизм Вольтера был гораздо поверхностнее недовольства Руссо. Этому последнему не нужно было землетрясений, чтобы убедиться в существовании зла в мире; только видел он его не там, где Вольтер. Мир был для него прекрасен, несмотря на землетрясения и на то, что ласточка ест червяков, а коршун – ласточку. С этим можно помириться. Неизмеримо больше зла в людских отношениях, в том, что «горсть людей утопает в излишествах, когда голодная масса нуждается в необходимом». Но это зло люди сами создали; из рук Творца они вышли равными и счастливыми.
Пессимизм землетрясений и коршунов совершенно безнадежен – что тут поделаешь? – но в то же время и совершенно бесплоден. Он может дать тему для двух-трех художественных произведений, но на нем нельзя остановиться на продолжительное время. И Вольтер скоро оставил его в покое, вспоминая время от времени лишь по поводу «происхождения зла на земле». Вольтер, как мы знаем, не задавался слишком широкими и далекими целями. Нужно добиться уничтожения влияния духовенства на правительственные учреждения, свободы убеждений для мыслящих людей – вот главная задача. «Величайшая услуга, которую можно оказать человеческому роду, – пишет он в 1765 году Д’Аржанталю, – заключается, по моему мнению, в том, чтобы отделить глупый народ от порядочных людей, и мне кажется, что это дело значительно подвинулось. Нельзя выносить нелепого нахальства людей, которые говорят нам: «Я хочу, чтобы вы думали так же, как ваш портной и ваша прачка». В таких размерах задача была действительно близка к осуществлению. Огромное большинство дворянства, значительная часть буржуазии уже принадлежала к «порядочным» свободомыслящим людям, – «нелепое нахальство» не могло быть продолжительным. Фанатизм, правда, еще показывал когти, и к главной задаче у Вольтера скоро присоединилась борьба с безобразным судопроизводством старых парламентов, но и тут успехи следуют за успехами, победа возможна и даже близка.

Погребение Франсуа-Мари Аруэ Вольтера в прижском Пантеоне.
Гравюра Клода-Николя Малапо
По существу же современный общественный строй, кроме некоторых подлежащих отмене средневековых законов, вполне удовлетворителен, и в главных, основных чертах все в нем должно оставаться по-прежнему: просвещенные богатые господа – богатыми господами; глупый народ – народом, а лакеи – лакеями. Современный строй казался ему старчеством человеческого рода. Молодость человечества лежала позади, по крайней мере для народов, уже цивилизованных. Что еще возможно, так это задержать успехи старчества в особенности там, где его проявления – утонченность нравов и неравенство состояний – сравнительно еще невелики, как, например, в его родной Женеве.
Письмо в защиту Провидения не понравилось Вольтеру, и он уклонялся от ответа, сославшись на нездоровье. Это уже обидело очень обидчивого Руссо. А Вольтер между тем, будучи страстным любителем театра, принялся ставить у себя спектакли, на которые рвались женевцы, несмотря на запрещение Кальвина. Наличие такого соблазна для его соотечественников до глубины души возмущало Жан-Жака, который считал театр лучшим средством портить нравы, развивать в людях вкус к роскоши и отдалять их от чуждой театру массы. Копия с его письма к Вольтеру попала в руки бдительных хищников-издателей и была напечатана. Вольтер мог подумать, что напечатал ее сам Руссо, и последний счел нужным оправдываться, но воспользовался этим случаем, чтобы выразить Вольтеру новые для него чувства: «Я не люблю вас, милостивый государь», – так начинает он свое письмо, и, перечисливши вины Вольтера: развращение женевцев, внушение им недобрых чувств к нему, Руссо, и прочее, – он опять повторяет, что ненавидит Вольтера, которого когда-то любил. На это признание в ненависти не последовало ответа, но в письмах к друзьям Вольтер называл уже Руссо не иначе как сумасшедшим. «Новую Элоизу», поразившую общество, которое свело любовь к забаве, своей глубокой страстностью, он нашел неимоверно скучной и подверг самой беспощадной критике. В 1762 году «Эмиль» и «Общественный договор» Руссо сжигаются сперва в Париже, а затем – в Женеве. Бежавшего автора вскоре изгоняет также Бернское правительство, и он находит временное убежище лишь в невшательских владениях Фридриха II. Узнав о бедственном положении Руссо, Вольтер через общих знакомых опять зовет его к себе и обещает приют и безопасность. Но вскоре до него доходят слухи, что Руссо в письмах и разговорах обвиняет его в подстрекательстве к тем преследованиям, которым он подвергся со стороны Женевского и Бернского правительств. Такое тяжелое обвинение было более чем несправедливо. Вольтер помогал, наоборот, сторонникам Руссо, пытавшимся в Женеве добиться отмены направленного против него приговора. Затем окончательно и бесповоротно Руссо восстановил против себя Вольтера, назвав его печатно автором некоторых из тех контрабандных произведений, которые тот приписывал умершим или вымышленным личностям. После такого поступка Вольтер отбросил всякую сдержанность и уже не щадил красок на изображение Руссо. Придуманная им генеалогия, по которой характер автора «Эмиля» объяснялся его происхождением от собаки Герострата, встретившейся с псом Диогена, принадлежит еще не к самым злым выходкам Вольтера против Руссо. Из них двоих первый громче, чаще и резче нападал на противника, но как инициатива вражды, так и избыток ненависти принадлежали, в сущности, последнему.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?