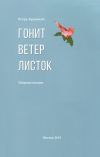Текст книги "Опыт моей жизни. Книга 1. Эмиграция"
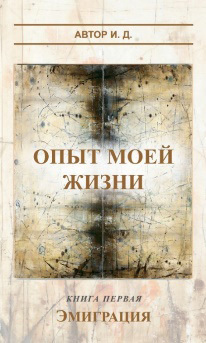
Автор книги: И.Д.
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Но, если ты будешь никем, тебя никто не возьмет замуж, – продолжал папа.
– А зачем выходить замуж, если в конечном итоге все равно умрет он, умру я, умрет наша любовь. Любовь, которая умрет, не имеет смысла. Вы поймите, поймите, замужем или нет, ученым или неучем, большим человеком или никем – Я ВСЕ РАВНО УМРУ!!! Так какая тогда разница?
– Но, если ты не выйдешь замуж, ты не сможешь иметь детей. А дети – это твое бессмертие, – сказал папа.
– Это как?
– Ты умрешь, а дети останутся. Дети – это часть тебя. Значит, ты не умрешь.
Я задумалась. Потом не согласилась.
– Во-первых, я – это не вы с мамой. Я – это я. А значит, и мои дети – это уже не я. Во-вторых, если бы я действительно могла оставить что-то бессмертное, тогда моя жизнь, возможно, имела бы смысл. Но ведь дети мои – тоже смертны! И они умрут!
– Они тоже оставят после себя детей.
– Те тоже, в свою очередь, умрут!
– Значит, раз все умрут, получается, нет смысла жить?
– Наконец ты понял! Именно! Жизнь бессмысленна.
– Значит, надо лежать целыми днями и ничего не делать?
– А для чего же суетиться, если в этой суете нет никакого смысла?
Папа с недоумением смотрел на меня.
– Хорошенькая теория, чтобы не ходить в школу!
Пришел дедушка. Дедушка, хоть и не был таким современным и грамотным, как родители, он больше всех понимал меня. Он мог не понимать сложных формулировок или заумных речей, но меня он понимал всегда, даже без слов. Эта близость была результатом особенной взаимной любви, которая была между нами столько, сколько помню себя. Дед сел на краешек моей кровати, от его ветхой телогрейки пахло нафталином и табаком. Он потрепал меня по голове и сказал:
– Кутенок, у тебя что, плохое настроение?
Вмето ответа слезы так и полились ручьем у меня из глаз.
– Я знаю, милая, жизнь глупая штука, но ты же любишь своего деда, ты же не хочешь его огорчать? Если ты болеешь, значит, плохо и мне, а если ты здоровенькая – я счастлив. Нельзя лежать, кутенок, все время в постели. Лежат в постели больные. А ты должна быть здоровенькой…
Представьте, эти совершенно неубедительные слова подняли меня с постели. В тот день я пошла в школу, но через очень короткое время хандра вернулась, причем она наседала все основательней, крепче, уже никакие увещевания, просьбы, объяснения и т. д. не помогали. Я лежала в постели целыми днями, ничего не хотела, ничем не интересовалась и только постоянно плакала. Объяснение своей хандре я давала такое: не вижу смысла ни в чем!
* * *
Чтение художественной литературы было единственным занятием, занимавшим меня.
Не знаю, было ли влечение к художественной литературе вложено в меня еще Богом, при рождении, или эту любовь привили мне. У нас в доме были две огромные библиотеки. Одна – наверху, в кабинете у папы: там в основном были его книги, научные и художественные, много редких и уникальных изданий. Вторая библиотека располагалась внизу и содержала более известные произведения: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, А. П. Чехов, Собрание сочинений, Салтыков-Щедрин… Нижней библиотекой пользовались все: и дедушка, и мама, и я, а впоследствии и маленькая Танька.
К тому же, через дорогу от нашего дома была прекрасная уютная районная библиотека. В школе, на втором этаже, тоже шикарная библиотека предлагала множество интереснейших книг, в какой угодно области. То есть, я как-то уже родилась в атмосфере, где книга имела вес, имела почет и уважение. Книга была неотъемлемой частью жизни, как в школе, так и у нас в семье.
С самого детства я любила, когда дедушка читал мне сказки. Папа постоянно декламировал вслух стихи: это было его любимое занятие. Он читал их с таким выражением и с таким чувством, что каким-то образом, наверно, мне все-таки передалось, что поэзия – это восторг!
У лукоморья ду-уб зеле-еный,
Златая це-епь на ду-убе том.
И дне-ем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…
Когда папа садился пить чай, он садился и декламировал:
Выпьем! Бедная подружка,
Бедной юности моей!
Выпьем с горя, где же кружка?
Сердцу будет веселей!
Дедушка постоянно читал какие-то толстые книги: то Виктора Гюго, то Лиона Фейхтвангера, то Эмиля Золя. Много читала и мама. Все, кто ходил к нам в гости, тоже постоянно читали книги, обсуждали какие-то романы, в разговорах часто звучали цитаты из литературных произведений. Словом, книги – это то, в чем я выросла. В мире художественной литературы я чувствовала себя как рыба в воде.
Во многих романах и рассказах наших классиков главные герои тоже искали смысл жизни, как и я, переживали что-то похожее на то, что теперь переживала я.
Чехов, Толстой, Пушкин, Есенин, Некрасов… и их герои были самыми близкими мне в мире людьми, способными меня понять. Лермонтов писал один в один, именно так, как я бы могла о себе написать:
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя,
Я хочу забыться и заснуть!
Самый же «самый-самый» близкий мне автор – Лев Николаевич Толстой. Даже сейчас, когда я просто слышу или произношу имя – Лев Николаевич Толстой, – слезы наворачиваются мне на глаза. Это слезы любви, самой большой Любви в моей жизни. Я знаю, что, сколько бы лет я ни прожила и с какими бы великими людьми ни соприкоснулась в течение жизни, никогда не встречу я человека, столь близкого мне по духу. Это слезы невозместимой утраты: я еще не родилась, а самый дорогой для меня в этом мире человек уже умер.
Но вернемся в прошлое: среди нескольких писателей, близких мне по духу, с которыми меня роднили одинаковые поиски, одинаковые переживания, одинаковые конфликты, был один, кто занял главное место в моем сердце. Этот контакт, пусть противоестественный, односторонний – я да книга, оставленная автором, которого не просто нет рядом, но которого вообще нет в живых, – был теперь единственным утешением моей жизни, а мне так хотелось живого (!) понимающего человека рядом.
Среди живых людей, окружавших меня, даже близко не было, с кем можно было бы поговорить. Это и убивало. Будь рядом со мной хоть один понимающий человек, мне кажется, это дало бы мне силы. Произведения ушедших из жизни великих писателей не могли заменить полноценный живой контакт.
Всякий раз, когда я слышала, упоминали моих любимцев, – по телевизору, по радио, в школе, – у меня было ощущение тайной гордости, что этих людей, о которых с таким уважением говорят, я не просто близко знаю, но что это просто-напросто «мои» ближайшие люди. Я заметила, что все, абсолютно все, отзывались о моих любимцах с большим почтением. Значит, все, что переживаю я и что так сближает меня с этими авторами, достойно уважения?
Как-то раз, ночью, напичканная множеством томов Льва Толстого, количество перешло в качество: я закрыла книгу и поняла, что люблю Толстого так, как не буду любить ни одного человека никогда!
Любовь к Толстому наполнила мою жизнь новым нетрадиционным смыслом. Я жила частично в своем, частично в его мире, и в какой-то точке наши миры сливались. Любовь к Толстому поддерживала меня, придавала мне смелости и силы. Раз я так похожа на него, а он великий, значит, весь мой «маразм» – не маразм, а индикатор моей сложности и незаурядности?
А что, если все это непросто? А может быть, и я великая? Оставить после себя такие произведения, которыми, век спустя, захлебнется пусть хоть один-единственный человек, стать в его жизни такой же отдушиной, а главное, вызвать в чьем-то сердце такую (!!!) Любовь – ради этого стоит и жить, и мучиться, и работать – все что угодно. Я умру – а произведения мои останутся! Наглядный пример, писатели давно умерли – а каково их влияние?! Раз они имеют такой вес, значит, я не одна, кто испытывает на себе их воздействие?
* * *
Как-то раз по ТВ показывали уникальные кадры: похороны Толстого. Для меня, тринадцатилетней девочки, увидеть на своих похоронах даже сотню или тысячу людей, которые пришли не по долгу, а по зову сердца, потому что любят меня и высоко ценят мои труды, продукт моей личности и индивидуальности, – было уже достаточным стимулом, чтобы творить это нечто, благодаря чему, любовь ко мне останется даже после того, как я умру.
А передо мной был мой лидер – его любила не одна тысяча, может быть, не одна сотня тысяч. Вот к чему нужно было стремиться. Новый смысл – наметился.
После того как я забросила школу и провела в слезах и депрессии почти целый учебный год, мама, переборов страх общественного позора и соблюдая строгую секретность (это было очень стыдно в Нальчике), повела меня к психиатру.
– Подростковый период, – сказал он. – Половое созревание!
Доктор прописал мне какие-то таблетки, но они мне не понадобились, я уже, кажется, сама нашла выход.
– Я здорова! – сказала я маме в одно прекрасное утро.
– Я переболела, помучила вас всех, но я стала совсем другим человеком. Теперь возьмусь за школу, мне нужен хороший аттестат, потому что я собираюсь в Москву, поступать в Литературный институт. Мамочка, я – гений! Я буду жить в веках! Я умру, а то, что я создам, останется, так что я теперь вижу, ради чего надо жить.
Родители вздохнули с облегчением. На этом этапе они наконец поверили, что все это не было спектаклем для того, чтобы пропускать школу. Они рассказали мне, как я, еще с детства, проявляла особую занудность, желая во всем видеть смысл, все понимать.
– Ты мучила нас с тех самых пор, как заговорила, – рассказывали мне мама и папа. – Чуть ли не первым твоим словом было: «осему?» «Осему» – это «почему». Ты нас просто замучила. «Осему это? Осему то?» Все ты хотела знать: «осему».
– Ну что, например?
– Например, глажу я наволочку, – рассказывала мама, – а ты меня спрашиваешь, для чего наволочки надевают на подушки. Подушке, что, холодно? Нет, отвечаю я, подушкам не бывает холодно, они не живые. А зачем же тогда на нее надевать наволочку? – Я не знала, что тебе ответить, а ты, такая занудная, пока не получишь убедительный ответ, могла сутками меня пытать и не забывала вопросов, которые тебя интересовали. Все спрашивала: зачем надо надевать теплую наволочку на подушку, если ей не холодно?
Глава пятая
Июль – сентябрь 1981 г.
Мы сняли с Леней однобедрумную[7]7
Двухкомнатную, от англ. one bedroom apartment – квартира с одной спальней.
[Закрыть] квартиру на Авеню Ю и Ист Седьмой.
Мама приглашала на нашу свадьбу всех, кого видела, даже тех, кого видела впервые в жизни. Она старалась как могла скрасить свадьбу дочери, которая пришлась как раз на время нашего приезда в чужую страну. Самое худшее, что можно пожелать человеку с Кавказа, да и, наверное, вообще человеку, – это «пустую» свадьбу, или «пустые» похороны. Конечно, все понимали, что дома была бы совсем другая свадьба, что здесь нас пока никто не знает… И все же мама старалась как могла.
Удивило меня другое: пришли все, кого мама пригласила. Пришли, несмотря на то, что совершенно не знали нас. Еще и подарки принесли: деньги в конвертике, как здесь принято. Неужели одиночество такая суровая проблема в Америке? Ведь это мы только что приехали, а они здесь живут давно. Не могли они с такой чуткостью отнестись к нашему одиночеству, если бы сами не страдали тем же: сытый, как правило, голодному не друг. Спасибо вам, люди, я даже не знаю ваших имен, но спасибо тем более.
Тетя Хиба с дядей Стасом и дядя Денис дали взаймы моим родителям кучу денег, свадьбу устроили шикарную. Конечно, родителям спасибо, только если по мне, то они зря все это затеяли. Разве это свадьба? Что мне все эти лакеи в костюмах, этот блеск люстр, обильное угощение? Спектакль все это. Все, кто мне дорог, остались там. Свадьбу справляли во льду и в холоде, несмотря на роскошь. Какие заморские кушанья и парадные костюмы могут компенсировать отсутствие близких людей?
Все подарки, которые гости принесли на свадьбу, отдали нам с Леней, чтобы «было, с чего начать жизнь». Я тогда не понимала, сколько лет потом предки должны были себе во всем отказывать, прежде чем папа, который наконец устроился на работу чертежником, смог эти долги вернуть. Я совершенно не думала о деньгах, и меня глубоко оскорбляло, когда Леня о них думал. Вроде поэт, талантливый человек, а такой меркантильный!
Закончился вечер свадьбы, белый лимузин подвозит молодоженов к их новому дому. Впервые в жизни мы одни в своей новой квартире! Я в подвенечном белом наряде, мне шестнадцать лет, белые живые цветы у меня в волосах. Открыли дверь, прошли в спальню… Что, по-вашему, делает юный жених (ему 21 год!), который к тому же еще поэт, оставшись наедине со своей невестой? Бегом бежит к широкой двуспальной кровати, поскольку ничего шире в доме нет, и высыпает на нее содержимое огромного пакета – конвертики с деньгами, подаренные нам в этот вечер. Каково?
Я, разумеется, ни слова не сказала, я воспитанный человек. Да и что тут скажешь: бросайся на меня, не бросайся на деньги? Но в корзиночку, где у меня уже лежала тяжеленькая черная обида, уложила еще одно тяжеленькое пушечное ядрышко. Теперь у меня их стало две – сорокапудовых чугунных обиды.
У нас медовый месяц, а он объясняет мне, что это Америка, что он с большим трудом нашел новую работу (он теперь чертежник в какой-то лаборатории, слава Богу, в Нью-Йорке), что на нем теперь ответственность за нас троих и потому он каждый день будет ходить на работу, не пропуская. А это означает: уход в семь утра, приход в семь вечера.
После двенадцатичасового рабочего дня – он уставший. Не успев отдохнуть, он уже должен идти спать, т. к. завтра вставать в шесть часов утра на работу. Нормально?!
А еще история. После того как сорок часов кряду мой поэт считал, сколько же денег ему там подарили, наконец все-таки наступил момент, когда мы разделись и легли. Теперь я законная жена: все по правилам у нас, все по расписанию!
Леня причиняет мне боль. Он такой неуклюжий, не знаю, что он там делал со своими москвичками (кстати, при мысли о москвичках я вообще зверею!), только мне он причиняет одну боль. После того как Леня доводит меня до слез, он вообще решает идти спать. Мы спим с ним, как брат и сестра, нежно любящие друг друга, и он утверждает, что, чтобы привыкнуть друг к другу, мы должны просто поспать, ничего не пытаясь несколько недель, а может быть, месяцев. Как вам это нравится?! Я не просто была беременная девственница, но я еще и полсрока отходила, все еще оставаясь девственницей. Вот это страстная любовь! Почти такая же, как в фильмах, когда, не доходя до кровати, срывают с тебя одежды, сгорая от нетерпения.
* * *
Боясь прозевать колледж и на этот год, я начала хлопоты по оформлению еще в августе. Мой первый визит в Бруклинский колледж – день регистрации. Бесчисленное количество секретарей. Из одной комнаты посылают в другую, из одного корпуса в другой. Бурленье на сплошном этом английском языке, уставленные на меня глаза… ощущение собственной тупости… Не понимаю, не понимаю, даже после третьего, медленного (для кретинов) повтора – не понимаю. Хоть убей. Уф, холодный пот прошибает от этого общения с секретаршами!
В конце концов вышла во дворик, отдохнуть от напряжения, т. к. каждое слово, каждое предложение, перекинутое на этом языке, отнимало у меня баснословное количество энергии. Как будто слова и предложения – это насосы, выкачивающие из меня жизненную силу, а поймать слово, сказанное кем-то, было так же тяжело, как поймать одного из летающих по обложенному гранеными льдами небу воробьев.
Института я ждала всю жизнь, как начало молодости. С окончанием школы заканчивалось детство, а в институте открывалась молодость со всеми ее недоступными до сих пор радостями. Как же так получилось, что я пришла на первый курс беременная? Я и это пузатое тело не могли быть одним и тем же. Я – худенькая. Я – сама ребенок. Еще вчера я сидела за школьной партой. Эта – семейная, горкоподобная и беременная – не я.
Однако нужно было ходить в этом околдованном виде, как Василисушке в образе лягушки. Мало этого, лягушка все время ходила со съеженной осанкой, т. к. все разговаривали с ней, как с дегенератом, растягивая каждое слово и по нескольку раз повторяя одно и то же. Она не могла смириться с тем, что все, абсолютно все в этой чертовой стране смотрели на нее с чувством превосходства, т. к. они свободно говорили по-английски, а она ни в зуб ногой.
Я села на мраморную скамейку, мягко освещенную мраморно-прохладным светом искусственного солнца. Мимо меня туда-сюда ходили здоровые ядреные американские студенты. Глаза их, губы, кожа, сердце, мозги – все было тоже искусственное, мраморно-холодное. Я была уверена, возьми я любого из них за руку, это будет искусственно подогретый мрамор. На мраморных деревьях сидели из камня выточенные воробьи: тончайшая работа современной техники – выточены из камня, а хлопают крыльями, поворачивают каменные головки, глядят подвижными каменными глазами, даже летают.
* * *
Первый день занятий в колледже.
На стене, в коридоре, огромная надпись: «Но вэпон ин классрумз!» Я усомнилась в своем английском, заглянула в словарь: «вэпон» – «оружие». Уточнила у стоявших рядом студентов, правильно ли я поняла: все так, оружие в классах запрещено. Вытаращила глаза и онемела.
Какое оружие? Откуда может взяться оружие? Оружие это что, котлета какая-нибудь или ранец, чтобы его принести в класс, его ведь нужно иметь. Вокруг смеются: Вэлкам ту Америка![8]8
Добро пожаловать в Америку, англ., welcome to America!
[Закрыть]
Первый урок: английский как второй язык. Дали тест, чтобы определить, в какой класс меня посадить. Надо написать сочинение на одну из трех тем: «Как я приехала в Америку», «Как мне жилось в моей стране» и что-то там еще. Я выбрала, естественно, про жизнь в своей стране.
Чистый, белый лист бумаги. Сказать столько хочется! На русском – ух я бы сейчас вылила! Невольно, с болью вспомнила, что я всегда была одной из лучших в классе по части сочинений, как мои сочинения занимали первые места на школьных конкурсах, как между мной и нашей учительницей по русскому и литературе был установлен особый негласный контакт. Я знала, что она, единственная из всех окружавших, поймет все. Я писала для нее одной. Она же, действительно, понимала, ставила четверку и оставляла комментарии на полях, которые были для меня важнее четверки. Комментарии ясно говорили, она все поняла и оценила, а четверка или пятерка, эти мерки для бренного мира, который я презирала. И все же я удивлялась, почему Лариса Александровна неизменно ставила мне четверки? Чего же не хватало моим работам? Почему она считала, что они не тянут на пять?
Неожиданно, в конце четверти, откуда-то появлялась толпа пятерок и в четверти оказывалось пять. Так всегда. Я даже перестала пытаться понимать эти ее причуды. Избаловать что ли она меня боялась? Напрасно, я бы не зазналась. Хотя, надо признаться, в глубине души меня оскорбляла четверка, и я еще сильнее из кожи вон лезла, чтобы достичь совершенства в том, что я умела делать так хорошо. Получить пять у Ларисы Александровны – задача близкая к нереальной. У нас и четверки-то были у двух-трех человек в классе.
Однако я в Америке, передо мной пустой лист бумаги… время идет… как же написать это все по-английски… Прошло уже пятнадцать минут урока, а я еще ничего не написала. Проходит еще десять минут, и я чувствую, что сейчас лопну от напряжения: слова все сидят в моей памяти – прямо у самого выхода, распирают меня, но выскочить не могут.
Представьте себе, громадный, ржавый автомобиль, в котором заглох мотор. Вы включаете зажигание, а там только скрежет да шум, вы жмете на газ, оглушительный шум усиливается, автомобиль и хрипит, и сопит, и жужжит, и какие только странные звуки ни производит, но не двигается с места. Вы проклинаете все на свете, изводитесь, потеете, синеете, чуть не усилием духа заставляете несчастную машину двинуться и поехать. Но, не пройдя и полкилометра, автомобиль снова застрял.
Вы снова начинаете теребить зажигание, толкать, давить, жать, потеть, мучаться, синеть, зеленеть… тронулся! Тихонько проехал несколько метров и снова встал. Так предстоит ехать весь путь. Вот что такое – написать сочинение на английском языке. Хотя, как ни странно, по английскому у меня ведь тоже было пять.
Будь это русский язык, я бы уверенно села за руль, включила зажигание и… поехала! Моя машина мчалась бы легко, плавно, без каких-либо препятствий и помех, я могла бы, набрав скорость, пользуясь наработанными годами навыками, за час проехать много десятков, даже сотню километров! На английском таких расстояний вообще не осилить. На контуженной тачке английского еле-еле можно проехать пару кварталов, хорошо если за угол завернуть. Разве это метод передвижения по жизни? Английский – это инвалидная коляска. Русский – это автомобиль «Волга». Русский – это мои естественные ноги, английский – деревянные протезы вместо ног.
Каково бросить автомобиль «Волгу» и добровольно сесть и передвигаться по жизни в инвалидной коляске?
«Это временное явление! Потом мы все пересядем на “Шевроле”! “Шевроле” разве сравнить с “Волгой”?» – говорят мои.
Сколько же пройдет лет или десятилетий, прежде чем мы пересядем? Да и пересядем ли вообще? А потом, почему вы решили, что «Шевроле» лучше «Волги»? Только потому что иномарка? Пока – я основательно села в инвалидное кресло. Я в панике!
Какими бы убеждениями и принципами вы ни руководствовались, ради чего на свете можно принести в жертву свои ноги и обречь себя на то, чтобы всю жизнь передвигаться на костылях?! Научиться? Адаптироваться? Привыкнуть? Наверно, можно и к костылям привыкнуть, и к протезам вместо ног, только ради чего на свете можно добровольно обменять свои ноги на протезы? Как можно было сморозить такую глупость?!!!
Мне не просто хочется громко и неистово выть, запрокинув голову, мне хочется разбить все окружающие предметы, рвать на себе волосы, убить того, кто вообще придумал это понятие – эмиграцию. Нет описания моему протесту, моему возмущению и моему горю.
* * *
Из класса, где писали сочинение, я вышла, как из комнаты пыток. Сил я оставила там семь пудов, а написать удалось… с гулькин нос. Смешно даже взглянуть на эти два листика… Зачем все это? Зачем нужно было бросать легкий, мощный, проворный, совершенный (относительно – ведь все познается в сравнении…) родной язык, чтобы приехать сюда и стать на костыли (в смысле языка), на которых ни стоять, ни идти, ни повернуться.
Вторым уроком была – «Хистори оф Американ синема». Я пришла на урок с небольшим опозданием. Захожу – все сидят на полу, почему-то среди них и учитель, и курят, по очереди передавая друг другу одну и ту же сигарету. Увидев меня, передали и мне. Я поблагодарила и сказала, что не курю. Мне было странно, что предлагали курить беременной, странно, что курили в классе, во время урока, что учитель курил вместе со студентами, что все курили одну сигарету…
– Вэлкам ту Америка! – улыбались мне американские студенты. – Это не сигарета, это мауана, – пояснили они.
– А что такое «мауана»? – спросила я.
Этим вопросом я еще больше насмешила их.
Среди американских студентов не было ни одного американца. Были эмигранты из Новой Гвинеи, из Южной Кореи, Лаоса, Китая, Ямайки, с острова Поуэрто-Рико. Меня они называли русской «Рашен». Вот это общество, куда я попала! Я ни в коей мере не дискриминирую другие нации, только что общего у меня могло быть с этими людьми, приехавшими кто откуда? О чем я могла с ними говорить? Каждый из них был воспитан в своей стране. Культуры моей страны они не знали. А пропитаться американской культурой, общаясь с приезжими из Лаоса и Гвинеи, я понимала, не получится.
* * *
Когда учитель во время лекции в колледже открывает рот, слова и предложения сыплются из него, как мелкие горошины из огромного мешка. Казалось бы, почти все, что он говорит, я понимаю… только слов этих и фраз так много и сыплются они так быстро, что я едва успеваю уловить их мельканье. Даже голова начинает болеть от напряжения.
Мелкие горошины английских слов словно издеваются надо мной – мелькнут и исчезнут, мелькнут и исчезнут. Мое внимание лишь безрезультатно кидается на все мелькающие миражи в надежде поймать слово, а в результате обнаруживает пустоту, в которой уже новое слово играет с ним в прятки… Поймать убегающие слова невозможно, хоть они и кажутся такими доступными. Уф! Издевательство, а не язык.
* * *
Пришла к родителям. Дедушка сидит, пишет письмо. Наши завели традицию, если кто пишет письмо в Союз, сначала вслух читает его всем домашним и, лишь получив их одобрение, может это письмо отправить.
«Были вчера на Брайтоне… – писал дедушка. – Такого изобилия и такого качества продуктов, за семьдесят лет жизни в Союзе я никогда не видел!»…
Он рассказывал еще о том, какие приветливые люди американцы, как много здесь наших соотечественников, так что скучать вовсе не приходится и что у него с бабой уже есть новые друзья – из Осетии – он имел в виду дядю Дениса с женой.
Когда дед закончил читать, все одобрили и сказали, что посылать это письмо можно. Я стояла и соображала: как мог мой дедушка – этот кристально чистый человек, который никогда не врал, который был очень умен, – как он мог писать такие письма?!
Папа, бабка и мама стояли над дедом, как коршуны не зря, перепроверяя, что он там написал. Эти могли и соврать, у каждого из них были свои слабости: у папы был бзик правоты в своем решении эмигрировать, мама любила выпендриваться перед своими подругами, а бабушка все переживала, как бы какое неосторожно или легкомысленно брошенное слово не заставило ее любимую дочь, ее любимых сестер и родных волноваться.
Но дед был совершенно достойный человек.
– Деда, я не могу понять тебя, – сказала я ему тихонько, чтобы никто нас не слышал (у меня не было желания ругаться с папой, и его мнение меня не интересовало). – Как ты (!), – я сделала ударение на слове «ты», – можешь писать такие письма?!
– Какие «такие» письма?! – искренне удивился дедушка. – Разве я что-то не так написал?
– Ты, кого хочешь обмануть? Весь город Нальчик? Или свою родную дочь и всю ее семью? Хочешь, чтобы и они, как мы, в эту мышеловку попали? Как ты можешь? Я тебя не понимаю!
Дед переменился в лице, задумался, после некоторой паузы, искренне недоумевая спросил:
– Разве хоть что-нибудь из того, о чем я написал неправда?
– Все правда, но только наполовину!
– Как это, наполовину?
– Ты написал им о самом хорошем, с чем мы здесь столкнулись! А о плохом ты умолчал? Почему ты не написал им, в какой квартире мы теперь живем? А? Про мышей, про тараканов, почему не написал?
– Ты хочешь, чтобы весь Нальчик долдонил, что наша семья, приехав в Америку, живет теперь на помойке, с мышами и с тараканами?
– А это не правда? В какие условия мы попали? Напиши им про эти условия! Почему молчишь об этом?
– Но, кутенок, это временные трудности. Эта квартира только на первое время, пока мы не станем на ноги!
– На первое время? И сколько это «первое время» продлится? Большинство жильцов в этом доме уже по пять, по десять лет живут. Сколько ты думаешь мы здесь проживем: год, два, пять?
– Ну-у, этого никто не знает. Все в руках Господа.
– Может быть, и в руках Господа, только привез нас всех сюда папа! Вот и напиши в Нальчик, что так-то и так-то, временно живем пока на помойке, с мышами, с тараканами, вшестером в двух комнатах, сколько продлится это «временно», никто не знает, все в руках Господа! А? Напиши! Тогда твоя правда будет не такой однобокой.
– Кутенок, ты же знаешь, каждое письмо из Америки читать будет весь город: это очень важно, что мы им пишем. Ты считаешь мы должны опозорить себя на весь город, написав, что мы, дескать, идиоты, бросили роскошный двухэтажный дом, чтобы поселиться здесь в Америке на помойке?
– А! Вот оно как! Значит, мы идиоты? Ведь мы это сделали! Просто ты боишься быть посмешищем для всего Нальчика и умалчиваешь об этом! Вот ты сам все и сказал: значит, мы все-таки идиоты!
– Да нет же, кутенок. Ты все не так понимаешь: просто эта ситуация с квартирой – не главное. Это временная трудность, которую мы должны преодолеть во имя другого, более важного.
– Что именно это более важное? Обилие колбасы на Брайтоне? Что?
– Кутя, я много лет продавал мясо на черном рынке. Мне приходилось это делать, чтобы прокормить семью. Ты понимаешь, что это значит?
– Это значит, мы жили богато.
– А если бы меня посадили?
– Не посадили же! Если ты столько лет продавал и тебя не посадили, значит, и дальше бы не посадили.
– Меня могли посадить в любой момент. Но я не о себе волнуюсь. Если бы я сел, что бы вся моя семья делала?
– Мы бы тебя высвободили.
– Как бы вы это сделали?
– Денег бы дали и высвободили!
– А где бы вы взяли эти деньги?
– У тебя денег полно было! Я думаешь, не знаю, вы хранили их с бабушкой под вашим матрацем. Как же, помню я эти пачки!
– Ну, проели бы вы эти деньги, а дальше? Не хватит же запасов на всю жизнь.
– Папа работал, мама работала.
– Твои папа и мама получали вместе – четыреста рублей. А я продавал мясо по четыре рубля за килограмм. На те деньги, что твои мама с папой зарабатывали, можно было жить только впроголодь, уж не говорю о том, чтобы тебя, мою деточку, одевать модно.
– Папе повысили до пятисот!
– Это уже когда? Прямо перед самым отъездом, когда докторскую защитил. Но и это сильно бы не помогло. Тебе на всю их общую месячную зарплату даже одно модное пальто нельзя было купить. Ты считаешь это справедливо, доктор наук (!) не может в той стране купить дочери модное пальто на свою месячную зарплату! А что если у него две дочери? Как ему жить? Твой папа честный человек, он не мог крутиться, как все, а честному человеку там жить невозможно.
– Я помню, ты ведь попался раз! Тебя высвободили.
– Это потому что наш дядя Артур в ГАИ работает. А если б не он?
– Но ведь он был!
– Он тоже не мог бесконечно помогать. Раз помог, два помог, он сам рисковал.
– А справедливо, что доктор наук (!) должен в этой стране идти работать слесарем? Почему ты не написал о том, что папа здесь со своей ученой степенью может пройти в туалет?! Десятилетия кропотливого труда он должен выбросить на помойку. Почему ты об этом не написал, а?
– Кутенок, ну что толку расстраивать ближних? Они прочтут, расстроятся, будут на весь Нальчик долдонить, что мы здесь бедствуем. Ведь это же неправда!
– Неправда? По-твоему, папе работать слесарем или чертежником – это не бедствовать?
– Здесь чертежнику платят больше, чем там доктору наук.
– Да-а??? Это интересно! Как ты к такому выводу пришел?
– Мы, когда уезжали, меняли рубли на доллары. Какой курс рубля к доллару? Если ты посчитаешь, твоему папе платили тысячу долларов в год. А здесь ему платят тысячу долларов в месяц!
– Ты серьезно, не понимаешь??? Ты посмотри на цены: что сколько стоит здесь и там!
– Мясо стоит одинаково.
– Нее-е-ет, мой дорогой. Подожди! Мясо! Эта вонючая квартира сколько стоит?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?