Текст книги "Расскажи мне…"
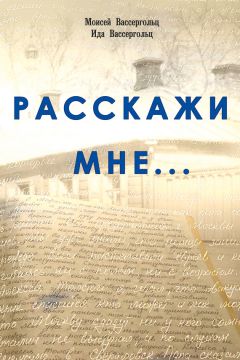
Автор книги: Ида Вассергольц
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
В туалете не было обычных сливных бачков, а вода сливалась очень часто сама, так что за это время я успел, разорвав на мелкие кусочки все мною написанное за день, незаметно спустить в унитаз.
Когда на другой день меня привели на допрос, следователь первым делом потребовал, чтобы я отдал ему то, что написал.
Я никогда не видел его таким, когда он узнал правду. Если бы он мог, то убил бы меня.
И опять потянулись однообразные дни. Каждый день меня водили на допрос, но я молчал и не хотел говорить со следователем.
Он читал мне показания других, арестованных по делу Ройфмана, и спрашивал мое мнение, но я молчал, пока не наступало время отправить меня в камеру. Ни одного протокола я не подписывал. Так продолжалось много дней. Потом меня прекратили водить на допрос и несколько дней не беспокоили.
Проходили дни за днями, и, если бы не книги, я бы сошел с ума, но они меня выручали.
Я завел себе такое правило: прочитывал пятьдесят страниц, делал перерыв и ходил по камере туда и обратно, считая вслух, тысячу раз; потом курил сигарету и снова садился читать. На мое «счастье» библиотека была очень хорошая, и книг хватало.
Что было с моей семьей – женой и детьми я не знал, а мог только догадываться.
Ремарка 2
Лишнее знание – лишние слезы.
Когда папу везли на Лубянку, в нашем доме творился беспредел: в платяной шкаф складывались и опечатывались все наши вещи. Занимались этим сотрудники КГБ – майор Серегин, капитан Матвеев, капитан Громов и лейтенант Богусевич.
Когда начались холода, мама обратилась с заявлением к председателю комитета Государственной безопасности при Совете Министров СССР тов. Семичастному В.С. с просьбой выдать необходимые нам теплые вещи, которые не попали в опись имущества, но были опечатаны в шкафу. Из «Протокола о вскрытии шкафа» от 10 октября 1962 года можно узнать, что сотрудник КГБ при Совете Министров СССР капитан Матвеев в присутствии понятых вскрыл опечатанный шкаф и выдал разные вещи, не входящие в опись имущества, среди которых под номером 3 значится одна пионерская кофточка.
В нашей 20-ти метровой комнате в коммунальной квартире в тот день несколько часов подряд шло удивительное действо: усиленно искали спрятанные сокровища.
И мне, и маме запомнился один трудолюбивый сотрудник, который ковырялся ложкой в сахарнице, очевидно, ожидая найти бриллианты. Потом мы даже были благодарны ему за это поведение: эта ложка осталась вне описи имущества, хотя была серебряной и с позолотой (из комплекта чайных ложечек, подаренных маме на свадьбу).
Так как особых ценностей сотрудники КГБ найти не смогли, в опись имущества попали «предметы роскоши»: пылесос, холодильник, платяной шкаф, книжные полки, чайный сервиз, скатерть, полуботинки, мужские брюки…
Хорошо, что папа не знал о том, что было с нами потом. Как исключали из коммунистической партии маму за потерю бдительности, но еще более за отказ развестись с мужем; как соседи по коммунальной квартире писали доносы и устраивали истерики в товарищеских судах, требуя выселить нас из квартиры, выгнать маму с работы, а меня из советской школы; как много подлостей, несправедливостей и даже жестокости творили с нами. Но это тема слишком объемная, чтобы включать ее в это отступление от основного текста папиной рукописи.
Внутри у меня все умерло, жить не хотелось.
Так прошло несколько дней, пока однажды меня снова не повели на допрос.
Зайдя в камеру для допроса и сев на свое привычное место, я обратил внимание, что на диване сидит грузный пожилой мужчина, молчавший во все время допроса.
В этот допрос были опять только данные о моем происхождении и о родителях, поэтому я отвечал, и протокол допроса подписал.
На следующий день меня повели на допрос не вниз, в камеру, а на третий этаж и ввели в большой кабинет.
Два больших окна выходили на площадь Дзержинского, так что мне был виден памятник и вход в метро.
Около окон стояли три письменных стола, за которыми сидели следователи, отгородив меня от окон.
У входа стоял четвертый стол, а к нему был приставлен маленький столик, за который меня и посадили.
Один из следователей стал мне задавать анкетные вопросы и заносить их в протокол допроса, два других – сидели молча.
Когда он заполнил анкетные данные, в кабинет вошел мужчина, присутствовавший на моем допросе у Иван Ивановича. Назвавшись руководителем группы следователей, занятых расследованием дела Ройфмана, – полковником Сыщиковым, он, ходя по кабинету, начал просто кричать и угрожать мне.
Смысл его угроз в мой адрес сводился к одному: если сейчас же я не расскажу все, что знаю, то у них такая власть, что могут выпустить до суда, но могут и расстрелять.
Но он не знал, что я не хотел жить, и смерть для меня в тот момент казалась желанным избавлением от всех мук.
Сейчас я не могу понять, откуда у меня брались такие силы, чтобы оставаться спокойным? Для меня самого это загадка, но я думаю, что все время находился в стрессовом состоянии, когда мысли ясны и четки. Я провел в тюрьме уже около трех месяцев (был 1963 год), только этим я объясняю свой ответ.
А ответил я так, попросив следователя, писавшего протокол допроса, написать заголовок о чистосердечном и добровольном признании вины.
Я сообщил, что первое свое преступление совершил, вступив в сговор с людьми, совершившими покушение на В.И. Ленина, а то, что меня не было еще и в зачатие – это частность, на которую не стоит обращать внимание, но мое «признание» дает им возможность расстрелять меня.
Еще раз я повторяю, что в то время мне было на все наплевать.
Реакция, произошедшая после моего «признания», была для меня самого удивительна. Все следователи улыбнулись, а полковник, присев рядом со мной, стал меня уверять, что я его не так понял, что он мне не угрожал, и, если действительно я никаких больше преступлений не совершал, то очень хорошо.
После этого случая мне заменили следователя и назначили Семен Семеновича, который начал вести протокол допроса при Сыщикове, но не закончил.
На первом же допросе у нового следователя я узнал от него, что прежний мой следователь отправлен в Гомель, как не справившийся со своими обязанностями. Потом он мне сообщил, что старый следователь незаконно держал меня в одиночной камере, и это будет исправлено.
После моего ареста прошло три с половиной месяца, и все это время я находился в одиночке.
На другой день меня перевели в другую камеру, где находился заместитель командира дивизии, обвиняемый в получении взяток.
Я сейчас не помню, как звали моего сокамерника, хотя он много рассказывал о себе и о войне, которую прошел от начала до конца и был много раз ранен. Я сам видел на его теле множество шрамов, когда нас водили в «баню». Его очень удивляло, что я все время молчу и за весь день могу сказать только два-три слова. И, все-таки, в общении с ним, после одиночки, было легче.
Запомнился мне с ним и один интересный случай.
Каждый месяц мы получали передачи из дома.
Это были, обычно, продукты, одежда и табак. И, хотя записок мы не получали, сама посылка, которой касались родные, вызывала большое волнение.
Вот однажды в очередной передаче он получил апельсины и перед обедом предложил мне скушать по одной штуке. Я очень удивился, но, съев апельсин, понял хитрость: в апельсин при помощи шприца был налит коньяк, а отверстие замазано воском. После этого я из страха перестал совсем с ним говорить, но к «счастью» меня вскоре перевели в другую камеру.
Улучшились мои дела и у следователя.
Он не вызывал меня в камеру для допросов, а проводил их в кабинете, в котором мы с ним впервые встретились, а находящиеся там другие следователи не мешали нашей «беседе».
Там же в кабинете я имел три очных ставки с Браверманом Семеном (о нем я расскажу позже), с женой и с Шакирманом Сашей.
С Сашей мы были в очень хороших отношениях и уважали друг друга. Несмотря на то, что все «Дело» началось с него, я на него не был в обиде, но рассказать о нем немного хочу, чтобы объяснить с чего все началось.
Познакомил меня с ним в 1954 году весной Браверман, с которым я в то время работал.
Саша был среднего роста, худощав и моего возраста. Не знаю, что тут сыграло свою роль, но мы понравились друг другу и часто встречались с ним не только по работе, но и просто так. Так я узнал кое-что о нем.
Был он родом из Одессы, а одесситов я опасался и никаких дел с ними не имел, так как про них ходила дурная слава. А вот с ним мы сошлись.
Он учился в Московском медицинском институте, когда познакомился со своей будущей женой – студенткой того же института.
Это было сразу после войны, и время было тяжелое.
Когда он женился, и жена родила дочку, он, чтобы подработать стал заниматься перепродажей вещей на рынке.
Он окончил третий курс института, когда в 1948 году его арестовали и осудили за спекуляцию.
В 1953 году, отсидев пять лет, он освободился и вернулся в Москву. Все эти годы жена помогала ему и ждала его, и он очень любил ее и дочку. С ними жила и его теща.
Когда мы с ним познакомились, он заведовал мастерской, изготовлявшей женские резиновые сапоги, имевшие в то время громадный спрос. Я брал у него для продажи его продукцию, когда он работал в этой мастерской и потом, когда он перешел в общество «Рыболов-спортсмен», где так же выпускал резиновую обувь.
Сейчас я точно не помню в каком году, но, приблизительно, в 1958–1959, когда я работал зав. магазином у Савеловского вокзала от ОРСа Северной железной дороги, он пришел ко мне на работу.
Тогда я узнал, что он вместе с Ройфманом Борисом хотят открыть от Краснопресненского психоневро диспансера трикотажное производство.
Бориса Ройфмана и его двоюродного брата Петю Ордера я немного знал, так как получал у них нижний трикотаж в мастерской, где они работали, и которая находилась в Вешняках.
Я очень удивился, что Саша переходит в трикотажное производство, в котором ничего не понимает. Но он объяснил, что руководить будет Борис, а он заниматься снабжением и сбытом. Через некоторое время после этой встречи он заехал за мной, и мы поехали в мастерские.
Кабинет Бориса находился в помещении поликлиники, а мастерские в здании рядом.
Работали в мастерских люди, состоявшие на учете в диспансере. Раньше эти мастерские выпускали коробочки и конверты, но производство было убыточно, и его прикрыли.
Главный врач поликлиники – доктор медицинских наук – Иванова разработала систему трудотерапии и добивалась открытия мастерских, но средств для их открытия Министерство здравоохранения не давало.
Она очень обрадовалась, когда Борис предложил ей открыть мастерские без всяких средств, и дала свое согласие.
Борис знал все ходы в трикотажном производстве, поэтому ему удалось получить станки и сырье для производства.
Как я потом узнал, он истратил около двухсот тысяч (здесь и далее указаны суммы до денежной реформы 1961 года) на открытие мастерских.
Саша привез меня к Борису, чтобы договориться об изготовлении и сбыте продукции.
В те годы самым ходовым товаром были китайские пуховые платочки стоимостью в 100 рублей, и мы решили, что для начала они будут изготовлять шерстяные косынки с начесом, а я буду их реализовывать, т. е. продавать через магазин и ларьки, находящиеся у гостиниц ВДНХа. Если я не смогу реализовывать всю продукцию, выпускаемую ими, то они, с моего согласия, возьмут для этих целей еще одного или двух.
Первые образцы их продукции мне понравились, но окрашены они были в блеклые тона, и я сказал, что сбыт будет слабым. Тогда они нашли красильщика, который еще до революции занимался крашением. Этот старик знал тайны покраски шерстяных изделий, и окрашенные им платки имели сочную, яркую и ровную покраску.
Так как рабочие мастерских были психически неполноценны, и для того, чтобы не было претензий от покупателей, было решено выпускать продукцию только третьего сорта.
Так началась наша совместная деятельность.
Выпускаемые ими косынки шли нарасхват, и первое время вся продукция реализовывалась через меня, даже тогда, когда они стали выпускать вместе с косынками платки типа китайских.
Производство налаживалось, и выпуск готовой продукции увеличился намного.
Я не буду описывать подробности, но постепенно для реализации всей своей продукции, они вовлекли много людей, работающих в разных концах Москвы.
Я постепенно отходил от них и встречался все реже и реже, но что у них делалось, приблизительно знал, так как с Сашей иногда встречались, и он мне рассказывал.
Нужно еще сказать (это сыграло большую роль в нашем деле), Саша познакомился с генералом – начальником ОБХСС г. Москвы, и Борис совсем отпустил тормоза. Я еще вернусь к этому, но пока хочу рассказать о другом.
В 1961 году у Саши Шакермана случилось большое горе – умерла жена.
Он похоронил ее на Востряковском кладбище и поставил памятник стоимостью в шестьсот тысяч рублей. Это – бюст из белого мрамора.
Он очень горевал о своей жене, но ему не было еще и сорока лет. И вот в это время за него взялась теща. Она боялась, что Саша снова женится.
У нее было две дочери, одна – Сашина жена, а другая была замужем в г. Одессе и так же, как сестра, имела дочку.
Вот теща и решила, чтобы ее дочка из Одессы развелась с мужем, а Саша на ней женился, и тогда, как она говорила, обе ее внучки будут счастливы, а богатство останется в семье.
Саша поехал в Одессу, встретился с мужем свояченицы и объяснил ему ситуацию и решение тещи.
Я уже писал, что боялся связываться с одесситами, и что о них шла нехорошая слава. Они ради денег готовы на любую подлость.
Муж Сашиной свояченицы был настоящий одессит и, решив на этом деле «заработать», запросил с него один миллион отступного.
Саша был тоже одессит и давал только половину требуемого. Не договорившись, Саша уехал обратно в Москву.
Но теща продолжала действовать и написала своей дочери, чтобы она с ребенком приехала в Москву.
Получив от матери письмо, дочь выбрала момент, когда муж был на работе, забрала ребенка и поехала в Москву, к матери.
Ее муж, придя с работы и не найдя жену и дочку, понял все, и через несколько дней тоже приехал в Москву.
Он и Саша были оба одесситы, и, когда он попросил Сашу отдать ему деньги, хотя бы те, что тот ему предлагал, то Саша сказал: «Она сама легла ко мне в постель. За что же тебе платить?». Обиженный муж уехал в Одессу и написал в ОБХСС о кое-каких Сашиных «делах», о которых он немного знал. Но ОБХСС ни Саша, ни Борис не боялись.
В это же время случилось другое дело.
Борис с Сашей отпускали свою продукцию в магазин на Каланчевской улице, а от завмага эта продукция попадала в ларек на Казанском вокзале, который работал от этого магазина.
Продавщица этого ларька «зарабатывала» очень хорошо, но решила, кроме основного заработка, получаемого от магазина, заняться своим бизнесом.
Так как пропускная способность была большая, а покупатели, в основном, приезжие, то она, получая мужские носки по цене 1 руб. 20 коп. и 90 коп., срывала с дешевых носков ярлычки и продавала все по одной цене – 1 руб. 20 коп.
В ОБХСС вокзала пришла бандероль с носками, у которых продавщица просмотрела и не сорвала ярлычок; а также с показаниями в каком ларьке и по какой цене были куплены эти носки.
Когда работники ОБХСС пришли в ларек с проверкой, они обнаружили и продукцию Бориса в большем количестве, чем числилось по документам. Продавщицу арестовали, но обещали отпустить, если она расскажет все, что знает о махинациях, проделываемых в магазине.
К сожалению, она знала всю цепочку и все выложила.
Как ни странно, но ее отпустили, и, в дальнейшем, она была только свидетелем.
Просто так закрыть дело было невозможно, слишком многим оно стало известно, но Бориса предупредили, и он успел подготовиться.
Бориса арестовали, но никаких улик против него не было, в мастерских и в бухгалтерии был полный порядок.
К нему в Бутырскую тюрьму, где он содержался, пришел работник ОБХСС и предупредил его, чтобы он был спокоен, что скоро будет суд, но за отсутствием доказательств его отпустят.
Как узнал обо всем этом одессит можно только догадываться, но он написал подробное письмо в КГБ, где указал, что в ОБХСС все подкуплены.
Так дело попало в КГБ.
Начальник ОБХСС г. Москвы, его заместитель и многие другие работники были арестованы.
Потом я узнал, что начальника и некоторых других расстреляли после суда, а остальным дали большие сроки.
Арестовали кладовщицу (о ней еще будет речь), Шакермана, мастера мастерских, бухгалтера, и началось раскручивание всего дела.
Следователи КГБ сделали все очень просто: взяв все документы по реализации готовой продукции, арестовали всех, кто ее получал с момента открытия мастерских. Так был арестован и я.
Дело в том, что я уже много лет болел, но точно не знал чем.
Врачи говорили, что у меня бронхит, в чем я очень сомневался, но когда я ложился спать, меня душил кашель. Целый день я чувствовал себя хорошо, а ночью мучился от кашля.
В 1959 году со мной случился приступ, и меня на машине доставили домой.
Это был тяжелейший приступ, продолжавшийся около трех недель. Теперь ни у одного врача не вызывал сомнения поставленный диагноз: бронхиальная астма и сердечная недостаточность.
Как я чудом остался жив – это после, здесь же главное то, что после болезни я написал заявление с просьбой освободить меня от обязанностей завмага и уволить.
Мой начальник решил иначе: освободив меня от должности завмага, оставил в должности товароведа. Этот приказ сыграл большую роль в моей судьбе.
Ремарка 3
Григорий Мусеевич Турик спас моего отца и младшего брата: провел лечение бронхиальной астмы по своей методике (поставил эксперимент для сбора материала к диссертации).
Положение в то время было безнадежным: папе дали срок жизни не более двух недель, в больницу забирать отказались, а маме посоветовали поставить ширмочку перед кроватью, чтобы не видеть, как он будет умирать.
Но папа умирал не один. Напротив кровати, на которой лежал он, стоял детский диванчик, на котором лежал, задыхаясь, мой брат.
Мама обошла всех врачей – специалистов по бронхиальной астме, обращалась за помощью во все возможные организации, писала о ситуации в журнал «Здоровье». Никто не мог помочь. Дали рецепт на получение кислородных подушек и какие-то общие рекомендации по профилактике приступов удушья.
Днем, после занятий в школе, я шла в аптеку и приносила домой две кислородные подушки, чтобы у папы был шанс пережить еще одну ночь.
Когда наступала ночь, мама ложилась на раскладушку, которую ставила около диванчика, чтобы быть поближе к моему пятилетнему брату, а для меня оставалось только одно свободное место – под обеденным столом, на маминой шубе.
Каким образом нашелся молодой врач, рискнувший спасти безнадежного больного, не помню. Но помню, что он буквально сутками жил у нас, подбирая различные варианты лекарств для уколов, внутривенных вливаний, а, главное, для «промывания» бронхов с помощью изогнутого наконечника шприца. Процедура «промывания» была очень тяжелой, но спасла и папу, и брата, которому сделали ее только 1–2 раза.
Используя изогнутый наконечник, Григорий Мусеевич через рот больного вводил в бронхи лекарство, которое «размывало» слизь, забившую их, и раздражало. Кашляя и отхаркиваясь, можно было постепенно освобождать бронхи.
Григорий Мусеевич успешно защитился, показав живым безнадежного больного. Он даже некоторое время заведовал каким-то отделением какой-то больницы, но его методика была слишком индивидуальной: применять ее «на потоке» было невозможно.
С начала 1961 года в законную силу вступил «Указ по усилению наказания за особо крупные хищения государственных средств» – статья 931 – вплоть до высшей меры наказания – расстрела.
Когда у меня появился новый следователь, то по моей просьбе, он получил копию приказа об освобождении меня от должности завмага, для того, чтобы снять с меня обвинение по статье 931, а оставить статью 92 часть 3, т. е. просто хищение в крупных размерах (от 8 до 15 лет лишения свободы).
Хотя я и получал несколько раз товар из мастерских после 1961 года, но никаких темных дел с ними не имел.
По моей просьбе мне сделали очную ставку с Сашей Шакерманом. При «встрече» нам разрешили поговорить между собой.
Саша сказал мне, чтобы я не переживал, что все кончится хорошо, что ему в тюрьме не только лечили зубы, когда они заболели, но даже вставили золотые коронки. Правда, ему, наверное, придется отбывать два-три года, а меня отпустят из зала суда, и все это обещал ему начальник следователей.
В общем, настроение у него было отличное, и он подтвердил мои показания, несмотря на то, что я о себе ему ничего не сказал.
После этого я видел Сашу еще два раза, а говорил с ним – один раз, но об этом потом.
Несколько дней я был в камере с зам. командира дивизии, а затем меня перевели в камеру к Илье Гальперину, с которым я был более года, т. е. до окончания суда.
Еще до своего ареста я несколько раз видел Илью в кабинете Бориса и знал кто он, но знаком с ним не был.
Илья Гальперин был зам. директора магазина у Курского вокзала. Он, как и я, был арестован по делу Ройфмана.
Это был красивый, высокий мужчина с вьющимися волосами, 1930 года рождения – самый молодой из нашей группы. Через несколько дней я знал о нем, буквально, все.
С утра до вечера, или с подъема до отбоя он мог говорить, лишь бы был человек, который его слушал. Я с ним говорил только на отвлеченные темы, хотя это его иногда очень раздражало.
В камере из игр имелись: домино, шахматы и шашки. Очень быстро и шахматы, и шашки пришлось отложить в сторону, так как проигрывать Илья не любил, а выиграть не мог.
После сигнала подъема и до завтрака я ежедневно делал генеральную уборку, т. е. мыл полы, стены и убирался, где только возможно, а Илья, обычно, брал домино и начинал гадать про Лялю (жену), и, если получал нужный результат, был просто счастлив весь долгий день, и наоборот.
Любимой темой для разговора был разговор о Ляли: какая она красивая, какая она необыкновенная, какая она какая. К сожалению, эта необыкновенная Ляля сыграла свою роль в нашем процессе.
К тому времени, когда меня поместили в камеру вместе с Ильей, следствие почти закончилось, и на допросы меня не вызывали. А вот Илью вызывали на допросы довольно часто.
Мне не составило большого труда раскрыть эту «тайну».
Если он с допроса приходил веселый, или приносил какой-нибудь подарок в виде шоколада, пары апельсинов или яблок, или еще что-нибудь в этом роде, у меня замирало сердце. С его слов я знал как это происходило.
В кабинете следователь давал ему поговорить по телефону с Лялей только в том случае, когда он рассказывал что-то новое, и он старался.
Я сейчас, даже приблизительно, не могу сказать скольких людей он «присоединил» к делу, людей, не имеющих к нему отношения.
На мои осторожные попытки внушить ему не делать подлостей, а говорить на эту тему можно было только на прогулке, он отвечал, что я глуп и ничего не понимаю в жизни, а вот он и его Ляля…
Кто же эта Ляля, из-за которой погибло столько людей?
В шестнадцать лет она стала любовницей Берии, и от него у нее осталась дочка.
После суда над Берией ей дали, как пострадавшей, квартиру и 100 тысяч рублей на воспитание ребенка.
Она не могла провести ни одной ночи без мужчины. Три раза в день она должна была кушать в ресторане и соответственно одеваться.
Ежедневно ее нужно было развлекать, а из транспорта она признавала, конечно, только машину.
Несколько раз она уходила от Ильи, но потом возвращалась.
Со слов Ильи, он пользовался ею только на 30 %, но, как он говорил, в хорошем деле 30 % лучше, чем в плохом 100 %.
Она родила от Ильи дочку после того, как он купил ей машину и норковую шубу.
Вот коротко все об этой необыкновенной Ляле, о которой Илья все время говорил.
После майских праздников нас перевели в Лефортовский изолятор.
Это – громадное четырехэтажное здание, построенное Екатериной II, в виде печатной буквы «К».
Это – настоящая тюрьма с карнизами на всех этажах, с сетками между карнизами, с мрачными двух-трехместными камерами.
Единственное «достоинство» этой тюрьмы в том, что в ее стенах, в свое время, отбывали наказание Туполев и Васька Сталин, а еще – в камерах был туалет.
Очень редко, но меня тоже водили на допрос.
Так у меня состоялась очная ставка с Борисом Ройфманом.
Наше дело назвали «Дело Ройфмана». Так кто же он – Борис Ройфман?
Мы с ним были в дружеских отношениях, но знаю я о нем мало.
Родом он из Румынии, где его отец владел большими заводами.
В 1940 году из Румынии, как и из Польши, много евреев, спасаясь от фашистов, бежало в СССР.
В Москве, через синагоги проходил сбор одежды, денег и продуктов для помощи беженцам. Большинство беженцев было раздето и разуто, но часть вывозила с собой и большие ценности.
Отец Бориса сумел вовремя продать свои предприятия, а вырученные деньги превратить в драгоценности, занимающие мало места.
Вот он с сыном и дочкой, захватив все ценности, бежал в Москву, где жил его брат.
Во время войны он умер, оставив Бориса и его сестру на брата.
Борис окончил неполную среднюю школу и вместе с двоюродным братом – Петей Ордером (его судили после нас и расстреляли) занялся трикотажем.
Я не хочу оправдывать Бориса в совершенных им преступлениях, но не могу не сказать и того, что он был по-своему справедлив, честен и добр.
Пишу я это потому, что смотрел кинокартину «Черный бизнес», сюжетом для которой послужило наше дело, где он выведен в другом свете.
Несмотря на то, что я уже долго находился в заключении, юриспруденцию я не знал и на очной ставке с Борисом прошляпил. Я знал Бориса, как умного и осторожного человека, поэтому поверил ему, а когда понял свою ошибку, было поздно.
Как и на очной ставке с Сашей, нам с Борисом разрешили сначала поговорить.
Тут я от него узнал, что его вызывал первый заместитель начальника КГБ (фамилию забыл) и имел с ним такой разговор: он сказал Борису, что ему известно о тех больших ценностях, которые ему оставил отец. Дальше он объяснил Борису, что, если он покроет тот убыток, который нанес, то дело будет вестись так, чтобы года через два-три он был снова дома. Часть же этих ценностей или их стоимость будет передана его жене с двумя детьми, ибо ее жалование учительницы математики недостаточно.
Борис повторил слова Саши, сказав, что мне, вообще, волноваться не стоит, во время суда я буду освобожден.
Только потом я вспомнил поговорку, что, если Бог хочет погубить человека, то сначала отнимает у него разум. А тогда, поверив Борису что это – формальность, подписал все документы.
Осталось рассказать еще немного.
В это время Петя Ордер находился на свободе, скрываясь от ареста. Вот ему Борис и передал свое решение о выдаче ценностей.
Утром одного дня в кабинете следователя раздался телефонный звонок, и по телефону сообщили, что следователь должен приехать на Казанский вокзал и получить в камере хранения два чемодана по квитанциям за №№… Это и будут ценности Ройфмана.
Об этом я узнал непосредственно от Бориса, как и то, что и Шакерман выдал свои ценности.
Но не только Ройфман, Шакерман и Гальперин выдали все, что имели. Другие арестованные по этому делу тоже выдали все. Остался один я.
Илья (Гальперин) начал убеждать меня, что этот факт может мне очень повредить, но у меня ничего не было, а, если бы и было, не отдал бы. К тому времени я стал прозревать.
До ареста не было ни одного дня, чтобы я не прочел газет, и все, что было в них написано, принимал, как самую чистую правду. Я был готов побить каждого, кто сомневался в том, что написано в газетах.
В тюрьме я очень редко получал газету, да и то с большим опозданием, и только «Правду». Но после того, как меня соединили с Гальпериным, он стал от следователя часто приносить и другие газеты.
Так в «Известиях» я прочел несколько фельетонов о нашем деле.
С тех пор я перестал верить газетам и почти не читаю их.
Это было для меня большое потрясение. Я высказал это Илье, но он меня только высмеял.
Наконец, нам объявили, что дело кончено, и мы должны с ним ознакомиться, после чего его передадут в суд.
В кабинете, куда меня начали ежедневно водить, находились еще пять заключенных по нашему делу и заходили адвокаты.
Надо было ознакомиться со ста сорока четырьмя томами, написанными по нашему делу, и за каждый расписаться. Кроме того, нам разрешалось делать выписки.
Все это отнимало много времени и тянулось около двух месяцев.
Мне лично хватило половины страницы для всех записей, а Илья исписал не одну тетрадь. Вечером он рассказывал о том, что было днем (он был в другой группе).
Мы, заключенные, во время чтения томов перебрасывались словами, да и адвокаты приносили новости. И тут я понял ясно, что процесс будет страшным. Но сколько я ни пытался поговорить об этом с Ильей, он не хотел меня слушать, он был в восхищении, получая ежедневно через адвоката Лялины подарки. Единственное, что его волновало, так это то, что адвокат молодой и, наверное, «живет» с Лялей. Но тут я напомнил ему его же 30 % и потом говорил, что не все ли ему равно, чем она расплачивается с адвокатом.
Ни поговорить, ни поделиться мне было не с кем. И опять меня выручали только книги.
Читая, я мог сосредоточиться и все обдумать. А подумать было о чем.
Всем нам, арестованным по делу Ройфмана, объявили, что мы обвиняемся по статье 931 и по этой статье пойдем в суд.
Эти дни, пока мы «закрывали дело», остались в памяти, как сплошной кошмар.
После ужина, когда мы встречались с Ильей и нас выводили на прогулку, я все еще пытался с ним поговорить, но это было все равно, что стучаться в глухую стену.
Следователи и адвокаты сказали нам, что наш процесс будет транслироваться по телевидению. Илья был на «седьмом небе», а, наблюдая и перебрасываясь словами с другими обвиняемыми, я видел, что они тоже почти также реагируют на это.
Теперь, по прошествии стольких лет, мне кажется, что все они были не в своем уме, а тогда мне казалось, что с ума сошел я сам.
Наконец, все осталось позади, дело пошло в Верховный суд РСФСР, а мне разрешили свидание.
Когда я пришел в комнату для свиданий с надзирателем и увидел жену, дочку и сына, то боялся только одного – потерять сознание и напугать их.
С разрешения надзирателя дети сели ко мне на колени и целовали меня, а больше я ничего не помню, да и вернувшись в камеру, тоже ничего не помнил.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































