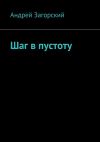Текст книги "Семь причин для жизни. Записки женщины-реаниматолога"

Автор книги: Ифа Эбби
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Скорбь
Идеальные устройства – врачи, привидения и воронье. Мы умеем то, чего не могут другие: кормиться печалью, распечатывать чужие секреты и устраивать театрализованные сражения с языком и Господом Богом.
Макс Портер. Горе – пернатая тварь
Не берусь сосчитать, сколько раз я стояла в кругу скорби той или иной семьи или хотя бы некоторых ее членов. И понимала: все, что я сейчас вижу, – только верхушка их фамильного айсберга. Мой персонаж лишь ненадолго появляется в первом акте, но это их драма.
На лекциях в колледже нам рассказывали о скорби. О том, что горевать в большинстве случаев нормально, хотя могут быть патологии. И что именно ты отвечаешь за то, чтобы подать плохую новость в хорошем ключе. Из тех занятий, насколько я помню, мне мало что по-настоящему пригодилось в реальных ситуациях, но каким-то вещам неизбежно приходится учиться в процессе работы на собственной шкуре.
И теперь, через семь лет после выпуска, всякий раз, когда мне приходится сообщать людям трагическую новость, я пользуюсь тремя правилами, которые выработала для себя:
1. Слушать.
2. Всегда произносить слова «мертвый», «смерть» и «умирать», если ты действительно это имеешь в виду.
3. Никогда и ни за что никому ничего не обещай, если это обещание – не твое.
Возможно, кому-то покажется, что не очень-то многому эта семилетняя практика меня научила. Но правда в том, что параллельно трем этим правилам я и так выполняю все, что могу. Когда ты, врач, заходишь в палату, откуда тебе знать, что творится в головах у родни, собравшейся вокруг твоего пациента? Конечно, для всех будет лучше, если ты постараешься преподнести им страшную новость как можно достойнее; приручить зверя скорби – дело благородное, но самонадеянно забывать о том, что горе непредсказуемо. Оно слишком многолико.
Иногда оно просто материализуется перед нами: выходит, выбегает, неистово вырывается или торжественно марширует.
Как-то утром я оказалась одним из трех человек, собравшихся в комнате со стенами цвета магнолии, зелеными пластиковыми креслами, цветочными акварелями в рамках и пачкой салфеток на столике перед нами. Я поздоровалась, представила сидевшую рядом медсестру, объяснила, к чему сводится моя роль как реаниматолога. Спросила у дочери пациентки, понимает ли она, что происходило с ее матерью до сих пор. И выслушав ее ответ, заполнила кое-какие пробелы в своем понимании их истории, прежде чем приступить к главному.
Я была существом, которое сообщает плохие новости – и отвечает за то, что они плохие.
В колледже нас обучали формальной концепции преподнесения дурных новостей «успешным образом». Я слушала лекции, участвовала в ролевых играх с актерами, размышляла над кинофильмами и реальными событиями. Научиться «правильно» объявлять людям о чьей-либо смерти всегда было для меня очень важно, но я часто сомневаюсь: а понимает ли вообще кто-нибудь, что это значит? Вспоминая тот день и комнату цвета магнолии, я признаю: тогда я могла бы справиться и получше. Ведь у меня уже получалось лучше, и не раз. Это была не первая выдернутая мной чека, и уж точно не первая взорванная мной граната. Вы можете запросто представить – при всем минимуме приведенной здесь информации, – что у вас получилось бы лучше. И возможно, будете правы.
В подобные дни, когда я ругаю себя за то, что все получилось не так хорошо, как я рассчитывала, я всегда возвращаюсь к вопросу: а что значит «хорошо», и для кого? Чье душевное здоровье я на самом деле пытаюсь здесь спасти? Лично для меня было бы «хорошо» вообще не появляться в той комнате с постоянно лязгающей дверью и не подбирать «хорошие» слова о том, что мать этой девушки, мать другого человека, стоит на пороге смерти. Да и кто я такая, чтобы пытаться обуздать ее душераздирающую реакцию на горькую правду? Кто вообще сказал, что это должно подчиняться моему контролю? Ни этой смерти, ни этого горя я Небесам не заказывала.
Я сообщила этой девушке, которой не было еще и двадцати, что та, кто ее родила, сегодня умрет и больше никогда не вкусит радостей земной жизни. Просто выложила ей всю правду – и уже потом добавила кое-что помягче, получше, чтобы пожалеть ее, утешить и примирить с неизбежным.
Но в тот день само горе восседало передо мной в зеленом пластиковом кресле. Это воплощенное горе закрыло глаза, покачало головой и отказалось от каких-либо рецептов с моей стороны. Я предоставила ему долгую паузу, а потом сказала, что очень ему сочувствую – и могу лишь догадываться, какую боль ему сейчас причиняю. И горе ответило, что я не причиняю ему боли, я его раздражаю. Что говорить, для раздражения у этой девушки были все основания.
Поэтому она встала с кресла и объявила: «Все, с меня хватит!» На автопилоте дошла до двери, но перед самым выходом запаниковала, ее пальцы затряслись и сорвались с дверной ручки. Она вновь ухватилась за ручку, и ее вторая попытка вырваться из этих стен, наконец, удалась. Дверь с треском захлопнулась. Медсестра, да и я сама вроде бы порывались побежать за ней. Но не сразу.
Как вообще это можно – бросить гранату в жизнь человека так, чтобы он не побежал прочь в ужасе?
После таких диалогов я, по идее, всегда должна спрашивать себя: как стоило бы поступить правильнее? Как вообще это можно – бросить гранату но – бросить гранату в жизнь человека так, чтобы он не побежал прочь в ужасе? Но порой мне кажется, что ситуации, в которых кто-нибудь выскакивает из комнаты, нам просто необходимы. Возможно, отчасти искусство сообщения «сокрушительных» новостей как раз и сводится к тому, чтобы кто-нибудь реально сокрушил что-нибудь своим телом.
В колледже нас старались обучать как можно «реалистичнее»; актеры в ролевых играх были весьма назойливы в своем энтузиазме, и я постоянно ругалась с ними из-за того, что удовольствие, с которым они играли «убитых горем родственников», слишком бросалось в глаза. Ничто из подобного «обучения» не подготовило меня к тому, как откровенно и грубо может проявляться горе другого человека.
Было девять утра, и я только что помогла медсестре в приемном покое поднять с пола женщину. Бедняжка примчалась в больницу и упала в обморок после встречи со своим умирающим братом; ее просто «замкнуло», и она рухнула под грузом того, что стряслось. Распласталась на полу, и мы подложили ей под голову подушку. Когда же она пришла в себя и медленно отрыла глаза, лицо ее передернулось от осознания того, что кошмар продолжается, – и глаза вновь остекленели от боли. Ее брат, которому едва исполнилось тридцать, лежал в коме с трубкой в груди – и всего через пару часов его сердцу суждено было остановиться навеки. Этим утром дежурный врач собрал его семью и объявил, что смерть неизбежна. Для всеобщего блага следовало признать: он достаточно мертв для того, чтобы о нем скорбеть. В практике реанимации часто бывает, что объявить родственникам о конце имеет смысл, пока сердце пациента еще не затихло.
Через несколько минут я уже стояла перед умирающим и его семьей. Две сестры и два брата, один из которых очень скоро покидал этот мир. Моя команда решила предоставить для семейного прощания больше личного пространства, и я только что помогла перевезти пациента из общей палаты в отдельный бокс. И уже собиралась вынести в коридор какие-то ненужные вещи, как вдруг все они закричали. Закричали на своего брата, требуя, чтобы он вернулся обратно. Старшая из сестер принялась трясти его за плечи, и хотя не смогла даже приподнять его тело над простыней, я запомнила, как резко это контрастировало с неподвижностью пациента, его закрытыми глазами и тонкой белой простыней поверх голого тела.
Затем его брат, повернувшись ко мне, с надрывным отчаянием крикнул:
– Ну давайте! У вас же есть оборудование – так пробуйте!
Они были очень похожи, эти два брата, хотя у одного лицо покоилось в безмятежном неведении, а у другого – искажалось возбужденной гримасой. И это, второе лицо опять повернулось ко мне и заорало еще оглушительнее:
– Почему не пробуете?! Чего вы хотите – денег?!
Никто не ждал от меня ответа, но теперь уже младшая сестра покойного, перехватив инициативу, попробовала зайти с другой стороны – стала спрашивать у меня: да представляю ли я, как он важен для них и как бесценны все они друг для друга? Я сказала, что да, я могу себе это представить. Что у меня тоже есть брат, и я очень сочувствую им. Стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее и ласковее, я все же ответила: нет, исход неизбежен, и изменить его не сможет уже ничто. Еще несколько секунд все они метались по комнате, не понимая, что делать дальше, пока, наконец, не расселись молча – кто на стульях, кто на полу.
В этой маленькой комнате было столько печали, столько отчаяния. Но, несмотря на муку и боль, пропитавшие все вокруг, мне так и не удалось толком понять, что же чувствовала я сама. Наверно, так и должна ощущаться Полная Пустота.
Чье-то семейство вокруг тебя корчится от боли, а ты ни при чем. Именно эмпатия часто приводится как неоспоримое и ключевое завоевание современной медицины, ориентированной на пациента. Но любое сочувствие порождает необъективность; да и в конце концов, бывают случаи, когда пропускать через себя всю трагедию и боль пациента или его семьи не просто излишне, но и крайне вредно для той работы, которую тебе нужно выполнить наилучшим образом. Не припомню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь говорил мне, что иногда полезно выстраивать стену между болью того, с кем имеешь дело, и собственной психикой. Но я бы с ним согласилась. Да, нередко в своей карьере я исходила скорее из ограниченной версии сострадания, чем из эмпатии; но бывали и ситуации, когда сознательно отгородиться от слов семьи умирающего – это именно то, что нужно.
Меня называли убийцей. В то раннее утро я стояла перед очередной семьей – людьми, которых минувшей ночью известили о том, что их родственница получила внезапную и несовместимую с жизнью травму головного мозга. Все случилось за пару секунд: вот она мчит в машине по шоссе, а вот уже прижалась к обочине с дикой болью в голове. Между этими мгновениями бедняжку и настигла аневризма: ее мозговая артерия разорвалась. Она за рулем. При смерти. Привычное, бытовое событие обернулось катастрофой. Тихо и незаметно. «Скорая помощь» наконец добралась до нее по шоссе, завывая сиренами, и с дальнейшей тишиной пришлось распрощаться.
Меня называли убийцей. В то раннее утро я стояла перед очередной семьей…
В больнице ее «скорую» принимала наша команда. Я очистила ее дыхательные пути от рвоты, вставила трубку в трахею, стиснула кислородную подушку, запуская в легкие воздух, подавила поток инородных тел, поднимавшихся по нижним дыхательным путям из желудка. Запустила через трубку в легкие зонд-бронхоскоп с видеокамерой и отсосала всю эту кашу, чтобы мы смогли снабжать ее кислородом для выживания. Наконец, обезопасив ее дыхание, мы смогли просканировать ее на томографе, но когда тот подтвердил катастрофическую потерю крови, пациентка была, по сути, уже мертва.
Дежурный врач, пришедший на работу раньше меня, объяснил ее семье, что ситуация безнадежна. Но теперь, когда ее доставили в реанимацию, уже я стояла перед этими людьми, и у них еще оставалось целое море вопросов. В том, что одни и те же вопросы задавали мне снова и снова, не было ничего необычного. Поэтому сначала я отвечала подробно, что выжить она не сможет – как с вентиляцией легких для поддержания дыхания и препаратами для стабилизации пульса и кровяного давления, так и без всего этого. Затем решила ответить проще – что хирургическое вмешательство не поможет и уходящее время не остановить. Но едва я вывалила на них эту нехитрую правду, муж пациентки навис надо мной, точно скала, и произнес как нечто само собой разумеющееся:
– Отобрав у нее эту трубку, вы станете убийцей.
Он говорил о трахеотомической трубке, которая поддерживала ее дыхание механически.
Я смотрела на него, переваривая услышанное. В таких ситуациях положено отвечать – неспешно, взвешенно, с максимально возможным состраданием, – что смерть не является лишь одним из возможных исходов, она неизбежна. И я объяснила им всем, что их родственница больше не может жить и от ее смерти мне их не спасти. Что даже если мы оставим ее на искусственном жизнеобеспечении, ее сердце все равно остановится в течение дня или максимум завтра утром. Я сказала им, что та, кого они все так любят, уже никогда не проснется, чтобы жить дальше, что я им очень сочувствую и понимаю, какой сокрушительной новостью звучат для них эти слова.
Ее муж посмотрел на меня не мигая и ответил:
– Да, я знаю. Но я говорю о том, как это видится нам. А мы видим это именно так: вы убьете ее.
Врачу в подобной ситуации вовсе не следует вести себя так, словно его обвинили где-нибудь на улице в чем-то ужасном. Или хотя бы в намерении совершить то, о чем не говорят вслух. Ни твое праведное возмущение, ни запальчивое отрицание в такие минуты не приведут ни к чему – ведь ты здесь вообще ни при чем. Скажи себе спасительные слова: «Это не твое шоу». И оставайся нужным: в первую очередь, пациенту, а во вторую – людям, которые его любили. И поэтому – да, стой и слушай, как эта семья говорит тебе: если мы смиряемся с неизбежностью смерти, то пусть ваш пациент умирает той смертью, которая кажется нам достойнее, – чтобы потом, оглядываясь назад, мы не считали вас не той, кто вместе с коллегами делал все для спасения нашего дорогого родственника, – а той, кто его убил.
А потом подожди – и если понадобится, стань для них кем-то еще.
Ты здесь вообще ни при чем. Скажи себе спасительные слова: «Это не твое шоу». И оставайся нужным: в первую очередь, пациенту, а во вторую – людям, которые его любили.
Их родственница скончалась в тот же день. Не успела я заступить на очередное ночное дежурство, как ее сердце остановилось. Она умерла, не отключенная от искусственного жизнеобеспечения; полагаю, для них это было особенно важно. Я сказала семье, что глубоко соболезную их утрате, и никто из них не упомянул о прежних обвинениях. Муж сказал «спасибо», его брат выдержал мой взгляд, не сказав ни слова. А затем они ушли из отделения – со всей семейной скорбью, волочившейся за ними следом.
Каждую из таких семей смерть посещает, как молния, ни с того ни с сего: нынче здесь, завтра там – ни дня на подготовку. Бывает, конечно, и так, что смерть подкрадывается постепенно, годами, – но даже тогда, перед лицом победившей хронической болезни, ты можешь неожиданно оказаться в роли рассказчика горьких правд. А точнее, секретов, которые давно уже всем известны[6]6
Рассказчик Горьких Правд (Teller of Unfortunate Truths) и Рассказчик Секретов (Teller of Secrets) – персонажи популярной серии компьютерных игр «Божественность» (Divinity), разрабатываемой с 2009 г. бельгийской студией «Larian».
[Закрыть].
Близилась полночь, и я поднималась по лестнице в общее отделение. Вокруг стояла тишина, без привычного воя сирен за окном. По пути я не встретила никого, а когда добралась до цели, свет в отделении уже погас. Створки дверей распахнулись, и я вошла. Дежурная медсестра на посту, оторвавшись от отчетов по жидкостным балансам, посмотрела на мой хирургический халат, догадалась, что я из реанимации, и указала на дверь бокса в конце коридора.
В общее отделение я прибыла по вызову медицинской команды, чтобы осмотреть умирающего от хронической болезни. Пациенту было шестьдесят лет, и вокруг его постели сидели жена, дочь, сестра и отец. Помню, меня сразу же поразило то, что отец выглядел здоровее и моложе сына. Видела я этого пациента впервые, но без труда определила, что у бедняги – тяжелейшая сердечная недостаточность и столько других хронических симптомов, что жить ему, скорее всего, осталось недолго.
Свободных стульев не оказалось; не желая никого травмировать лишней суетой, я присела на корточки у кровати, представилась. Произнесла его имя, спросила, как он себя чувствует. Он скосил глаза в мою сторону и прошептал «привет», – но увы, как слишком часто бывает при подобных знакомствах, был уже слишком болен, чтобы обменяться со мной даже парой фраз. Закончив осмотр, я подсела к родственникам и спросила, обсуждал ли кто-нибудь с ним, чего бы он хотел в последние часы своей жизни.
Они ответили с трагической беспомощностью, что нет, ничего такого с ним не обсуждалось. Тогда я уточнила: а как им кажется – понимает ли он сам по своему состоянию, что, скорее всего, умирает? Или даже не подозревает, насколько плохи его дела? Они переглянулись, затем снова посмотрели на меня – с таким сочувствием, словно и хотели бы мне ответить, но это нереально. И лишь повторили, что ничего об этом не знают.
Тем и коварны хронические заболевания. Мне, врачу, было ясно, что пациент вот-вот умрет, однако ни для него, ни для его семьи трубный глас не прозвучал. Хронические недуги редко заявляют о себе с апломбом какого-нибудь пафосного заболевания вроде рака. Такая смерть чаще подбирается к людям подолгу, не торопясь. И лишь когда она застает их врасплох, наступает мой выход на сцену: мне приходится сообщать им эту страшную новость, выкладывая перед ними истины, известные давным-давно, только до сих пор по каким-то причинам остававшиеся для них недоступными.
Я позвонила домой своей старшей коллеге; выслушав меня, она согласилась, что пациента уже не спасти, но посоветовала еще раз поговорить с родными и, возможно, предложить им неинвазивную вентиляцию, если сочту это нужным. Пациент к тому времени дышал уже с трудом. Он получал доступ к дополнительному кислороду через маску, но этого было недостаточно; в подобных случаях в качестве дополнительной меры можно прибегнуть к неинвазивной вентиляции давлением. Для этой процедуры не требуется ни обычной трубки, ни трахеотомии. Пациенту нужно оставаться в сознании и дышать самостоятельно, но мы используем давление, чтобы немного ему помочь. Для этого применяется маска, которая плотно прижимается к лицу, образуя над головой нечто вроде капюшона или прозрачного пузыря с лямками, затягивающимися у основания шеи. Обычно, объясняя пациентам, что такое неинвазивная вентиляция, я стараюсь честно рассказывать, какие ощущения им предстоит пережить. Предупреждаю, что в этой маске они могут почувствовать себя так, словно высунули голову из окна автомобиля на скоростной трассе, но если сумеют при этом не волноваться, быстро привыкнут, как большинство пациентов в их ситуации. Поясняю, что под этим капюшоном может быть жарковато, но тут же напоминаю, что они всегда могут попросить нас остановиться, все зависит от них самих.
Каждый раз, начиная этот диалог, я вспоминаю далекие дни, когда в мои обязанности еще не входило объяснять пациентам, как все это работает. Не прошло и года с момента получения диплома, и я оказалась в хирургическом отделении, куда нашу команду вызвали проводить легочную вентиляцию с помощью этого самого капюшона. В результате пациенту реально стало лучше, но когда его возвращали в палату, чтобы вскоре выписать и отпустить домой, он страшно злился и ядовито шипел сквозь зубы: «Напялили на меня чертов колпак, как на клоуна! Будь я проклят, если еще хоть раз соглашусь на такое!» Что ни говори, а неинвазивная вентиляция – штука весьма неуютная и далеко не всякому по нраву.
Отогнав это воспоминание прочь, я предложила семье моего нынешнего пациента такую же процедуру, ясно давая понять, что ничего другого нам просто не остается. Если это не поможет, мы уже не станем подключать его к системе жизнеобеспечения. И если его сердце остановится, любые попытки запустить его вновь будут обречены. Лицо отца засияло добротой. Он положил руку мне на запястье, пожал его и произнес: «Я знал, что вы сообщите мне хорошую новость».
Мне очень хотелось, чтобы он оказался прав. Но я знала, что для него у меня хороших новостей уже не осталось.
Он положил руку мне на запястье, пожал его и произнес: «Я знал, что вы сообщите мне хорошую новость». Мне очень хотелось, чтобы он оказался прав. Но я знала, что для него у меня хороших новостей уже не осталось.
Вы можете спросить: а зачем я вообще предложила для этого пациента интенсивную терапию? Ведь я была совершенно уверена в том, что выжить ему не удастся. Возможно, мне с моим опытом и не хватило твердости, чтобы отказаться сразу, но я ничуть не сомневалась еще и в том, что его семье нужно было увидеть этот последний провал своими глазами. Понять, что никаких шансов уже не осталось. Отец семейства посмотрел на меня своими добрыми глазами, и под этим взглядом мой стратегический план обратился в пепел. Я решила обращаться с семьей так же, как и с самим пациентом; все они стали для меня единым целым.
Они расселись у входа в операционную, и я начала понемногу, ложка за ложкой, скармливать им горькую реальность. Так прошло два часа, и в том, что неинвазивная вентиляция не принесла клинических улучшений, можно было уже не сомневаться. Тогда мы собрались вместе уже в третий раз за ночь, и я объявила, что на этом все. И что теперь лучшее, что я могу сделать, – это дать ему спокойно умереть. В такие минуты крайне важно произнести сами эти слова: мертвый, смерть, умереть. Ясно и отчетливо. По щекам отца побежали слезы, и он сказал мне, что его сын обещал ему не умирать первым. Услышав такое, я поняла, что это медленное, растянутое умирание его сына, видимо, давно уже не являлось для него секретом. Скорее, оно служило основой для некоего диалога, который они продолжали, несмотря ни на что.
Но вот отец снова берет меня за руку. И с мольбой во взоре спрашивает, не помогут ли сыну дополнительные полчаса. Однако на этом этапе уже следует называть белое белым, а черное черным, теперь все происходит быстро и жестко. Я должна думать о своем пациенте – главной функции этого уравнения, – и потому, не отнимая руки от его пальцев, я отвечаю: нет, сейчас ваш сын умрет. Я остаюсь добра, но решительна. Доигрываю свою роль до конца – и сообщаю им страшную новость.
Это звучит слишком бездушно? Если я назову себя плеером – механизмом, промелькнувшим в их фамильной истории, – то вовсе не из пренебрежения к ним. Масштабы трагедии, что обрушилась на эту семью, не уважать нельзя. Равно как и преуменьшать их; уверяю вас, в эти минуты мой пациент, его семья и их общее горе – важнейшее, что для меня существует. Даже если я ощущаю в душе пустоту, поверьте мне на слово: пустота – тоже очень определенное чувство. Именно из нее приходит осознание того, что у меня есть работа, которую я не выполню, если начну разваливаться на части. А выполнение своей работы – единственное добро, которое я могу подарить этим людям в их ситуации.
Но знание того, чего и сколько ты можешь дать другим, приходит с опытом, и я продолжаю этому учиться. Недавно в больницу доставили девушку с бактериальным менингитом. Она выступала на презентации какого-то учебника, и ее скрутило в мгновение ока; «скорая» прибыла сразу, но когда парамедики закатили бедняжку в приемный покой, она уже теряла сознание. Ее температура была выше, чем я когда-либо видела, а сердце колотилось, как у марафонца. Мы сделали все, что могли, но через три часа, когда я оттянула пациентке веки, зрачки ее были застывшими и расширенными – каждый с пятипенсовую монету, – и, заглянув в эти бездонные черные дыры, я поняла, что мы проиграли, хотя назвать эту битву честной нельзя было изначально.
Тем не менее пациентку положили в палату, а на следующее утро ее мозг оказался мертв. Гибель головного мозга – понятие сложное. Она наступает, когда стволовая часть мозга у основания черепа погибает. Без работы этой части мозга вы больше не можете оставаться в сознании, контролировать свое дыхание и управлять организмом. Ваш мозг теряет способность отдавать приказы остальным частям тела, а значит, вам уже неведома жизнь в любом смысле этого слова.
Мозг этой пациентки уже погиб, и мы вызвали ее близких. Сотрудники больницы по нескольку раз отвечали на любые вопросы, которыми нас бомбардировали ее родные. Я понимала, что вопросов будет все больше, и почти все время находилась на подхвате – то на линии фронта, то на флангах.
Я возилась с инфузионными насосами, стоя за изголовьем тележки, когда медсестра в первый раз завела в приемный покой родных, пришедших проведать больную. Я объяснила им назначение разных трубок и капельниц, попросила не пугаться случайных попискиваний портативного аппарата для искусственной вентиляции легких, к которому ее подключили. Прошлым вечером я помогала медсестре перевозить пациентку из реанимационной в интенсивку, затем часы напролет отмечала в больничной карте изменения в ее состоянии. А уже наутро объявила, что первая серия тестов подтвердила смерть ее головного мозга, и молча принялась за вторую серию тестов – на пару с дежурным врачом, который комментировал каждый мой шаг для наблюдавшей за нами семьи. Они пришли увидеть то, что мы называем смертью, и попытаться это понять.
Я в основном работала молча, но с самого начала была где-то рядом, и они привыкли ко мне – насколько вообще может привыкнуть к кому-то семья в состоянии кошмара, стремительно нарастающего сорок восемь часов подряд.
Мать пациентки была сама доброта. Постоянно благодарила меня, гладила по спине или обнимала. То и дело спрашивала, нет ли изменений в реакции дочери на процедуры, и когда я отвечала «нет», легонько касалась лбом моего лба и шептала: «Ну, все равно спасибо, что сказали». Сейчас, описывая те события, я удивляюсь, почему мне совсем не казалось странным, что у меня завязались такие теплые отношения с абсолютно незнакомой мне женщиной, что я очень естественно воспринимала все ее жесты или даже сама хотела, чтобы наши лбы соприкасались, – и все это, повторяю, не вызывало у меня ни малейшего дискомфорта. На такой работе бывает, что все пространство вокруг тебя уже просто кишит жуткими правдами, жестокими изломами судеб и неожиданными смертями и в самом воздухе разлито столько странностей, что кажется совершенно бессмысленным отвлекаться на общественные условности, которые мы обычно соблюдаем с теми, кого считаем чужими.
Сестра пациентки сидела у ее постели часами, подтянув колени к груди. Она была уже взрослой, но такой хрупкой, что казалась потерявшимся ребенком. Днем раньше, когда мы впервые встретились в приемном покое, она тоже меня обняла.
Эта семья согласилась на донорство органов, и когда, простившись с усопшей, ее мать и сестра покидали больницу, каждая из них обняла меня снова. За те две ночные смены меня обнимали бессчетное число раз. Я не возражала. Работая в реанимации, довольно быстро привыкаешь к тому, что от одного и того же врача разным семьям требуются разные вещи. А порой им хочется разного даже от разных врачей одной команды. И если именно мне выпадает преподносить им все эти ужасные новости, лучше я буду казаться доступной. Лучше я буду доброй. Той, кого можно обнять, если им это нужно.
Хотя, конечно, один вопрос так и остается у меня без ответа: а что нужно мне самой?
Когда родственники пациента обнимают меня, выныривая из пучин своей скорби, когда они цепляются за мои плечи, чтобы создать, пусть даже на миг, эту хрупкую связь, – нужно ли мне открываться им так, чтобы принять в себя еще больше их боли? Разве от этого мне не станет тяжелее выдерживать ту дистанцию, которая позволяет переходить от одного пациента к другому, к третьему и так далее?
Те, кто работает в радиологии, носят на лацканах дозиметры – миниатюрные жетоны, связанные друг с другом в общую «тревожную сеть», которая оповещает людей, если окружающий радиационный фон превышает нормы безопасности. И я невольно задаюсь вопросом: а что мог бы показывать мой дозиметр окружающей скорби? Разве моя «опасная доза» не увеличивается, когда меня обнимают? Разве я не рискую собой, когда становлюсь перевалочным пунктом для короткого путешествия очередной семьи по буеракам горя и боли? И кто вообще может знать, где пределы такой безопасности?
Когда родственники пациента обнимают меня, выныривая из пучин своей скорби, когда они цепляются за мои плечи, чтобы создать, пусть даже на миг, эту хрупкую связь, – нужно ли мне открываться им так, чтобы принять в себя еще больше их боли?
Интересно представить, что мы могли бы назвать «нормальной составляющей» своего обычного трудового дня; набросать некий список того, к чему мы привыкли в процессе работы. Врачи как профессиональные хранители здоровья вроде бы располагают постоянным ресурсом силы, за которую можно держаться, и это – защита людей. Мы привыкли к тому, что мы гибки, эластичны, да так оно и есть, ведь какая тут может быть альтернатива?
Некоторые случаи в своей практике я вспоминаю почти с ностальгией, как обряды посвящения: моя первая констатация чьей-то смерти; первое сообщение чьей-то семье о том, что надежды нет; первое осознание того, что кому-то суждено умереть в одиночестве.
Первый же случай, когда я поняла, что пожилая дама на койке передо мной умирает без родственников и друзей рядом, произошел меньше чем через месяц после получения диплома. Помню, я сидела в своей машине, все еще на парковке, и звонила домой маме. Заливаясь слезами, я рыдала в трубку о том, как мне грустно и как же это вообще печально, когда ты умираешь одна в целом мире, без семьи и без кого бы то ни было рядом в последний час.
Моя мама – медсестра, поэтому с ней всегда хорошо поговорить в подобных ситуациях. Она сказала мне: да, это очень печально, однако за этой пациенткой присматривают медсестры, и они позаботятся о ней, как и ты; все это тоже важно и стоит наших усилий. Она произнесла эти слова тем же голосом, каким учила меня не пугаться темноты, когда мне было пять; или когда, уже лет в семь, я восторгалась по телевизору красавцем Фредди Меркьюри, парившим над сценой в своей пурпурной мантии, а мама сказала, что он только что умер от СПИДа, – о да, это очень печально, но его будут помнить во все времена как феномен и суперзвезду.
Тогда, в машине, мне, уже взрослой, было все еще нужно, чтобы она сказала мне что-нибудь прекрасное. На сегодняшнем этапе моей карьеры я, конечно, больше не реву от подобных вещей. С тех пор у меня таких случаев было столько, что просто не хватит слез. Слава богу, такого рода переживания не задерживаются в нас надолго.
Сегодня я стараюсь больше фокусироваться на том, что конкретно я могу сделать для пациента, встречающего свою смерть без единой родной души рядом. Однажды утром, на четвертом году работы в больнице, я вышла на смену чуть раньше обычного. Собиралась подготовиться к обходу отделения, но тут мое внимание привлек один из пациентов на койке в углу. Этот высокий старик девяноста четырех лет был безмерно одиноким и таким худым, что под тканью больничного халата можно было сосчитать его ребра. Я наблюдала за ним уже около недели, и теперь он явно доживал свои последние часы, отчаянно сражаясь с халатом – так, словно не понимал, каким образом в нем оказался.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?