Читать книгу "Северная ходьба"
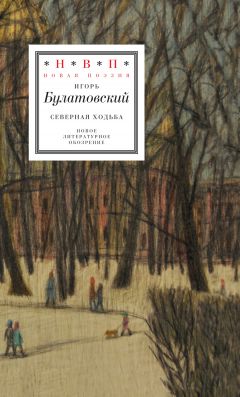
Автор книги: Игорь Булатовский
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Небо – какое? Февраль
Небо – какое? Наверху еще день, пролизанный сильным жемчужным ветром, а ниже, за мелкой голизной пихт, – розовое ничье крыло (можно перья пересчитать) из плеча жарко жухнущей силы отяжелевшего зверя в свежих красных царапинах инверсионных следов – между домами, в яме прямых углов.
Небо – какое? Внизу – натертая, остывающая полоса латуни, а выше – стеклянная вaтка солнца, еще полчаса, и втуне, в мутной тоне трудной рыбкой блеснёт, и – нет.
Небо – какое? Плотная синяя ветошь внизу плохо впитывает влажные комки непрошенной пыли, толпу умоляющих ночь, ветки березы сметают их сверху, чтобы там говорилось открытой, краткой, последней голубизной: «Прочь!»
Небо – какое? Оберточная бумага – в зеленоватых просалинах там, где может быть луна, завернутая в нее, купленная на вес, – стала уже пергаментной, уже прозрачной стала, так что скоро будет виден ущерб луны или ее рост.
Небо – какое? Неба нет, и необходима птица, которая поднимется так низко, что вдруг помутится в размахе крыльев, тут же придет в себя и крикнет оттуда: «Небо есть, но летать в нем не стоит труда!»
Небо – какое? Беленькая рединка, недотка, дрожащие нитки-монадки бывших, будущих облаков, мелкая рябь на прусском синем, а вот и лодка, парус, полупузырик полдневной луны… был таков…
Небо – какое? Обещание быть хорошим, сквозь слои слёз, и всегда пропускать вперед свет (и лён), и быть милым, и милори, и только потом – дождь и грозы, и красный ветер закатов, и козье молочко лун.
«Заблудиться бы в этом дереве…»
Заблудиться бы в этом дереве
безвозвратным глаголом и найти
на горячем стволе говорящую дверь –
продолженье пути.
Если пустит за дверь птичка-стражница,
отворится ночной холодок,
и окажется пусто и влажно там:
ни колец, ни волокон.
Ни кола, ни двора деревянного,
только дрожь пробегает по коре,
только звуки пустые трехрядные
гомозятся в нутре.
«Грязными пальцами по бумаге, по снегу…»
Грязными пальцами по бумаге, по снегу
тропинки проведены.
Что это – «нега»? Где взять эту «негу»,
если так рифмы нужны?
Все черней кора, кора все жирней,
тропинки – тени слова «древес».
Если бы не было слов, точней,
не было бы словес,
так бы все не сплелось бы, так
бы все не сплелось,
и слово «вместе», этот древесный знак,
не читалось, как «врозь».
«Всё – муть какая-то и всё – ясность…»
Всё – муть какая-то и всё – ясность
снежинок, падающих на рукав,
а между тем и этим есть опасность
лишиться самых тихих прав,
поняв, что мутность очертаний
и ясность линий суть одно
движенье слов, где ни черта нет –
документальное кино.
«Как же темно тебе, темно…»
Как же темно тебе, темно.
сердце маленькое, человечек простой,
будто единственное окно
закрыли тебе рукой.
Тот, кто руку к сердцу прижал,
разве знал, что заслонит свет,
разве ему этого света жаль?
Конечно, нет.
Сейчас ты у него пройдешь,
и будет тебе опять кино –
эта золотая, чистая ложь,
льющаяся в окно.
Прелюдия
Всегда спускаться по этим нотам –
на дно «перед игрой». А во время игры
подниматься по ним к светлым воротам,
к свету горы, и на фермате горы
видеть прикованного отца экстаза,
отца, которого в губы орел клюет,
и вместо губ горит углевик – зараза,
красный карбункул – его драгоценный рот,
быть Юлианом-заступником, стоящим насмерть
за отца, за отцом, как тайна, – мистерии тень,
чтобы умереть поскорее, наспех,
где подвернется (Ирпень, так Ирпень),
за черной гондолой в детское мелкое плаванье
листиком рыбьим поплыть всё плавнéй,
все плавней извиваясь в днепровском плавне
среди тяжелых – как эти ноты – камней.
«Сколько солнце набило зеленых точек…»
Сколько солнце набило зеленых точек
на красном, если закрыть глаза,
а если открыть их, – красных на голубом,
так и пестрит этот, в горох, платочек,
и кровоточит бледная бирюза,
и за листком листочек распускаются подо лбом!
А вот и стебли, если двинуть зрачками,
вот и струйки, их скоропись, вдоль-поперек,
вот их срочное, дрожащим светом, письмо.
Не разберешь… Но как-то с этими быть значками
надо… Как быть без них, без этих последних строк?..
Ждать, пока не дойдет само?..
«Крупные хлопья снега…»
Крупные хлопья снега.
Жизнь собой занята.
Взять бы телегу, чтобы с разбега –
не километр, а верста,
та, полосатая, в поле,
где ничего не видать.
Снег рожу колет. Отколе? Доколе?
Витиеватая гладь.
Столько насыпалось в сердце,
что – никакого труда
единоверца искать в иноверце,
Кюхлю принять за жида.
«Голова стоит на ветру…»
Голова стоит на ветру,
ветер стоит на голове
и говорит: «Если не умру,
не оживу в листве».
«Что это еще за цирк –
на голове моей стоять, на ушах?»
Отвечает лишь «чик-чирик»
и стоит на ушах…
«Все неподвижно, как стрела Зенона…»
Все неподвижно, как стрела Зенона
из лука лучника, не знающего, что
все неподвижно, как стрела Зенона,
летящая в летящее пальто,
которые теперь никто не носит,
а носят их теперь одни пальто,
которые по тьме свет ветра носит,
которые от стрел как решето.
«Старик идет и кашляет. Звук мокроты…»
Старик идет и кашляет. Звук мокроты
похож на рвущуюся простыню.
В этом звуке слышится «идиоты!».
Деревья стоят костлявыми ню
Эгона Шиле. Ветер в их щели
гонит снежное семя. Оно взойдет.
Старик сплевывает. Мимо цели,
куда бы ни плюнул. И вытирает рот.
«Скажи, и повтори опять…»
Скажи, и повтори опять,
и повтори, что скажешь, снова
всё, что устала повторять
дыханья частая основа,
ее колючее сукно –
сплошные крестики в узоре –
и каждый крестик – окно,
скажем, с видом на море,
там белой ниткой – пены нить,
а дальше – зеленое, синее,
и всё сильнее хочет пить
большая чайка, все синéе.
(А что же повторять, скажи?
Не повторяет никто дважды,
приставив к воздуху ножи
воздушной жажды.)
«Горькая правда дыма между губами…»
…le ciel de bistre…
P. V.
Горькая правда дыма между губами.
Сигаретка сгорает быстро.
Небо сгорело быстрей – до бистра,
разбавленного облаками.
Откуда здесь эта французская сажа?
Из Верлена – из черной почти «Марины».
Сигаретка сгорела. Осталась лажа
не берущейся на кисть-перо картины.
Как хорошо говорить стихами!
А слушать стихи почему-то скучно.
Кто-то скоро дойдет штрихами
до этого места. Хотя и так больно тучно.
«Плотная фраза, с оборванным краем…»
Плотная фраза, с оборванным краем
(как ленточка, вьющаяся над страстотерпцем,
которому кишки на вертел мотаем,
считая витки чуть севшим от стука сердцем).
Что там сказано? Не то чтобы не важно –
все дело в самих буквах, конечно,
все дело в шрифте, в этих высоких башнях,
в этой стене из камней безгрешных.
Тихо вьется она вдоль детского сада,
тихо навиваются кишки своей резьбою,
тихо смотрят на вертел дети из‐за ограды,
тихо стражники Максимиана готовы к бою.
«Всё неясно в ясности небожьей…»
Всё неясно в ясности небожьей,
только и ветра, что рябит
воду в луже, новенькой, прохожей,
не прохожей хотя на вид,
а проезжей, не пеняют где
на кривые ружья свои
кленов-липок стволы, в рябой воде
вдруг из веток пуская хвои.
Ясно всё в неясности божьей,
только и ветра, что трепать
эти нервы под воздушной кожей,
только и беды, что благодать.
««Петрополь», «диафания» – в любом…»
«Петрополь», «диафания» – в любом
из этих слов есть маленькое место,
где можно ткнуться вниз горячим лбом,
не думая о вычурности жеста.
Лишь черновой подстрочностью его
смутясь немного и гордясь немного,
прозрачное глотая вещество
начального бессмысленного слога.
«Картофельное поле под снегом…»
Картофельное поле под снегом,
с черной канавой посередине, –
такая сейчас река, и ветер с оттягом
бьет по этой картине,
и слышен хлопок холстины, и чайка,
превращается в галку, изменяя спорту,
меняя майку сперва на фуфайку,
а потом – на ватник и посылая к черту
пух и перо, отточенное в полете,
и – пешком по грядке, с мешком за спиною,
с ленцой ковыряясь лицом в ледяном болоте,
глубину сводя к перегною.
«Собака посреди двора…»
Собака посреди двора
сидит и смотрит туда, сюда,
сюда, туда смотрит и сидит,
ей скучно, ведь жизнь – игра,
запах и немного голода.
От этого у собаки растерянный вид.
Не с кем играть в собачью жизнь,
запах весь еще пропитан водой,
водой пропитан еще весь запах,
а голод – слишком много возни,
чтобы заниматься такой ерундой…
Собака потягивается на передних лапах.
«мешок под ветром катится…»
мешок под ветром катится
воздуха вещь-мешок
торбочка
турба-урбачка
эники-беники юбочка
звуковой порошок
шороха ворох
выскочил
из-под колеса
молодец
сика-лиса
наше вам с кисточкой
но прямо в кусты
бац
«Я скажу тебе (не слушай)…»
Я скажу тебе (не слушай):
этот страх, что кормит уши
и выходит изо рта,
это – эта, а не та,
мýзыка, а не музы́ка, –
на подтяжках ветровых,
шлепающих в пузо звука,
что дает тебе под дых,
что дает тебе под дых,
что дает тебе под дых:
ых!
«розка желторотая…»
И на лилею…
Пушкин
розка желторотая
голая голей
голого расчета
воздуха нулей
ты на подоконнике
веточке тяжела
ждут земли поклонники
чтоб ты умерла
от земного голода
ну-ка околей
чтоб смотреть на головы
лелий лилий и лилей
«Облака побуквенно, посложно…»
Облака побуквенно, посложно
говорят по синему листу,
что уже не быть немного – можно,
что уже не быть – немного можно,
просто глядя вверх, не в высоту.
Только эти синие просветы
говорят от бледного лица,
что они пока еще не спеты,
что они пока еще неспеты,
что еще не спелись до конца.
Каменные стихи
…da gehäuft sind rings
die Gipfel der Zeit…
Hölderlin. «Patmos»
Земля похрустывает корочкой
и раскрывается на той
странице-створке разговорчика,
за известковой запятой,
за аммонитом, после вводного
и обращения на «Ты»
к тебе, лицо собранья водного
и поземельной пустоты,
на той странице замусоленной,
на той, зачитанной до дыр
водой проточной, подневоленной,
грызущей твердый красный сыр.
Ты, говорят, земную книжицу
в гудящих пальцах разломил
и прописал большую ижицу
ее вязанкам трудных жил
и жил нетрудных, натрудившихся
и канувших в земной огонь,
земную воду, и отмывших всё:
и пот, и соль, и грязь, и вонь.
Теперь терпеть им снова засветло,
считая каменный песок,
и вверх без кирок и без заступов,
под ветром жил, наискосок,
идти, наращивая мускулы,
к вершинам времени, туда,
где бесприютные корпускулы
войдут в них снова – навсегда,
где в них войдет вода невинная
и невиновный сладкий хлеб,
и жизнь, теперь за смертью видная,
и корень «зем», и корень «неб»,
что в них сплетутся обращением
тяжелых, благодарных смол,
и щебетаньем, и прощением –
в один последний, первый ствол.
«Есть музыка над вами, суки, суки…»
Есть музыка над вами, суки, суки!
Шерсть воздуха полна ее прозрачных гнид,
их выбирают сморщенные руки
тяжелых склеротичных аонид.
И каждую, младенческую, – к ногтю.
И щелкает… И в голове слышна
засыпанная паровозной копотью
по пояс – елисейская страна.
И каждый раз – в последний раз, и снова
в последний раз вам музыка звучит,
и каждый раз, не сдерживая слова,
в последний раз вам музыка звучит!
«Так умирают на руках…»
Так умирают на руках,
на слабых пальцах, побежденных,
горячий свет, горючий прах
и пятна слов, собой склоненных
в каком-то общем падеже,
в повальном казусе, по-скотски,
«еще» меняя на «уже»,
ужом, вьюнком, дымком от папироски
виясь…
«Пусть тут слышится голос, давно ничейный…»
Пусть тут слышится голос, давно ничейный,
не в частном смысле, а в качестве общего счастья
что-то сказать стихами, случайно, отчаянно,
просто выронить сыр из пасти.
Пусть этот голос, отчужденно картавый,
непрерывно прерывистый, как три-точки
три-тире-три-точки, тянущий слева направо
вверх, вниз и вверх, посинелую жилу строчки, –
пусть этот голос в каждом своем повторе,
каждой волне, бросающейся под нóги,
чтобы сбить с ног, будет чужим как море,
что на первом, что на последнем слоге.
Пусть этот голос, раздрызганный на подголоски
детского хора амёб в туфельках и ресницах,
вечно лежит на дне, где рыбы страшны или плоски,
и кашалоту даже во сне не снится.
«Тень отца ложится на траву…»
Тень отца ложится на траву
и растет под ветром понемногу,
где-то в ней и я еще живу,
с остальной травой шагая в ногу.
Холодеет кровь, трава идет
пóд ноги, под нож, под хохот сада,
в отчий слух роса зеленых рот
падает последней каплей яда.
«Что не сказано прямо, то криво…»
връжеся дивь на землю
«Слово о полку Игореве»
Что не сказано прямо, то криво
пробивается к сердцу, в обход.
На дворе, на траве, золотушное Диво,
поцарапав коленку, орет.
И такие заводит коленца,
и такие колóтья в боку,
будто горло стрекает ему заусенца
слóва маленьких слов о полку.
Ополчась на колючую землю,
на обиду ее и кремень,
подсекает поджилки шершавому стеблю,
и – ногой в золоченый стремень
кологривого воздуха, в пятнах,
в белых яблоках потных теней,
чтобы ткнуться в колени, проситься обратно
в лоно лунных, бессолнечных дней.
«тоху ва-воху…»
тоху ва-воху
безвидна и пуста
богово богу
света капуста
вся без застёжек
до сотого листа
белых одёжек
а под ними пусто
на асфальте малёванная
рожица ничья
потерянная нигде
рябое заплеванное
нечаянное я
на серой твердой воде
«лязгай жуть в трубе в час летний…»
Я скажу тебе с последней…
Мандельштам
лязгай жуть в трубе в час летний,
прямо в той
пережаренной «Котлетной»,
залитой
постным солнцем оптимизма
до краев,
где стекла стекает призма
в семь слоев,
где над супом плачет ложка
в три ручья,
и себя не жаль немножко,
сгоряча,
где раскатывают губы
над борщом
исрафиловы раструбы,
и еще-м-м-м
есть минута на послед
нее «прочти»,
замыкающая бред
ни «без пяти».
Акации
Всё уже не ново:
не цветочки, а стручки,
надета понёва,
уже вы не девочки.
И накатывают славно
под вами мужички,
нежно и сурово,
под вашими веточками.
Одна другой говорит:
«Шу-шу-шу, шу-шу-шу»,
но смутилась третья
или делает вид,
мол, я не дышу,
а могла бы и спеть я.
«Тоска прекрасная, надплечная…»
Тоска прекрасная, надплечная,
чуть-чуть звенящая тоска,
дощечка, солнцем искалеченная,
у пра-, у левого виска.
И так она обратно хочет выгнуться,
и так выгибается вся,
что тень ее болит в тупом углу лица,
до острого угла лицо слезя.
И катится зерно, и катится
в тоскующий подол земли,
и вот уже в цветочек платьице,
метелки воздух подмели.
«у воробушка всего…»
у воробушка всего
восемь крылышек
но тебя он всего
может вылущить
будто семечку
или просто съесть
будто чéрвишку,
со всем, что в нем ни есть
воробейчики
соловейчики
ничего вам не скажу
хоть убейчики
буду семечкой лежать
между осточек
буду червишкой бежать
между косточек
буду знать обо всём
что-то страшное
буду нем буду вем
буду брашно я
«Поднимаешься на ступеньку…»
Поднимаешься на ступеньку
воздуха и видишь оттуда
желтоватую мелкую пенку,
взбитую ложечкой чуда,
ложечкой на первый зуб, серебряной,
чтобы назубок запомнить
этот глагол-моголь длинного времени –
на всю короткую память,
что остается только под ложечкой
и посасывает иногда немного,
можешь даже сказать «немножечко» –
ради малой толики слога.
«ласточка бабочка…»
ласточка бабочка
переполох
в облаке облака
совсем облак плох
он растает нам
скоро совсем
пух там
перо сям
семо и овамо
где хотишь
но только неявно
веянно лишь
«Сено, солома…»
Сено, солома –
всё горячо,
сил Силоама
просит плечо,
просит предплечье,
просит рука –
извóда, течи,
воды, глотка,
голоса силы,
ее плеча,
пока тянет жилы,
пока горяча.
«Кругом орнаменты цветут…»
Кругом орнаменты цветут,
смерть идет по спинкам насекомых,
животам червей – и где-то тут,
в горле, собирает в нежный ком их.
Что там вьется-шьется на полях,
что за кашка там заваривается,
в рамочку берет подножный прах,
говорит – не проговаривается?..
«Как сказать то, о чем сказать нетрудно…»
Как сказать то, о чем сказать нетрудно
хошь – под вечер, хошь – с утра:
там, где людно, всегда паскудно,
да к тому же духота, жара?
Что бы там ни делали, к чему бы
дело там ни шло, –
кто-то в тесноте облизывает губы
и глотает тяжело
черствую слюну тоски и гнева,
корку ахиллесова пайка,
локоть справа, локоть слева
всё острей, острей, острей пока…
«ветер ветер ветерок…»
ветер ветер ветерок
обчая могилка
ветер в косточке неширок
ледяная жилка
ветер узенький в кости
частная кобылка
у кузнечика в горсти
холодок затылка
«Подошвы шаркают по песку…»
Подошвы шаркают по песку.
Ребенок заводит плач. «Тих-тих», – ему говорят.
Голубок прилег на песке, в строку
укладывается всё подряд.
Муха ударила в руку лицом.
Птичка сказала «фррр»
крыльями. И перед самым концом
света зевнул Фенрир.
«Если бы воздух отчаянья был почище…»
Если бы воздух отчаянья был почище,
а мертвая вода – послаще,
если бы Кухня Духовной Пищи
пищу богов готовила реже,
ты разглядел бы в конце аллейки
двух трясогузок, хвостами друг к другу,
клювы – в стороны, герб шайки-лейки,
что подчиняется чистому звуку.
И никакому слову. И слово
стало бы звуком, полным и чистым,
к чему оно, впрочем, всегда готово,
но попадается нам, речистым.
«душка поблядушка побирушка…»
Animula blandula vagula…
душка поблядушка побирушка
бедного тельца кидалачка
иди ты сама знаешь куда
в черную дыру японскую
там и шути свои шуточки
«Спаси жука, переверни…»
Но не речь а черен он
Хлебников
Спаси жука, переверни
его на шесть его обратно,
и будут перевертни-дни
тебе возвращены стократно.
Он черен, да, но он не речь
в прямоугольном белом свете,
он просто пал с себя и с плеч
земли. Он пал, а ты в ответе.
«Умных лиц я больше в воздухе не вижу…»
Умных лиц я больше в воздухе не вижу,
здесь природа к своему концу
подошла и всё размазывает жижу
дурьих слез по плоскому лицу.
Чем тебя обидели? Что у тебя отня́ли
ангелы, прежде чем сбежать, –
куколку тряпичную в лоскуточке шали,
в дочки заигравшаяся мать?
И куда они ее, где ее приставили
босоногой девкой в барский дом,
чтоб козе небесной ли, чтоб небесной краве ли
натирала вымя птичьим молоком?
Чтоб доила утром козье ли, коровье –
в звуковое чистое ведро,
что промыто дóсветла говорливой кровью,
распирающей ребро.
«Ночь поднимается на задних лапах…»
Ночь поднимается на задних лапах,
чтобы достать луну,
подгнившей луны красноватый запах
гонит у ночи слюну…
Все это было, конечно, было,
все это сделано из
масляного густо-зеленого ила:
живопись, живопи́сь.
Но говори, только чтоб не молчало,
чтоб не смыкалось, мыкалось – ну! –
мыкало это, нет, лучше – мычало,
хоть про луну, про гнилую луну!
Также вставай на артритные лапы,
также слюной исходи,
чтоб не достать эти трупные крапы,
сладостные шелуди…
«И эти липы, и эти тополи…»
И эти липы, и эти тополи
над серой дорожкой, по которой шел
вдоль стадиона, где призраки хлопали,
если призраки забивали гол.
И солнце как-то так бедно рябило,
и в сандалетки набивался песок,
и маленькое синеватое било
большого времени било в висок.
Наверно, набегался и еще не отды
шался, шальному пистону брат,
брат мячей, мечей, ничей, бубнящий оды
Играм, бу-бу, будто читая слова назад.
Гамлет на берегу моря
1.
Не спрашивай у тени «кто идет?»
и не проси ее отдернуть складку
плаща: есть в этом замке идиот,
уже давно привыкший к распорядку
печальных мыслей, умные не в счет,
они лишь удобряют эту грядку,
чтоб там росли, клинически чисты,
печальных мыслей частые цветы.
2.
И входит Тень, всего на пару слов,
написанных себе, как будто в спешке,
как реплики каких-нибудь послов,
какой-нибудь замешкавшейся пешки,
когда монеты брошены с орлов,
а всё решают выпавшие решки,
ведь пары слов довольно дураку,
чтобы закончить – и начать строку.
3.
Но как начать, когда все буквы вдруг
набрякли кровью и створились в мякоть
простого вещества, в комок, на круг
с размаху брошены тянуть хоть так, хоть
так шею узкую, выуживая звук,
и снова возвращаясь в божью слякоть:
что делать буквам в звучной пустоте,
когда нет слов, а если есть, – не те?
4.
Не-те, что быть готовы вместо тех,
что быть готовы, но еще неловки,
в слогах соединяя смех и грех
и ставя на театре мышеловки,
чтоб собирать, как дань, мышиный мех
шуту – на королевские обновки.
чтоб стало пусто в Дании мышам
и чтоб теплее – шутовским ушам.
5.
Уходят буквы, превращаясь в персть,
в пэ, эр, эс, тэ, из горлышка сосуда –
в земную, с кровью свалянную, шерсть,
и воздух полон звукового зуда,
и в нем – шесть солнц, и распевают шесть
о радости несбывшегося чуда.
Офелия жива, она – земля,
и Фортинбрас трубит: ля-ля, ля-ля.
6.
И тополя уходят в даль себя,
и между ними высится дорога,
и ветерок, с той стороны трубя,
из перспективы, два почтовых слога
принес (последний кратко обрубя),
как милость букв, как звуков «ради бога», –
поветрие, смесь молви и молвы, –
что имярек и имярек мертвы.
7.
Есть странные сужения пути,
когда вперед протиснуться лишь буквой
и можно, только звуком – и войти
туда, где каждый звук уже не звук – вой
и лай, где слово больше не в чести,
и где язык тотчас находит крюк свой,
где быть нельзя и где нельзя не быть,
в ушко вдевая кровяную нить.
8.
В ушко иглы, сшивающей слои
явленья – ветра, брошенного с неба,
кладущей, на живую, швы свои
на рану ножевую в горле хлеба
насущного и кожные крои́
флейтиста – сапоги тачать для Феба…
На море ветер. День идет ко дну.
Ага, тростинки! Дайте мне одну.
«Что за деревом стоит…»
Что за деревом стоит?
Дерево? Не дерево.
Это – дерева оксид,
это – к ночи – дверь его.
В эту дверь оно уйдет
ночью, хлопнув воздухом,
забирая кислород,
оставляя звезды нам.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































