Текст книги "Аврам-трава. Стихотворения 2017—2023 годов"
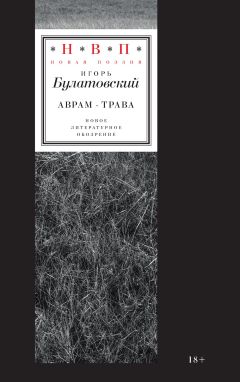
Автор книги: Игорь Булатовский
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Елене Шварц
1
На губах у крови – кровь
или, может, пара слов…
Слов не вытянешь из них,
даже если на двоих,
не возьмешь с них ничего
для себя для самого,
только ветер остуди́т
их последний первый стыд —
взять последнее себе,
что осталось на трубе,
что пока еще тепло,
что с ладоней не сошло,
самый легкий легкий груз.
Эли. Мой. Завет. Союз.
2009
2
Похоже, я недостаточно комбатантен,
нравится мне все это старое говно,
это rhyme porn в отечественном варианте,
влажное гигиеническое кино.
Но как нам еще, того, в уме и таланте
здесь говорить, при соседушке за стеной,
над потолком, под полом, при сем элефанте,
в котором дрожим, как чашечка с трещиной,
по прихоти своей. Скит адский, dear Lena!
You are so mad, so dead, как наша рифма… Ю
и я сидели на трубе и пили чай пустой.
Но вот упали «ю» и «и»… А я какого хрена
тут делаю? За тулью ухватясь, стою
и бубенцы глухо звенят над пустотой.
2018
«Блеф звезды ожесточенной…»
Блеф звезды ожесточенной.
Гаснет ветер. Жизни нет.
Кто-то ходит в небе черном,
топчет крылышки планет…
Звезды́ ожесточенный блеф.
Задуло ветер. Жизнь как жизнь.
Флеб, финикиец, слышишь, Флеб,
нет рифмы гаже, чем на «жизнь»…
Блеф ожесточенной звезды.
Ветру «тсс» скажи, жизни – «ша».
Сядь на стул, умри от воды,
проглоти морского ежа…
Три раза ветер угасал.
Три раза припадал к огню.
Три раза был велик и мал.
Бог любит всякую фигню.
«Заголенье бездн любезных…»
Заголенье бездн любезных,
слов смешных. Братан Паскаль,
парочку зубов железных
ты на память мне оскаль.
Буря мглою нёбо кроет,
даже если не хорей.
Хор катящихся циклоид.
Хари жирных времирей.
Посиди со мной на стуле,
каблуком поговори.
Гул растет, но в этом гуле
что-то хлюпает внутри.
Ясен пень, что твой Янсений:
все просрал еще Адам.
Скупы строки донесений.
Мраз идет по проводам.
Ангел тявкнул, воздух гнется.
Зверь подставил спину – тронь.
Бог с лицом золоторотца
тихо говорит: «Огонь!»
«Шум воды из-под крана перебивает мысль о…»
Шум воды из-под крана перебивает мысль о.
Мысль о перебивает шум воды из-под крана.
Странный язык, непонятно, кто в нем кого
перебивает. В итоге – сплошная рана.
Жизнь всегда будет первой, как фотограф Уиджи на
месте убийства, пока не высохли пятна
крови, спермы. Пока еще смерть красна,
и чего-нибудь сто́ит, и вообще – занятна.
Грустные фотки, как будто колода карт,
на всех языках одинаковые картинки:
бедный, родной, вонючий, невиноватый соц-арт,
дорогие товарищи кретины и кретинки.
По телеку вам пошутит какой-нибудь пионэр
с московской пропиской, а вы и рады: смешно же!
Пора выключить воду, вытереть старый хер
и перестать бормотать «о боже».
«Собери все наши заявы, предъявы…»
Собери все наши заявы, предъявы
в устной и письменной форме,
как мы были правы, неправы,
как шли на подливы, приправы,
сбоку припеки, прикормы, —
никогда не получишь, сука, наш голос,
свой отрасти, тренируйся,
отрастил же как-то свой волос,
и тохес, и нахес, и логос
во всю длину терний русских,
вот и говори давай собственным рылом,
брось наш барачный письмовник,
пробавляйся собственным мылом,
стань малым, стань мелом, стань мылом,
короче, тем, кто в письмо вник
и не выник, стерся – обмылок, огрызок —
вышел в тираж бесконечный,
стал пустому воздуху близок,
стал бла́зок, стал блюзок, стал блузок
читателем, тьмы заречной,
и лишь на себя надейся, детеныш,
или вообще не надейся,
только не плошай, сука, сон наш,
сучонок, сучоныш, найденыш,
а мы будем рядом, здеся.
«ляг на бок сиську обними…»
ляг на бок сиську обними
чуть-чуть о путине подумай
как он без сиськи там один
в обнимку спит с тяжелой думой
считай до путина до ста
считай баранов и овечек
и слушай сообщенья тасс
из сонных маленьких местечек
вот из-под мышки говорят
из ямки из пупка из паха
и тени медленных отар
спускаются к воде без страха
тень галаадская растет
и воздух никому не нужен
и жар уже не жар но пот
речных рассыпчатых жемчужин
«„Я вышел и выдохнул в небо‟…»
«Я вышел и выдохнул в небо», —
так мог бы сказать идиот,
но черного-черного хлеба
был полон черствеющий рот,
сосущего черного хлеба,
запекшей его головы,
и краем надзорного неба
ходили чугунные львы,
ходили они и толкали
чугунного ветра шары
и те становились из стали
и, падая, пели хоры
из Верди, из тверди, Аида
трагически жалась к стене,
и не было больше ни жи́да,
ни эллина, как на Луне,
и фразу полночного хлеба
жевать больше не было сил…
Он вышел и выдохнул в небо,
и молча свой хлеб проглотил.
«Брахмапутра, Брахмапутра…»
Брахмапутра, Брахмапутра,
Индигирка, Колыма.
У тебя на шее пудра,
ну а я – кусок дерьма.
Пахнет женщиной приличной
нафуфоненная смерть.
Пахнет водкою столичной
засупоненная твердь
голубая-голубая.
Нет, не водкой, – чистый спирт!
Ходят голы бабы, бают,
отмывают уайт-спирит.
Баба Лена, баба Яна,
инде горько, инде сласть:
коль сама возьмешь Ивана,
Дон-Ивана – прямо страсть!
В небесах аэростаты,
как набухшие уды
целый день стоят куда-то
против ветра и воды.
Дети Осоавиахима
носят смерть не по годам:
на значке летящих мимо —
ветхий маленький Адам.
Умывальник! Рукомойник!
Полотенце на крючке!
Входит в комнату покойник,
держит воздух в кулачке.
«сухая каряя звезда…»
сухая каряя звезда
лежит в коробочке груди
она влажнеет иногда
увидя ветер впереди
увидя локоть молодой
она слепа на треть
ей надо было молодой
и влажной умереть.
«Избавь меня от пламенных требух…»
Избавь меня от пламенных требух,
от племенных хозяйчиков не в духе,
от мужичков, ломающих треух,
от музыки, засевшей в среднем ухе,
от двух из трех, от одного из двух,
от уважухи и от покатухи,
избавь умом перешибать обух,
и от поноса, и от золотухи,
избавь меня понюхать слово «дух»,
от жития избавь и от житухи,
избавь меня от этих рифм на «ух»,
избавь меня от этих рифм на «ухи»,
и сам иди, пожалуйста, на йух:
слова мои не немы, хоть и глухи.
«С тех пор, как сказано „гляди‟…»
С тех пор, как сказано «гляди»,
она глядит, глядит и
ни звука из ее груди —
не то чтобы «иди ты»…
«Какой медлительный позор —
искать слова живые.
Стоит фланёр, глядит в упор
на порванные выи.
Пейзаж знакомый с малых лет:
крестьянские филеи,
в дожде атласных красных лент
палашки, фалалеи.
Часу в шестом. Как раз обед.
Закрыться в кабинете.
Забыть. Забыться. Взять котлет.
Не думать звуки эти…
Какие звуки под кнутом?!
Не вытянешь из бабы
ни звука. Ну часу в шестом.
Сенная. Кнут. (Вина бы.)
Сенная. Баба. Били. Бьют.
Воровка. Молодая.
Красивая. У Спаса бьют.
И эту бьют, глодая.
И мы – ни звука. И тогда
он скажет мне: „Найди же,
найди, румяная п…зда,
мне рифму в этой жиже“.».
«Тот синий уголок…»
Тот синий уголок,
что нам оставил Блок,
счастливую закладку в черном теле,
не вынуть, но и не
раскрыть на этом дне,
минуте, годе, месяце, неделе.
Подумай ни о чем,
как думают о нем
и забывают, на какой странице
он был тебе зрачком,
и бабочке – сачком,
и сердцу – спиртом, и подвздошьем – птице.
Побудь пустым, простым,
будь высохшим, пустым,
коробочкой в жуке, слегка гремящем
в коробочке пустой,
оставленной на той
странице в предпрошедшем шелестящем,
где на словах ты есть,
но ты всего лишь весть
о вестнике, несущем весть о вести
неведомо какой,
заведомо плохой,
но тянущей пока страниц на двести,
чтоб зачитался ты
и жизнь жрала листы
и где-нибудь на сто восьмидесятом
ты вспомнил про залог,
про синий уголок,
слезящийся на мякише замятом.
«Бога нет, но есть святые…»
Бога нет, но есть святые,
богом полные, пустые,
треугольные круги,
говорящие: «Беги,
убегай от нас, о, мальчик,
мы тебе отрежем пальчик
и приставим к голове,
и отправим жить в Москве».
Нету рая, нету ада,
а душа святых и рада,
ей товарищ – парадокс,
черный вой, тамбовский vox
dei, страх, петля и яма
для того, кто ходит прямо,
ходит криво по степи,
повторяя: «Потерпи!»
Всяка бездна им любезна,
на обед полезна бездна
и на ужин хороша.
Бездна, бездночка, душа.
Бездн на всех они наварят
и в тарелочки навалят:
ешьте с солью свой обед,
вечна смерть, а жизни нет.
Ходят дети холостые,
дети – это не святые,
а не свитые пока,
не одетые в бока.
Ходят дети, сны натуры,
чертят разные фигуры,
страшных, маленьких святых,
бьющих пальчиком под дых.
«Шум и гам, и страх и трепет…»
Шум и гам, и страх и трепет,
и смех и грех по сторонам!
Кто там петрит, кто там терпит,
кто подсказывает нам?
Слушай, Мессиан рассейский,
этот страшный оливье,
слушай в Бийске, слушай в Ейске,
у станка и на жнивье:
чики-чим, и крр, и жжиу,
цы-цы-прр, тце-тек, тр-цов!
«Не до жиру, быть бы живу», —
чуют сиринксы самцов.
«Речные погнали озерных…»
Речные погнали озерных,
остзейское солнце взошло,
и снова – как в трубах подзорных —
зажглось броневое стекло.
И снова, и снова, и снова,
и снова, и снова, и сно…
язык потянули за слово
и стало от слова темно.
Потом просветлело немного
и кто-то присвистнул: «Фьюить!»
Лейкисты вернутся с подмогой —
ривьеру в крови утопить.
«У них там всегда какой-нибудь порт. Если…»
neturtas, lapkritis, gramatika, liepsna
T. V.
У них там всегда какой-нибудь порт. Если
начинать, так прямо с анжамбемана.
Прямо с бетонных свай, утонувших в масле,
ржавого крана, ангара, пирса;
с бывшего, остановленного движенья;
сбывшегося пророчества; обмана
зрения; придаточного предложенья
времени; взмаха лютого тирса.
Они умели быть одни среди этих
развалин и тех; постоять в профиль
к серому ветру, в свете своих поэтик,
слегка прищуренном, мускулистом,
для чтения с выколотыми глазами;
стать продолжением стен и кровель,
грамматикой, зазубренными азами
языка, взятого в плен солистом.
Пирс был длинным. Теченье сносило мусор.
Строка росла, размер выпрямлялся.
Перспектива сужалась. Уже́ и мудрость
не влезала в нее – только правда,
как тогда, в нищих заведеньях Союза.
Чтобы закончить, нужна лишь малость,
всё остальное, муза, теперь обуза.
Спасает лишь тавтология, правда?
«Ни настоящего, ни будущего, ни прошлого…»
Ни настоящего, ни будущего, ни прошлого
здесь, конечно, нет – сплошное томительное «сейчас».
Сейчас в тундре взлетно-посадочную полосу
укладывают из живых зэка, поджидают нас.
Ждут нас, поджидают. Чуть слышно смерзаются зэка.
Лежат, похрустывают. Наш двухмоторный самолет
запаздывает, мы вглядываемся в облака
и при снижении скорости напрягаем живот.
«– Где ваша верность? Где трепетных внуков…»
– Где ваша верность? Где трепетных внуков
строгие, светлые голоса?
Где субпродукты маленьких звуков?
Девичий жир для оси колеса?
Эники? Беники? Сика-лиса?
– Верные эники, верные беники —
мы соберем таинственный хор,
слушайте, слушайте, современники,
серые гуси на линзах озер!
Сика-лиса, посмотри-ка в упор!
– Где ваша смелость? Где чистого тела
точная жертва во времена
общего непочатого дела?
Ждет поколение, ждет страна.
Бросьте кормящие вас вымена!
– Грудь материнская, сладкая, нежная,
душу питающая, прощай!
Кончилась, кончилась безмятежная,
сердцем суди, никого не прощай.
Тело науке борьбы завещай.
– Где ваша гордость? Где новая мера
старым вещам, отмеренным вам
вычурным временем в центре сквера,
где вы гуляли в матках у мам,
где говорили папкам: я сам?
– В серые папки жизнь наша связана,
в серые папки связана смерть,
в белых тесемках – наша прекрасная,
больше ни с чем не сравнимая смерть, —
Сика-лиса, коллективная смерть.
«прекрасным тополям…»
прекрасным тополям
на кончике языка
скажи салам —
алейкум коротка
немая встреча
ледяной июнь
как семку эту речь
подальше сплюнь
о сексе и войне
на русских языках
шепчи шепчи не вой
держи себя в руках
как дерево как то —
поль стыдный голый
спускай в ничто
горючие глаголы
ни populus ни то —
поль не взойдут
онан и тот
не оценил бы труд
«О жизни и смерти – о чем же еще…»
О жизни и смерти – о чем же еще
беседовать нам ввечеру?
Ты будешь расти бробдингнегским прыщом,
а я бесконечно умру.
Нам станут носить государственный чай.
Ты будешь скрипеть сахарком
на желтых зубах: «Выручай, выручай,
будь крепеньким пастернако́м!
О жизни и смерти, давай, говори
(миндальничать будет черед),
да так, чтобы жизнь замирала внутри
и смерти крутило живот!
А то что-то жизнь застоялась во мне
и смерть застоялась во мне,
пора бы и ту разогнать по стране,
и ту разогнать по стране…»
«…Товарищ, вы пейте, остынет совсем.
Баранку возьмите. О чём
теперь говорить? Свет не нужен совсем
летящему вслед за лучом…»
«Я тоже был поэтом-дачником…»
Я тоже был поэтом-дачником,
ходил подглядывать за светом,
огромным шелестя задачником
с одним-единственным ответом.
Как сладко находить решение
в траве, среди словесной кашки,
где ходит аз, ему отмщение,
и всюду ползают букашки!
Такая поутру гармония,
такая алгебра в потемках,
что маленькая антимония
вдруг начинает жить в потомках.
И ходишь целый день как будто бы
в логоцентрической задаче
маршрутом Левашово – Бутово,
от ближней дачи к дальней даче.
Путем всея интеллигенции,
между крушиной и кручиной,
шепчакрича свои каденции
и задыхаясь каватиной
разини, лоха, неудачника,
пославшего себя подале,
к ответам жирного задачника,
на все четыре трали-вали.
«В тишине из каждой будки лает пси…»
В тишине из каждой будки лает пси,
хоть святых обратно в комнату вноси.
Ничего не скажешь, мимо проходя:
это дело сердца, ветра и дождя.
И от альфы до омеги алфавит
весь по улице размазанный лежит.
Проходи себе проворно, а… кхи-кхи…
брось обратно под забор, где лопухи.
Ничего не скажешь равного тому,
что запуталось в кудрявеньком дыму,
что корячится и корчится в дому,
что крути́тся ржавой мысью по уму,
что взвивается шизой под облакы,
рассовав по всем карманам кулакы.
«Всё легче воздуху летать куда попало…»
Всё легче воздуху летать куда попало
и птицам легоньким всё легче умирать.
Что с возу душного упало, то пропало
и возвратится к звездочкам опять.
И скоро эта пестренькая пленка
совсем отклеется от бледного стекла
бутылки письменной, где трубочкой незвонкой,
глухой вся наша потогония плыла.
«По набережной, где чайки кричат…»
Д.
По набережной, где чайки кричат,
где волны похожи на серых волчат,
бегущих на Заячий остров,
поедем, красотка, к тебе и ко мне
пока мы на этой живем стороне,
а в той лишь нуждаемся остро.
На летней дуге Кресты – Ниеншанц
ты дашь мне, старушка, еще один шанс
тебя обогнать, предпоследний…
Смотри, как сирени стреляют во тьму —
по жизни, по нам, по душе, по уму,
по музыке велосипедной!
«В парке начинается ренуар…»
В парке начинается ренуар
(и сёра, сёра),
в теле поднимается реомюр;
«Тело!» – комару говорит комар,
«Телос! – комару говорит комар. —
Умирать пора».
Мелос набирает подкожный жир,
говорит «хрю-хрю»,
в голубых охапках приносят жар,
в голубиных лапках приносят жар
и зарю, зарю!
На траве качаются тени будд
(мн. ч., ж. р.),
справа из-под лямки свисает пуд
слева из-под лямки свисает пуд
на манер портьер.
Пробегают дети, крича, везде,
дети пробега —
ют, крича, крича, пробегают де —
ти, крича, крича, пробегают де —
ти. А нафига?
Видит робинзон: жарят шашлыки
из филей врагов,
весело дымят в пятницу дымки,
весело коптят пятницу дымки,
балуют богов.
Боги восседают на облаках,
свесив ноги вниз,
и вдыхают дым, и вздыхают: «Ах!» —
и вдыхают дым, выдыхая: «Вах!
Просто заебись!»
«Помнишь, Гёте с другом в июньских сумерках…»
Помнишь, Гёте с другом в июньских сумерках
девяносто девятого гуляют по саду
вперед-назад, вперед-назад, а там, где яркие
восточные маки еще видны, вместе, как на параде,
чуть поворачивают головы, скашивают
глаза и так проходят мимо них плечом к плечу.
Под определенным углом большие
красные пятна, выпившие вечернюю леечку,
загораются по краям зеленовато-синим. Перед сном
Гёте делает запись. 19 июня заканчивается. С блеском.
Суворов побеждает Макдональда. Сонм
ангелов окружает люльку новокрещенного Александра.
«В мозгу такая тишина…»
В мозгу такая тишина,
как будто в нем «Вставай, страна!»
еще не заиграль,
и флаги бешено висят,
и в горло, как в бетонный сад,
вступает нахтигаль.
Еще в углу стоит король,
он шут, и дрянь, и голь, и шмоль,
но дрын его голей;
и королева спит в углу,
подставив лунному теплу
таинственный филей.
Еще идет совет в филях,
но генералы Пух и Прах
решили отступать.
По черным плитам, без огней,
уходит армия теней,
пора, пропело пять.
Король отходит от стены,
теперь на свете все равны
и всё вокруг равно —
орел и решка, шах и мат.
Он смотрит на супружий зад
и тычет дрын в окно.
«Жизнь моя – пустое место…»
Жизнь моя – пустое место,
взятый с тумбочки стакан.
Ты поставь его на место,
попади в кружок, пам-пам.
Что в нем было, мне не жалко,
всё – как божие π-π.
Таракан отвесит жвалко,
муха скажет: не п. зди.
См
1
и жизнь молодая
и старая жизнь
на рифму елда и
на рифму на жизнь
наткнется бодая
тоски муляжи
глодая бадаев —
ских складов коржи
и вздрогнет мокрота
под горлом у ней
и станет светло
от бледного пота
коротких огней
летящих в ебло
2
и день идиота
и день подлеца
большая забота
допеть до конца
большая работа
хребта и крестца
и серого пота
на дне холодца
и вместе под вечер
такого-то дня
поют и поют
по сто и по двести
пустого огня
последних минут
3
где песни и пляски
твои сатана
когда для утряски
танцует страна
и белой замазки
глазница полна
и строятся глазки
войти в имена
во имя святого
всего ничего
во имя тоски
и дома пустого
отца своего
и матери-зги
4
мы ехали ночью
в тоске мировой
нам звезды воочью
горели травой
и к серому клочью
земли рядовой
все кротче и кротче
неслись головой
нам не было страшно
нам было темно
и нечего петь
и душное брашно
и злое вино
и жизни на треть
5
забудьте о песнях
что пели вчера
на солнечных преснях
где зрела икра
и каждый ровесник
был вестник с утра
последних известий
о силе добра
о силе бобра пой —
те песни теперь
точите копье
из кости горбатой
за волчую щерь
и тело свое
6
привяжут к ногам и
рукам по коню
и скажет нагайка
коням догоню
и станут шагами
тянуть простыню
и выйдет имаго
из нимфы к огню
и скажет огонь по —
смотри на меня
я твой горячо
и конь оторвет по
траве семеня
от сердца плечо
[памяти О. Ю.]
7
как будет нам это
за это и то
как девочка света
несет решето
последнего света
чудес ни за что
за бит алефбейта
за голос в пальто
а будет нам этак
с разбегу в упор
под воздух и дых
покурвится светка
войдет командир
и скажет на вых
8
для крупного неба
не надо очков
ни света не треба
шуршащих пучков
для чтения слева —
направо значков
и справа-налево
вокчанз еж хикат
не надо по-ново —
му выгнутых линз
словесного сткла
не надо панове
отчаянных лиц
не надо тепла
9
о чем ни скажи
как сейчас говорил
полезут ежи
из примятых могил
примчатся ужи
на рифмоидах крыл
и скажут скажи
кем служил гавриил
захочешь сказать
о смертельной стране
и мертвых углах
а выйдет опять
о смертельной стране
и мертвых узлах
10
все едешь как в песне
на тощих гробах
и яблочко песней
скрипит на зубах
и свет всё тесне́й
и мал как рубаха
и снимется с ней
пропахший от страха
ни аха ни оха
ни сердца ни тла
ни духа ни сна
от вздоха до вздоха
под гро́бы легла
большая страна
11
грамматика воя
язык батарей
центрального о. и
скрипичных дверей
и жирного слоя
стальных времирей
лежащих по двое
где сныть и пырей
о как же о как же
здесь хочется жить
и как умереть
в малиновой кашке
успевшей остыть
засохшей на треть
12
тиха над хвостами
советская ночь
осталось из ста «мы»
одно изнемочь
младенца устами
кириллица прочь
уходит листая
последний источ
никто не поверит
что было легко
и сладко когда
безбуквенной эры
лилось молоко
и пела беда
13
о свете бэушный
о бывший огонь
я черный наушник
я грею ладонь
я черная чушка
но тронь меня тронь
я тщетная душка
не душка а вонь
вонми мне о свете
тщедушнейший всех
тебе я скажу
о новеньком свете
летящем наверх
поющем жужжу
14
здесь смерть пролегла
сразу после 6-ти
такие дела
как словарь ни шерсти
и сажа бела
на востоке пути
ни сердца ни тла
не сгореть не дойти
ни взрыва ни всхлипа
ни выстрела в спи
ни семок ни сем
горячая липа
напомнила спи
и выше см.
Бабка в Венеции
2017–2020
Бабка в Венеции
I
Вот тебе, бабка, мои глаза.
Видишь – туман и чего-то за
ним? Так рифмует Бродский И. А.,
так рифмую теперь и я —
ослик Иа, вернее, и. о.,
здесь исполняя обряд того,
кто здесь был счастлив. А кто бы не?
Даже последняя тварь на дне.
II
В общем, туман, да не тот пока.
В том, говорят, не видна рука,
если держать ее при ходьбе
вытянутой вперед (к тебе?)
или протянутой… Но кому?
Немо, Ему, Немому, Му-му —
чтоб их вытащить из воды
цве́та зеленой, слепой слюды?
III
Да, согласен, смешной вопрос.
Я только сунул свой длинный нос
в эту дверь, за которой вода
стоит и мнется; туда-сюда
бегают лодки (но с них никто
рыбу не ловит, даже – Никто);
и туман покрывает зрачок,
как пух – младенческий «родничок».
IV
Непонимание, пелена,
грация плена, ловушка сна;
яблочко жаркое там внутри,
чуть прикоснешься, скажет: гори —
не говори, подержи ладонь,
словом только меня не тронь…
Так в палаццо Чини, смотри,
перед Парисом стоят все три.
V
Если не хочешь туман смотреть
(хватит, смотрела считай что треть
жизни – хрусталиками в воде),
пусть будет солнце (всегда, везде).
Пусть вот сейчас в этот узкий лаз
между домами ударит – раз! —
и пойдем с золотым синяком
за самими собой гуськом.
VI
Кто идет, кто кого ведет?
Мостик мостику пялится в рот,
а во рту шевелятся дома,
плавают окна, светится тьма.
Все представляю, ка́к бы мы шли,
будь ты жива (ходунки? костыли?),
как по Дза́ттере (100 лет в обед!)
я тащу на себе твой скелет…
VII
Ясно – куда. Ведь зима вокруг.
Трупы носить не хватает рук.
Воду носить не хватает ног.
Берег высок, на нем – голубок.
Жирный. Откуда ты взялся тут?
Тут тебе ничего не дадут.
Ты перепутал буквы: тут – Мрак,
там, откуда ты взялся, – Марк.
VIII
Если бы Петр святой так берёг
бе́рег свой, если б вдруг напёк
и разбросал везде калачи,
а не свистел бы в свои ключи,
мы бы не ели наших детей,
мы бы не видели их костей,
но каждый пальчик (хранить в тепле)
мы б заключили тогда в стекле!
IX
Так заключают в живой сосуд
часть святого – и вздох и уд.
Был святым, стал как кур во щах.
Тут вся мощь стоит на мощах.
В тонких колбочках, в серебре
чахнет власть, что цвела в ребре, —
исцелять, изводить врагов,
обнадеживать дураков.
X
Но цветут пустые, как свет,
полные светом – и есть и нет —
разноцветные пузыри
(не говори, не дыши – смотри),
вздохи Дзекки́на, живой стеной
стоящие на тени цветной.
И солнце, уже готовое сбечь,
похоже на стеклодувную печь.
XI
В ней обжигается тишина
и остывает. И смерть слышна.
Здесь ее много, хватит на всех,
как стекла́. Как широкий мех,
дышит она прямо в уши днем,
и головёшка горит огнем,
и пахнет жареным… А с утра
пахнет чистым бельем. Пора!
XII
Умирать пора, говорю.
Словарю, не календарю
верь. А словарь говорит «абак»,
чуть откроешь. И ни табак,
ни кабак не в счет. Сыт и пьян,
а ползи, как полз Тициан,
и ладонями краску втирай
в серый, уже посиневший, рай.
XIII
Чайка кричит или колокол там?
Да хоть колокол, хоть тамтам!
Ветер лает, собака во рту
носит ла́вровую пустоту.
Горлицы жирно поют «любов»
меж кипарисных грибов и гробов.
И обнимаясь, чтоб не упасть,
сваи стоят, налакавшись всласть.
XIV
Грех метафоры, после «семи», —
самый смертный. Пойди пойми,
как бы все было, если бы мы
видели свет без помощи тьмы.
Скучно, – как говорила ты,
не видя света… Слишком чисты
эти сны, холодны и сухи́ —
над лагуной цве́та ухи.
XV
Кто посещает их? Да никто.
Это как в доме sor’a Никто
быть одному, тем более в
том, что строил Палладио. Вы
ходите в нем, каблуком стуча,
ищете грудь, что всегда горяча,
и вот находите, но она
уже ему, Никому, дана.
XVI
Лучшая форма церкви – куб,
только пустой: Кааба, сруб…
В Маше Мираколи потолок —
старый рай мастеров, лубок,
а по стенам коро́бки, внизу,
квантовый рай заводит в глазу
каких-то ядерных мотылей
на стыках мрамора. Так милей.
XVII
Ни тебе лиц, ни тебе сосца,
ни тебе матери, ни отца,
ни тебе крючьев, ни стрел, ни пил,
ни висящих кишок, ни жил.
Как не жил, не пил и не ел,
не крошил у доски мелкий мел,
целый день из тоски выводя
золотое сеченье дождя.
XVIII
Вот и дождь. А за ним и туман.
А за ним – шире держи карман —
ходит голый до жил Брагадин,
за базар отвечая один,
за всемирный базар поутру.
Говорят, смерть красна на миру?
Кожа тех, кто воистину наг, —
чем вам не государственный флаг!..
XIX
Вот тебе, бабка, мои глаза
(и святая Лючия – «за»),
вот на блюдечке голубом
с золотой каемочкой – дом.
Я в нем жил, как Иона в ките,
прямо в са́мом его животе,
но – просроченный, видно, товар —
он на берег меня изблевал.
XX
Вот сижу и думаю, кто
там ходил, будто конь в пальто
(ну, не конь, а ослик Иа)?
Я это был или не я?..
Бродят цапли, шумит камыш,
роет нору водяная мышь,
быстро ползет на берег прилив,
надо отваливать, отвалив…
«Слева – церковь, справа – колодец…»
Слева – церковь, справа – колодец,
сзади мост, под ним набухла вода.
Вместе с рифмой город-уродец
должен исчезнуть в ней навсегда.
Сколько благоглупостей, чуши,
всего, что способен спустить идиот,
зачато этим пупочком суши,
где все время кто-то идет
за тобой! В любой закоулок
речь заходит, как местный огуречный рассол.
Съешь же еще этих мягких французских булок
да выпей чаю. Попридержи глагол.
Слева – сердце, справа – печенка,
сзади замерзший от истрийского камня зад.
Хуже всего в этих дебрях растить ребенка,
даже если он здесь зачат.
Вариация
Marcel, au lit!!!
George Perec, Variations sur un thème de Marcel Proust
Мы сюда, наверное, не поедем,
потому что мы и так уже здесь,
потому что мы лежим и читаем
книгу о том, как мы сюда поедем
и о том, что́ мы будем делать здесь,
когда мы эту книгу прочитаем.
В этой книге есть обо всем. О черных
угрях на камне, который похож
на мрамор. О градиенте ступенек,
заросших свежим полем-веронезом.
О гигантских потемневших стручках
глечидии. О бакланах, плывущих
по свежей палитре, не перепачкав
перышек. О красных морских ершах
во льду. О золотых кулёчках мумий
за стеклами вычурных домовин. О
торчащих клобуках каминных труб.
О каменных пупах на пустых кампо.
И вот мы лежим и читаем эту
книгу. Потому что врач запретил
нам вставать. И потому, что сто́ит
нам встать, как мы чувствуем головокру —
жение, и тошноту, и позыв
к рвоте. Это всё оттого, что в наших
легких больше нету воздуха комнат,
а есть ветер, встормошивший эгрет
белой цапли на крыше остановки
маршрута номер один. И пол ходит
ходуном. И по бульвару Османн
идет зеленая зимняя вода.
«Видавшему виды – тоска по зубцам…»
Видавшему виды – тоска по зубцам.
Летят гибеллинские ласточки к югу,
бомбить Колизей, и, похоже, отцам
пора подтянуть боевую подпругу.
Хожденье по мукам дается легко,
когда холодает, и воздух осенний
бежит впереди, отзываясь легко
на всякое имя из доблестных брений.
На бреющем чайка на землю кладет
и с лаем уносится в море. Равенна
нас всех зарифмует у местных болот:
Равенна мгновенна и осень мгновена.
«колокола или чайки или собаки…»
колокола или чайки или собаки
так и не понял кто там чего сказал
кто там лаял во марке во мраке
на весь морской лазарет-вокзал
морю/у черному по колено
эти хижины и дворцы
вышел из дому по колено
и пошел за фунтом мышцы́
белым по черному на фронтоне
коконы пасмурных мотыльков
смерть окукливается говно не тонет
и сусанна подзывает стариков
сделай что ли лицо построже
рыбный рынок счастьем пропах
ходит жирный в черных язвах сережа
держит игоря на руках
«Жук на прямых светлых лапках проходит мимо…»
Валерию Дымшицу
Жук на прямых светлых лапках проходит мимо
фонаря на кривом столбе.
Водомерка не меркнет,
отражаясь от берега к берегу.
Рыбный рынок
останавливается у второго маршрута.
«М» и «р» тут
ходят парой, меандрами, как вапоретто.
Стой, не садись, тренируй морскую походку.
Можно свистнуть песенку, которая спета,
и запустить немного тумана в глотку.
«смерть в венеции смерть в тегеране…»
смерть в венеции смерть в тегеране
наступает на пятки душа
человек выдвигает кадык на экране
сигарету о мрамор туша
на санмарковне после обеда
цапля сохлым трещит баском
грибоеда везут везут грибоеда
и на шип встает босиком
«пойду я в далматскую скуолу…»
пойду я в далматскую скуолу
прочитать на молитвенных скамейках
фамилии на – ич и на – ович
когда глаза к полутьме привыкнут
увижу двух ящерок иззелено-черных
бегающих вокруг разорванного тела
древнеримской красавицы увижу
белую кудрявую собачку
которая хочет писать и какать
а хозяин ее всё что-то пишет
и в окно посматривает на небо
увижу льва толстолапого хромого
которого старик полоумный
привел домой на страх соседям
увижу красного попугая
и левретку на красной нитке
рядом с тюрбаном брошенным на ступени
ослика с крыльями ласточки
телом льва и лапами собаки
что кричит высунув язык змеиный
а мальчик в белых чулочках
читает над ним ужасную молитву
увижу все это и вспомню Зару
есть за морем городок такой Зара
крепкий городок в огне закаленный
все приходят в далматскую скуолу
вспомнить заморскую родную Зару
а никто в ней никогда и не был
приходят посидеть за скамейкой
где молился Николло Иваносич
а кто такой Николло Иваносич
давно уже никто не помнит
но приходят посидят поскучают
дракона ползучего пожалеют
поднимутся наверх где на досках
всё усы да бородки по моде
а вокруг мадонны да святые
спустятся вниз, откинут штору
выйдут на набережную косую
и как будто близорукую немного
вдохнут иллирийский чистый ветер
и качнется мраморная лодка
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































