Читать книгу "Аврам-трава. Стихотворения 2017—2023 годов"
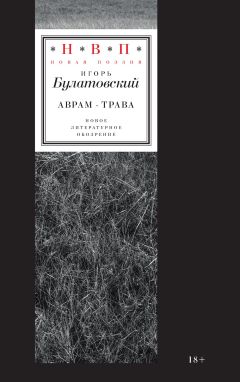
Автор книги: Игорь Булатовский
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Игорь Булатовский
Аврам-трава. Стихотворения 2017–2023 годов
© И. Булатовский, 2023
© П. Барскова, предисловие, 2023
© Ф. Булатовский, фото, 2023
© К. Киселевич, фото на обложке, 2023
© И. Дик, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
* * *

Слова вразлом
Для некоторого занятного начинания мне пришлось на прошлой неделе записать на листке бумаги имена занимающих меня поэтов, пишущих по-русски.
С изумлением я поняла, что вот уже их тридцать, уже сорок, а я все вспоминаю важные способы письма.
Русскоязычная поэзия сегодня, на мой взгляд, находится в отменной спортивной форме, вполне адекватной выпавшей ей, в принципе невозможной, трагической задаче.
Есть ли у этой поэзии лидеры, короли, вожатые – это вопрос вкуса и идеологии. Вообще для меня вопрос лидерства, позиции начальника поэтов является болезненным, как сыпь, проступающая на руке, как экзема: скажем, хищный опыт карьеростроения Ахматовой, переданный ей Бродскому, представляется крайне вредоносным для осознания поэтического ландшафта, особенно синхронного: в то время, как оптика «победителя» устроена с целью стирания, подавления множественности, именно наслаждение полифонией кажется мне тем, ради чего мы входим в поэзию нашей современности.
И при этом ощущении сложного многоголосия Игорь Булатовский, я вполне в этом убеждена, является сегодня одним из самых мощных, странных, безжалостных и человечных голосов нашей/моей русской поэзии.
Как устроено стихотворение Булатовского? Перед нами сочетание двух данных, двух задач; формальное мастерство его сегодня несравненно, ну или сравнимо с сильнейшими из мастеров: он может построить из слов и звуков все, что угодно, но его задача, построив – разрушить, создать руину, напоминающую нам случай Вагинова, как его описал Бухштаб: «В Вагинове разложение акмеистической системы достигло предела. Не строфы, не двустрочия, но каждое слово отталкивается здесь от соседнего… <…> Чужие слова, чужие образы, чужие фразы, но все вразлом, но во всем мертвящая своим прикосновением жуткая в своем косноязычии ирония…»[1]1
Бухштаб Б. Вагинов // Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 271–277 (https://rvb.ru/20vek/vaginov/ps/addenda/02/027.html).
[Закрыть]
Это воссоздание, поддержание руины имеет традицию: пришедшие после Блока и Мандельштама – Вагинов, Ривин, Гор, Рудаков, Елена Шварц, Юрьев, Стратановский, Зельченко – авторы «ленинградской антологии», описывающие свою цивилизацию на грани или в процессе исчезновения. Настоящая книга Игоря Булатовского – вся о моменте и об осознании конца, который (увы и ах) не есть биологическая смерть пишущего (так как я сейчас занимаюсь исследованием о Варламе Шаламове, Николае Никулине и проблеме «письма с точки зрения доходяги», такая субъективность, оказывается, тоже возможна: можно писать и о своей смерти в момент смерти…), но, для Булатовского, принципиальнее момент, когда поэт, поэтическая машина понимает/осознает свою бессмысленность… и все же продолжает работать. Перед нами книга о перерождении в существо виновное, в abject языка, перед нами книга поэта, принимающего на себя позор своего языка – то есть в высшей степени о нашем состоянии сегодня.
Если бы меня спросили, каково самое важное для меня стихотворение последнего времени об отношении пишущего со своим временем, я бы выбрала это:
…можно костьми в эту музычку лечь
рядом с огромной мужичкой
и по одной в ее жаркую печь
и по одной в ее жадную печь
косточки спичку за спичкой
будет и охать она и стонать
брюхом тебя прижимая
родина-баба етить твою мать
родина-баба эдипова мать
к травке червивого рая
на спину ей будет капать слюной
полной разумного яда
желтый ублюдок родимый родной
желтый ублюдок ваш общий родной
с облачка доброго ада
ну а когда до последней дойдет
косточки точки бороздки
вытрет пьеро окровавленный рот
вытрет пьеро намалеванный рот
юшку сморкнет на подмостки
Текст о песенках Пьеро/Вертинского, бежавшего из объятий Дитрих в объятья Сталина, чтобы песенки эти оглашали, утешали чудовищную Родину. Текст о том, что остается от певца, от сказки потом, после того, как ее рассказали. У голоса, который воссоздает Булатовский, есть безошибочно опознаваемый аффективный силуэт – это голос, внутренний мир человека в отвращении: от своей истории и от своего места в ней.
Послушай же холод под сводом ребра:
там вертится черный бесенок оф-бита.
И сделай лицо, будто это игра
и – что там?.. – ну, будто бы почка отбита…
И песня все та же, а в ней сатана
дрочит на холеные целые ноты;
и тихо ее напевает страна,
несущая бремя любви и заботы.
Красота и отвращение постоянно соединены в этих текстах, что опять же приводит на ум руину.
В некоторых теоретических построениях это и есть Sublime, Возвышенное, но особого рода – описанное Хэрриет Мурав, Леоной Токер и ВПС: это возвышенное Советского века, но можно сказать, что Булатовский описывает состояние человека, обнаружившего, что Советский век-зомби звонит в дверь дважды.
Все, что мы (о сколь наивно!) полагали отчужденным, отдаленным, заключенным в саркофаг, ожило гниющее/недогнившее, полное страсти: запятнать сожрать все живое своим страшным «можем повторить». Это стихи об осознании лишения агентности, о бессилии, о поражении:
Скорей, родная, пока не закончилось,
иди сюда, посмотри,
что они делают с нами!
Теребят, вертят, как брелочки,
перебирают, накручивают, как це́почки,
слегонца подбрасывают, как монетки,
взяв между большим и указательным,
подносят к носу, поцарапывают ногтем,
взвешивают, как свою мошонку;
вставив между указательным и средним,
трясут, как дешевой авторучкой,
сворачивают, как проездной билетик,
в острую трубочку и ковыряют в зубах,
мусолят, мусолят, не знают, выбросить
или оставить: мы надоели, но, в общем,
снимаем нервное напряжение.
Ну вот, родная, ты всё пропустила!
А было так забавно!
И видно было как на ладони!
Мы корчились, крутились, вертелись,
растягивались и сжимались,
подергивались, тряслись, дрожали,
сморщивались и разглаживались,
раздувались, подпрыгивали, плясали,
перепутывались и комкались,
продевались друг в друга, вились,
расхлопывались и схлопывались,
трещали, хрустели, дребезжали,
клацали, скрипели, повизгивали,
скулили, воняли, истекали, сочились,
терпели, терпели, не знали, умереть
или жить: все надоело, но, в общем,
оставляло некоторую надежду…
Именно вопрос залога: можем ли мы позволить себе сегодня хоть что-то, кроме пассивности (в английской грамматике есть разительный термин: Passive voice, пассивный голос). И есть ли у пассивности, исторической, политической, социальной – свой голос? Или голос, производимый сейчас стихами Булатовского, это голос отвращения при осознании собственной пассивности, голос в поисках выхода из, ухода от нее?
Стоит ли говорить, что Булатовский – поэт ученый (как М. Г. Гаспаров описывал, например, Катулла), и перед нами стихи разочарования в знании, поражения знания в правах, но все же, если что-то поэту-знайке и оставляет «некоторую надежду», то это именно способность служить другим, чужим текстам. Если уж речь идет, в частности, о мастерстве, мне кажется, что одной из составляющих мастерства, то есть яростного служения некоторому ремеслу при наличии физиологических данных, является момент, когда мастер выходит из себя, начинает множить грани умения: Булатовский делает это как издатель и переводчик.
Переводчик, в частности, Шарля Бодлера, то есть интенции писать свое «сегодня», смотреть прямо, не отворачиваясь. Программным здесь является текст Бодлера «Падаль», описывающий прогулку с возлюбленной, во время которой взгляд поэта/гуляки падает на разлагающийся труп. И этот труп, вернее процесс разложения, вернее задача описания разложения, возбуждает гуляку и вызывает в нем шедевр мировой лирики.
Наверное, самое важное для меня в этой книге – интенция не отворачиваться от отвратительно, писать именно его.
Прекрасны и невыносимы, безобразны, почти тошнотворны эти слова:
реки меня сестра
сестра моя река
река моя сестра
что надо знать когда
речешь меня черна
смородиновая
на родине огня
всё меньше нет огня
на родине огня
сестра моя рембо
нам сделали бобо
подуем ничего
сестра моя ребро
нам не было темно
не будет и светло
на смо́роде-реке
мы смолоду хехе
сидели как в яйце
а рядом во дворце
сидела смерть в парче
держала мух в руке
Здесь можно услышать скороговорку Гора:
Ручей уставши от речей
Сказал воде что он ничей.
Вода уставшая молчать
Вдруг снова начала кричать.
(1942)
И можно, вслед тому же Гору, различить здесь особый Эрос – притяжения и отталкивания к своему, которое причиняет столько боли и стыда, но уйти от которого все равно нельзя.
Если уж говорить о риторических категориях, помимо особой Возвышенности исторического безобразия, эти стихи полны гротеска. В самых волнительных местах, как гной, на тебя проливается матерок, слово изменяет себе с собой же: все здесь воспалено, вывернуто, искажено.
И да, в завершение нашей вводной экскурсии, отметим: в этих стихах есть место городу:
По набережной, где чайки кричат,
где волны похожи на серых волчат,
бегущих на Заячий остров,
поедем, красотка, к тебе и ко мне
пока мы на этой живем стороне,
а в той лишь нуждаемся остро.
На летней дуге Кресты – Ниеншанц
ты дашь мне, старушка, еще один шанс
тебя обогнать, предпоследний…
Смотри, как сирени стреляют во тьму —
по жизни, по нам, по душе, по уму,
по музыке велосипедной!
Это тот самый город, породивший и в Советском веке свою особую поэзию, поэзию игры в прятки, в жмурки, в поддавки с историей. Ни у кого из тех горожан не получилось толком спрятаться от своего Города, не получилось уйти от него. Мне кажется, человеку вообще не так далеко удается уйти от своей любви, хотя можно попытаться найти ее предел, край, конец и начало: город ПБ (как называл его царь Петр) до 1703 года, или после 2022-го.
Я бы хотела закончить свои заметки об этой книжке своей любимой фразой о людях, дорогих и мне и поэту, о котором я имею честь говорить: уже после всего, после отползания из блокадного города, Павел Зальцман приходит в гости к Татьяне Глебовой, он рассматривает ее работы и записывает в дневнике: «Вещи Татьяны Николаевны, на этот раз ее знакомые сочетания, внешне злые и очень недурные, особенно по цвету, с обычной гадливостью, но и отсутствием брезгливости».
Вещи Игоря можно было бы описать ровно в тех же словах: и еще – обладающие властью, несущие горькую, жалкую, необходимую мне сегодня радость.
Полина Барскова
Совсем не так
2017–2018
«стоят на горке две доски…»
посвящается Хню
стоят на горке две доски
а третья поперек
ворота слов не широки
зато проем высок
заходишь в них и видишь всё
как будто в первый раз
глядишь себе на то на сё
и не отводишь глаз
ты был дурак а стал дурак
но это не беда
зато теперь вкусней табак
теперь мокрей вода
садился раньше на горе
ошорохорошо
теперь сидишь как бы горе́
ошорохорошо
кругом тебя трава звучит
как поцелуй крепка
и хер-поймешь многоочит
бодает облака
растут воздушные столбы
до темени небес
и мальвы подставляют лбы
идущему сквозь лес
и как ты что ни назовешь
оно теперь твое
и ты ничто как назовешь
на вдохе ё-моё
и вот бежит оно к тебе
как ты бежишь к коню
а на коне сидит себе
и лапкой машет хню
и ты выходит из ворот
бежит к ее ногам
с коня снимает и ведет
в пустой и дикий храм[2]2
а построил этот храм-с
даниил иваныч хармс
(александр иван’ч введенский
монастырь построил женский)
[Закрыть]
«– Мужик, те чо?..»
– Мужик, те чо?
– Силы и славы.
– Это те чо?
Это те сельпо.
Водка во вторник.
– Баба, те чо?
– Радости, жизни.
– Ты чо, село!
Здесь те не того.
Хлеб в понедельник.
– Пацан, те чо?
– Праведной смерти.
– Те чо, говно,
жить не все равно?
Кино в субботу.
– Дедка, те чо?
– Божьего гнева.
– Спятил с ума?
Бога же нема.
Махорка в среду.
– Бабка, те чо?
– Тебя, сыночек.
– Меня здесь нет.
Приходи в обед —
отруби будут.
«Прекрасные ветки и медленный снег…»
Прекрасные ветки и медленный снег.
Попробуй сдержать это слово. В начале
все будет легко, но потом человек
уже состоит из говна и печали.
Послушай же холод под сводом ребра:
там вертится черный бесенок оф-бита.
И сделай лицо, будто это игра
и – что там?.. – ну, будто бы почка отбита…
И песня все та же, а в ней сатана
дрочит на холеные целые ноты;
и тихо ее напевает страна,
несущая бремя любви и заботы.
Несущая время и вымя – тебе;
бери, не смущайся, выпячивай губы…
Искусство играть на слюнявой губе
важней, чем наука выплевывать зубы.
А как же серчающий, искренний шаг
и светлая девочка рядом – свобода?
Достаточно мыслить, как ветка, как знак
последнего, голого, времени года.
Ходи как дурак, называй на ходу —
ничто не избито – зазнобу, занозу,
награду за смех – голубую звезду
и зимнего ветра ванильную розу.
Хорош амфибрахий для длинных ножей
и прочих этических «параферналий»,
для срущих за домом прекрасных бомжей,
для слов из говна и печали.
«Как научился рифмовать…»
Как научился рифмовать
квадратиком на три копейки
в бледно-зеленую тетрадь
(12 л., за две копейки),
так и рифмуешь. На бегу
тьма набивается в ботинки
(а полутьма – в полуботинки),
и ночь подобна сапогу
великой статуи Зимы,
стоящему, как Озимандий,
на перекрестке в Сумерканде,
где мы, озимые, стоим
и держим судрожно в руках
бледно-зеленые тетради,
и скучный гимн, как «бога ради»,
дрожит на рваных языках.
«Черной школьной зимой…»
Черной школьной зимой
в середине третьей
выйдешь, маленький мой,
на поля тетради
и почувствуешь, как
чернеют скулы,
и услышишь звяк
кайла на сколах.
Это серый камень
куют троцкисты,
это в коми-кеми
играют в кости,
ничего об этом
ты не узнаешь,
пахнет мерзлым потом
за гаражами.
Проходи быстрей,
проходи острожней,
хоть лежащий строй
под ногой все тверже
и ведет туда,
где горят на черном
в четыре ряда
школьные окна.
Песни о простых людях
Good man has no shape.
W. S.
Мил-человек, твоя бесформенность
всегда была твоим убежищем,
где ты мог быть любым уебищем
и быть, как быть, и как-нибудь;
и, как ни будь, по вечной присказке
твоей, все было хорошо, милок,
все было плохо, ниже среднего,
и бог горчил, и падал снег
и становился грязью, ветошью,
и вечностью, и грузом очности;
и выходя курить на лестницу,
ты спотыкался: там лежал
соседа труп, с утра не убранный,
и в белый потолок подглядывал;
и было тошно, было радостно,
и, было, лыбилось ебло;
и свет-дружок, почти сокамерник,
старался быть вечерним, искренним,
старался разглядеть лицо твое;
и белолобик шел на взлет…
* * *
Что с неба сеется, что сыплется?
Не снег, не дождь, не пламя серное —
бог крупной солью солит мясонько,
чтоб стало солоно земле,
чтоб из нее росло соленое,
тяжелое, большое мясонько,
чтоб шло, толкаясь, локти липкие
втыкая в скользкие бока, —
под свет неважный, послепраздничный,
подставить голову широкую
и чувствовать смыканье родины
над ней, садовой и седой,
и гордой, гордой, и не то чтобы
повинной, а – чего не сделаешь
для этих сисек медных, медленных,
матерых, материнских, бля:
пойдешь уродовать юродивых,
мудохать мудрых, править праведных;
так пустота сыновней нежности
родна утробной пустоте…
* * *
В начале жизни – парта липкая,
тьма, пахнущая мокрой ветошью,
доска коричневая, скользкая,
немилый пот, невнятный мел,
тычки, пинки, вонь туалетная,
грязь подноготная, изустная,
грязь языка, с плевочком беленьким,
и матерок – на ветерок,
и зависть, зависть до бесчувствия —
как онанизм, и слабость отчая,
и материнское бессчастье, и
тоска, и скука, и тиски,
и брусья, и большая родина,
и малая дыра родимая,
и в тесной кофте дура женская,
и в пиджаке дурак мужской,
и смерть какая-то – как вредная
привычка, два по поведению,
замена разом всех училок на
таинственных учителей…
* * *
Никто не знает, мы ли умерли,
а только знает: кто-то умерли, —
смотря в окно на «Специальную»…
А что смотреть? А что смотреть?
Кого-то в простыне, на про́стыне
обоссанного и обосранного
выносят просто, даже запросто,
как будто мусор – что смотреть?
По узкой лестнице, для этого
не предусмотренной, для этого
не предназначенной, для этого
не спроектированной, бля.
Всем будет легче: детям, воздуху,
родным и близким. Дайте воздуху
квадратным метрам нашим, собственным,
где мы еблись, где нас ебли!
Жилье, жилье, жилье, коробочка
вонючая, родная, грязная!..
Несут, уносят, суки, вынесли,
бросают в кузов ледяной…
* * *
«Чего они такого сделали?
Нам ничего они не сделали.
А если сделали… ну – сделали.
Чего поделать? Ничего.
Да, деду в жопу вертел вставили,
да, бабку за п…зду подвесили,
да, распилили мамку заживо,
да, х…й отрезали отцу.
Да мы и не такое видели!
Музея пыток мы не видели?
Кина такого мы не видели?
Да будь здоров – и наяву!
А если стало только лучше? А?
Надежней люди стали, искренней,
детей воспитывали в ценностях,
учили родину любить?..»
Трясется за окном окраина.
Короста снежная. Даль честная,
без обещаний. Жизнь безгрешная.
Без обещаний. Наяву…
* * *
А праздник ходит, набирается
горячей жизнью, раскоряченной
как баба-шуба в местном ельнике
над мужичком под пятьдесят;
и набирается отчаяньем,
и разговором в пользу бедствия,
и сытый стон от голошения
уже неотличим почти;
а праздник волей набирается,
и вместо ног, давно нечуемых,
идет душой и настроением,
и лист встает перед травой;
и ум за разумом не прячется,
и дух идет, и запах шествует,
и чает мертвый воскрешения,
и воскресения – живой;
и вот уже большие, белые
спускаются на землю ангелы
и вяжут всех и ждут, ядреные,
что скажет старший санитар…
* * *
«Тебе чего, дурак?» «Ну… хочется,
чтоб здесь чесали, а здесь гладили,
и чтобы тут, когда туда… того,
массажным валиком прошлись».
«Чего еще?» «Ну… чтобы это вот
так не было, а было и́наче,
и… ну… снимите ту х…ёвину
и замените на х…й-тэк».
«Чего еще?» «И чтоб не… этого,
когда… того, как если раньше я…
Ну, в общем, чтобы можно было бы
и чтобы хорошо скользил».
«Чего еще?» «И чтобы эти вот,
ну… эти самые, которые…
Ну… в белых перьях… Нет, не ангелы…
Не балерины… В жопу их!»
«Всё?» «Ну еще, конечно, радости
и – что там? – счастья, денег… Что еще?
Любви, здоровья, процветания!
И чтобы не было войны!..»
* * *
«Такая мысль, мысля неловкая,
такая вот мыслишка шаткая,
мыслюндия такая глупая,
мыслявка, в общем, тут пришла.
Такая маленькая, мелкая,
слюнявая такая, ссаная.
Откуда, блять, она притопала,
как завелась такая вот!
Не то чтоб черная, нет, серая,
и не по пьяни, а по трезвости…
О чём? О том! И не по пьяни ведь…
По пьяни, в общем, все равно…
Да как-то стыдно стало, моркотно…
Обычно просто скушно, знаешь – как
без бабы. А тут, вроде, с бабой и
так стыдно… Стыдно и сказать!
Ведь ничего не знаешь! Кто, когда…
Ни слов, ни, там, родной истории…
Живешь, как мясо злоебучее!
И детям нечего сказать…»
* * *
Все черти маленькие, средние,
большие, мокрые, лохматые,
все бесенята, бесы, бесики,
нелегкая, живая рать,
всё, что под кожей тихо водится,
на поворотах вен кантуется,
стремает ганглий стайки нервные
и луковок волосяных,
все эти ладушки-нела́душки,
все эти любушки-нелюбушки,
все эти ёбушки-воробушки,
как воспарят под облакы, —
орлами станут шизанутыми,
героями, да, блять, героями
госцирка, госкино, госкосмоса,
и гоструда, и госвойны!
Здесь надо бы сказать… А надо ли?
И так понятно… Делать нечего…
И, в общем, лучше делать нечего,
чем ничего не делать, нах…
* * *
«Когда умру, возьмешь, вон, палочку,
поковыряешь землю жирную,
там, за сараем, где обычно мы
с тобой копаем червяков,
и ямку, только неглубокую —
не надо силы тратить попусту, —
там выкопаешь; в эту ямочку
меня зароешь, ладно, да?
Возьмешь дощечку – там, в сарае, их
навалом разных – и напишешь так…
Да я решил уже, ты выслушай
и напиши, как говорю,
но только чтобы слово в слово! И
ни дат, ни крестика, ни имени!
Кому какое дело, кто лежит
здесь за сараем, в червяках!
Короче говоря, напишешь так…
Карандашом простым, вон, в баночке…
И чтобы больше не ходил туда!
Короче, напиши, сынок:
„Здесь лежит кусок говна.
Это не его вина“».
«Скорей посмотри в окно, родная…»
Скорей посмотри в окно, родная,
отсюда хорошо видно:
наша жизнь в руках идиотов!
Посмотри, какие руки нас держат —
маленькие, с круглыми ладонями,
короткопалые, с широкими ногтями,
пухлые, напруженные кровью,
но будто совсем без вен, как если
краску налить в медицинскую перчатку,
немытые, липкие, в язвочках и расчесах,
руки профессионального онаниста,
в каких-то чернильных закорючках,
как перед контрольной работой,
торопливые, дрожащие, непривычные
к мелким, исчисленным движениям,
к чистому, умному жесту.
Скорей, родная, пока не закончилось,
иди сюда, посмотри,
что они делают с нами!
Теребят, вертят, как брелочки,
перебирают, накручивают, как це́почки,
слегонца подбрасывают, как монетки,
взяв между большим и указательным,
подносят к носу, поцарапывают ногтем,
взвешивают, как свою мошонку;
вставив между указательным и средним,
трясут, как дешевой авторучкой,
сворачивают, как проездной билетик,
в острую трубочку и ковыряют в зубах,
мусолят, мусолят, не знают, выбросить
или оставить: мы надоели, но, в общем,
снимаем нервное напряжение.
Ну вот, родная, ты всё пропустила!
А было так забавно!
И видно было как на ладони!
Мы корчились, крутились, вертелись,
растягивались и сжимались,
подергивались, тряслись, дрожали,
сморщивались и разглаживались,
раздувались, подпрыгивали, плясали,
перепутывались и комкались,
продевались друг в друга, вились,
расхлопывались и схлопывались,
трещали, хрустели, дребезжали,
клацали, скрипели, повизгивали,
скулили, воняли, истекали, сочились,
терпели, терпели, не знали, умереть
или жить: все надоело, но, в общем,
оставляло некоторую надежду…
«Коньяк «Дагвино», трехлетний, ноль двадцать пять…»
Коньяк «Дагвино», трехлетний, ноль двадцать пять.
Примерно пять рюмок, но достаточно трёх —
из пола эти растут и говорят: «Исполать
деспоту нашему от нас, подмастерьев, терёх.
Мы – твои исполатники. Что захоти́шь,
исполним. Что скажешь, сотрем в порошок —
синий, красный, желтый… Подпольную мышь
петь заставим тебе, Бельведерский горшок.
А заиконную мышь, ту, что в заиках сидит,
говорить научим и хвостом рисовать
сильные, строгие брови, энергический вид,
в бога отца и сына и душу мать!
Нужен тебе стишок, нужен тебе дружок.
Первый – вот. А второго ищи-свищи.
Выпей четвертую, пятую, посмотри на слепой снежок,
послушай, как ветер дует во все свищи…»
Серая мысль становится белой, ручной,
лабораторной, привычной к току, к игле,
и лежит, выполняя долг, побеждая гной,
на блестящем, чистом как спирт, столе.
«Родион ты Романович, Родя, родненький…»
Родион ты Романович, Родя, родненький,
первый консул ты всех Петроградских старух,
хоть бы ты нас коснулся своим топориком,
даже если не лезвием – подойдет и обух!
Мы поедем в Обухово на покойницком,
нам карету тележную подадут
прямо к самой платформе и на просторное
богадельное кладбище отвезут.
А Порфирью Петровичу, этой крови Пилатовой,
мы покажем по кукишу из кости́,
дурачок ты, Романович, но талантливый,
а ему, белоглазому, не простим.
Ходит воздух копеечный по Столярному,
и не ходит, а мается на углу.
Загибается за́ угол бабья армия —
спозаранку до полночи припадать к топору.
«Дури, дури, дурак нечаянный…»
Дури, дури, дурак нечаянный,
побольше эр, побольше жи,
побольше желтого отчаянья,
и разной разноцветной лжи,
как жили-были, были битыми,
как сами били в кровь и пыль,
как после стали копролитами
и сверху зашумел ковыль,
как выросли потом огромными
цветами, желтыми как месть,
Петровичами и Петровнами,
царевичами, королёвнами,
сапожничами и портнёвнами…
И вот, стоят, качаются все вместе.
«Вера Никон из фотоателье…»
Вера Никон из фотоателье
на шестой станции отирает
его лицо светочувствительным
полотном, и как из лейки свет и
пот становятся вывеской Веры.
Человек с ворохом Т-образных
рубашек подбегает к Форресту
Гампу и отдает ему одну —
вытереть лицо от грязи, а тот
размазывает по рубашке:)
Трехметровый пятый номер Хесус
Эсперанца стирает серебро
с черного лица белым убрусом
и делает трехочковый во имя
отца, сына и командного духа.
«как часть природы я сказать…»
как часть природы я сказать
не знаю что тебе
играет ветер на губе
играет диззи на трубе
играет дева на себе
орел играет на гербе
борьба играет на борьбе
играет слизень на грибе
играет плётка на горбе
играет гайка на резьбе
росток играет на бобе
дурак играет на судьбе
играет мертвый на столбе
играет нами вещь-в-себе
играют мышцы при ходьбе
очко играет при стрельбе
а я не знаю что тебе
сказать лишь ме да бе
«реки меня сестра…»
реки меня сестра
сестра моя река
река моя сестра
что надо знать когда
речешь меня черна
смородиновая
на родине огня
всё меньше нет огня
на родине огня
сестра моя рембо
нам сделали бобо
подуем ничего
сестра моя ребро
нам не было темно
не будет и светло
на смо́роде-реке
мы смолоду хехе
сидели как в яйце
а рядом во дворце
сидела смерть в парче
держала мух в руке
и вот они летят
в соседний лётный сад
и сразу же назад
уже совсем седые
«Непорядки и раннее горе…»
Непорядки и раннее горе —
все пройдет, все развеется вскоре,
и сирена взревет на мосту,
разделяющем эту и ту,
и – ту-ту и тю-тю, и у сквера
нам скривятся Надежда, и Вера,
и за ними старша́я, Любовь,
приподымет косматую бровь,
и пойдут позвоночники прямо,
до веселого хруста, и прямо
станет, что́ было криво тогда,
и лопатки сойдутся тогда,
и в губах округлится свистулька,
и свистящая вылетит пулька
прямо в птичку, летящую встречь,
прямо в райскую адскую печь,
засвистят соловьи гробовые,
как влюбленные городовые —
как банально начало конца,
но не бойся и требуй свинца! —
здравствуй, рубленая, ножевая,
пусть прольется уже чуть живая,
пусть хлопочут по эту и ту,
чтоб запела сирень на мосту!
«– В ночь эталонную слышишь ты пение?..»
– В ночь эталонную слышишь ты пение?
Любо ль нам видеть свой труд?
Слышишь ты в рощице русское пение?
Слышишь, как дети поют?
– Нет, я не слышу русского пения.
Труд наш не слишком хорош.
Дети поют, но воды до кипения
этим ты не́ доведешь.
– Небо считаешь заочною вотчиной?
Хочется счесть облака?
– Нет, не считаю. Не хочется. Хочется
детям – пи-пи и ка-ка.
– Смотришь последние битвы по телеку?
Гог одолеет Магог?
Чистишь ли пряжку, скучаешь по тельнику?
Детям прочел Декалог?
– Гог его знает, Магог его ведает,
пряжка погасла давно,
тьма наступает, а кесарь обедает,
в общем: не делай темно.
– Сколько любви в эти выстрелы вложено?
Сколько их, Осенька, там?
– Коленька, нам ведь считать не положено
да и не хочется нам.
– Были мы, не были, гоголи-моголи,
небулы, нобили, чу?
– Главное, чтобы детей не дотрогали,
этого только хочу.
– Кто нас позвал в эти дебри словесные?
Кто посадил нас в вагон?
– Гог его знает, мы – тучки небесные
над огородами зон…
Джудит и Дельфина
1
Паучиха Юдифь с головой Олоферна (наверно:
кто чего разглядит в этом коконе пряжи, в сутаже…),
обнимает ее и, как матери в пузо, медузой
тычет сердце в нее монголоидное, молодое,
смотрит, ка́к там живет голова золотая, пустая,
весь в заплатах живот головы, весь просло́ен, пропло́ен,
как она поживает, катушка, игрушка, подружка,
голова, голова, нет, моя́, нет, моя́, не завянет,
нет, меня назовёт тихо-тихо: «Моя паучиха,
Джудит Скотт, Джудит Скотт, приходи, залезай ко мне, зайка».
2
Дорогая Джудит,
посылаю Вам эту куриную вилочку
с наилучшими пожеланиями:
родиться разнояйцевой близняшкой
с лишней хромосомой,
никогда не стать похожей
на родную сестру,
быть корнем этого плода,
а не цветком,
в три года переболеть скарлатиной
и оглохнуть,
в семь отправиться в специнтернат,
где Вам поставят IQ 30
на основании устных тестов
и будут отбирать карандаши,
чтобы Вы их не сломали,
а учить вообще не будут,
чтобы Вы зверели там
в течении тридцати пяти лет,
пока Ваша сестра не поймет,
что не может без Вас,
и не заберет к себе,
после чего Вы станете звездой art brut
и до конца жизни
будете пеленать украденные предметы
в нитяные коконы, которые
к началу двухтысячных
пойдут по десять тысяч за штуку.
Эту вилочку, присланную мне
господами из Уолдорфа,
я тщательно выварила и отполировала,
она покрыта золотой краской,
надушена и перевязана розовой ленточкой,
искусственный ландыш и миниатюрный ангел
дополняют композицию,
на самой вилочке я написала
своим каллиграфическим почерком:
«The painter plays the spider and hath woven
a golden mesh to entrap the hearts of men».
Да, кстати, вас перепутают:
ту, что родится второй и будет меньше,
в больничной выписке назовут Джудит,
но меньшей при рождении на самом деле
будет Джойс, так что Вам повезет
с самого начала.
С наилучшими пожеланиями,
Дельфина Бингер
«ясные звёзды…»
ясные звёзды
неясные звёзды
звёзды как звёзды
звёзды как зве́зды
страшные звёзды
нестрашные звёзды
звёзды как вежды
звёзды невежды
стыдные звёзды
студёные звёзды
звёзды зенницы
звёзды денницы
звёзды коровы
быки кони совы
птицы ночницы
птицы синицы
звёзды заплаты
на сводах палаты
умные звёзды
неумные звёзды
звёзды как пёзды
звёзды как жопы
звёзды как воздух
павший в окопы
паданцы падлы
подлые яглы
звёзды как дырки
звёзды утырки
жа́ры стожары
шквары зашквары
звёзды как шмары
звёзды кошмары
звёзды шахтеры
лежащие в шахте
вот вам мой выдох
слезитесь суки слезитесь
«Когда из горла Горловки пойдет обратно…»
Когда из горла Горловки пойдет обратно
и выйдет липкий ком, от каустика спёкшийся,
и выйдут из него пратётки, прадядья́ мои,
родные прадеда Исака Львовича,
потом главбуха Минсельхоза УССР,
так вот, когда они оттуда вылезут,
и друг от друга медленно отлепятся,
и разберутся где чьи письки-сиськи там,
и посвежеют мясом, и обтянутся
нежнейшей кожей, новенькой, младенческой,
и приоденутся во всё застольное,
и сядут Шорабора с Левиёсоном
за обе щёки уплетать на праздничке,
тогда все буковки во мне построятся
во что-то более простое, внятное,
чем этот ком, стоящий в горле Горловки
вонючим бесполезным ископаемым.
И я тогда скажу вам всё, что думаю.
«Что-то мне грустно, что-то…»
Что-то мне грустно, что-то
не совершается во мне работа
памяти, и прощения, и травмы,
я дышу с утра, мы
живем с утра, за
окном зима,
для первого раза
слишком горяча белизной беды,
и повсюду следы
от разного размера сапогов…
Но заступ и топор
не вредны русской Розе,
о как интинский бор
сверкает на морозе,
как это дерево лежит в интимной позе,
как память узкая длинна среди снегов!
«Как почернелый труп, завернутый в себя…»
Как почернелый труп, завернутый в себя,
лежу я на столе, Россию возлюбя.
Лежу я на спине, уставясь в потолок,
и думаю, какой прекрасный потолок!
В нем лампочка висит, наверно, в сорок ватт
среди темнеющих кругом как будто ват.
В нем лампочка стоит на тоненькой ноге
качаясь иногда на легком сквозняке.
Стол подо мной не стол, а плотничий верстак.
Надеюсь, что на нем лежу я просто так…
Как хорошо лежать на грубых досках вдоль!
Россия, полежать мне вдоль тебя позволь!
Не закрывая глаз, уставясь в сорок ватт,
я думаю, что свет немного резковат
и вид облезлых стен подчеркнут чересчур
и что какой-нибудь им нужен абажур.
Не видно пола мне, но думаю, что пол
дощатый и похож на мой удобный стол.
Над головой висит обычное окно,
и в нем с утра черно, и вечером черно,
и днем… В ногах стоит некрашеная дверь
и будто говорит: не заперто, проверь.
Мне кажется, что я лежу в пустой избе.
Мне кажется, что я лежу в пустой тебе.
Мне кажется, что я в России. Я и есть
в России, но она не знает, что я есть
в России! Вдруг сейчас вернется и найдет
меня, лежащего внутри как идиот!
Что я отвечу ей? Что мне здесь хорошо?
«Ага, – ответит мне Россия, – чо ишшо?»
И растеряюсь я и тут пойму, что гол
и наг, и гол и наг, и стыдный черный кол
торчит из черных чресл, и вскрикну, и проснусь,
еще крича: «О Русь, о Русь, о Русь, о Русь!»
«Весь белый, человек, и вязок и неприбран…»
Весь белый, человек, и вязок и неприбран,
и черные огни считающий в уме,
и тычется своим обрывочным лытдыбром
в сте́нное ухо,
вянущее во тьме.
Се старый человек, ни то ни сё, не экке,
а эдакий хомяк, производящий газ.
Он знает все, что надо знать о человеке,
в поисках света
делающем зигзаг,
цугцванг, цейтнот, зигхайль, цайтгайст на все четыре…
Но вот нашел. Включил. Глядит по сторонам.
Русалка плавает в его подкожном жире,
по чуть дрожащим
на животе волнам.
Четыре. Подождем. Сидит. Какая скука!
Под животом висит чуть взбухнувший член.
Ну ты и сука, Аполлон, ну ты и сука
передавать нам
этот голимый тлен!
«На губах у крови – кровь…»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































