Текст книги "Пробуждение Улитки"
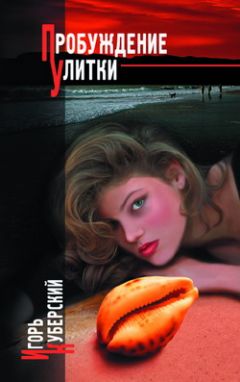
Автор книги: Игорь Куберский
Жанр: Эротическая литература, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Игорь Куберский
Пробуждение Улитки
Тотчас он пошел за нею, как вол идет
на убой и как олень на выстрел.
Книга Притчей
К тому же улитки не ведут
бессмысленных войн.
Знаки агни-йоги
Да, я приучил себя довольствоваться малым. Лучше пригоршня в покое, нежели горсти в трудах и заботах. Из максималиста я стал минималистом. Труднее всего было обуздать честолюбие и признать, что ничего не получилось. Я и сейчас иногда взбрыкиваюсь – мне кажется, что еще есть время и силы. Мне даже кажется, что сил у меня больше, чем в молодости. Я не про славу. Я про чувство внутренней гармонии – с внешней уже не вышло и не выйдет. Но внутри можно было бы переорганизовать весь этот трагический фарс и хаос в свет и покой. Последние годы я только этим и занимался. И заклинал себя: я свободен и я спокоен. Я никому и ничему не завидую. Я не боюсь смерти и не жажду бессмертия. То, что я делаю, я делаю хорошо. Я стараюсь не приносить людям зла и не считаю себя лучше других. Совсем как у Швейцера: «Я есть жизнь, которая хочет жить. Я есть жизнь среди жизней, которая хочет жить». Мое сердце открыто для добра и любви… Нет, про сердце я не буду. Сердце мое закрыто. Я боюсь его открывать. Если оно открывается, то само. Мы с ним разошлись, и, когда ему больно, я злорадствую: «Вот видишь, я оказался прав. Так тебе и надо». Друг к другу мы относимся с недоверием.
Иногда я колочусь в стену головой – Господи, какие прекрасные молодые женщины были рядом со мной и сколько прекрасного привносили они в мою жизнь, сколько подарили мне минут, и часов, и дней, и месяцев, и даже лет, как счастлив я бывал с ними, и как лучились их глаза, и как они улыбались – да! мне! – и что теперь? Где они? С кем? И кем стали? Наверняка у них дети и, может быть, внуки. Вспоминают ли они меня? Это один из моих вечных вопросов самому себе. Вспоминает ли кто-нибудь меня, принес ли я кому-нибудь хоть крупицу счастья?
I
Я увидел ее среди уличных художников в портике бывших Серебряных рядов, что на Невском возле Думы.
– Ты только из-за моих ног со мной познакомился! – смеялась она.
И вправду – не из-за работ же ее, прикнопленных рядом с этюдником. Работы мне тогда не понравились. Она заканчивала чей-то портрет, держа его перед собой на коленях, а складной стульчик перед ней был пуст; видимо, портретируемый, не признав сходства, исчез, но она еще сердито водила цветными мелками, добавляя тупой похожести, на которую клюют невежды. Помню, сердце у меня застучало вдвое быстрее, верно угадав момент жизни, от которого начнется что-то другое, сердце застучало, отдаваясь в висках, и не своим от волнения голосом я спросил:
– Меня нарисуете?
Она глянула в мою сторону сквозь очки и мрачновато кивнула на складной стульчик:
– Садитесь.
Нет, не мрачновато, скорее безучастно, и даже не безучастно, а со скрытой неприязнью – я был работодателем, а ее натура протестовала против этого. Но она пришла сюда зарабатывать деньги и поэтому сказала «садитесь». Я сел, ее высокие ноги оказались перед моим носом, и я с трудом оторвал от них взгляд. Лицо ее было смуглым, розовые губы своенравно вывернуты, как у таитянок Гогена, а нос с большими ноздрями по-азиатски слегка приплюснут. Голос звучал низко и уверенно.
– Какой вы хотите портрет? – спросила она. – Цветной, черно-белый?
– Цветной, – сказал я, стараясь не опускать глаз.
– Цветной стоит дороже, – сказала она.
– Я могу себе это позволить, – сказал я.
Она выбрала из пачки листок, шершавый лист для пастели, – и у нее были такие кисти рук, такие умные живые пальцы, что мое учащенно бьющееся сердце дало перебой, а душа заныла.
– Я правильно сижу? – спросил я.
Мне хотелось с ней говорить.
– Правильно, – сказала она, время от времени окидывая меня тем пристально-отсутствующим взглядом, какой отличает художников. – Можете вообще шевелиться.
– А Модильяни писал не так, – сказал я. – Он сначала полчаса смотрел на модель, а писал по памяти.
– Я не очень люблю Модильяни, – сказала она.
– А кого вы любите?
– Ну… – замялась она, явно не желая открываться перед посторонним.
– Серова? – спросил я, потому что в тот момент читал про Серова.
– Да, – сказала она, – и Врубеля. Вот у них получалось.
– Но «Девушку, освещенную солнцем» Серов писал три месяца по восемь часов в день, – сказал я.
– Он мог себе это позволить, – ответила она моей фразой.
– Я как раз собирался сходить в Русский, портреты Юсуповой, Орловой – это черт-те что!
– Да, – сказала она, – неплохо бы сходить.
Похоже, я ей мешал работать, но у меня было мало времени – пятнадцать минут, не больше, как она заверила.
– Не знаю, как он писал свою девушку, – продолжал я. – За три месяца она должна была сильно загореть. А этого незаметно.
– Он создавал, а не копировал, – сказала она. – У него был образ, замысел.
Тем временем что-то вокруг изменилось, как будто мы создали некое силовое поле, притягивающее окружающих. Сначала возникли зрители, затем телевизионщики. То есть сначала возник молодой человек с залысинами и лукавой улыбкой прохиндея, а за ним, как на веревочке, – большой и толстый оператор с переносной телевизионной камерой. Лукавец зацепился взглядом за нашу парочку и что-то шепнул оператору. Тот сделал шаг в сторону, чтобы мы попали в кадр, и прицелился в свой видоискатель. Затем он кивнул ведущему, и тот на цырлах подсеменил к нам.
– Похоже, нас будут снимать, – поежился я.
– Не бойтесь, – сказала она.
Я сидел очень низко, и молодому человеку пришлось сильно наклониться, в руке у него был микрофон.
– Как вы относитесь к фотографии? – спросил он.
– Нормально, – сказал я.
Тогда он спросил, почему я захотел заиметь свой собственный портрет. Я не мог ему сказать, что на собственный портрет мне абсолютно наплевать, и я стал говорить ему про психологические отношения художника и модели. По его заскучавшим глазам я понял, что говорю не то, что ему нужно, но моя художница слушала с интересом. Потом он спросил, нравится ли мне, что художники вышли на улицы и вообще «такая атмосфера». Все это тогда было еще в новинку нашему суровому городу, и вопрос звучал актуально. Я сказал, что если мы считаем себя Европой, то, как в европейских городах, у нас на улицах должна быть атмосфера свободного, радостного общения. В «европейских городах» я тогда еще не был, наверное, именно поэтому от них в телепередаче ничего не осталось. Удивительное дело – голос был мой, а слова не мои. Вид у меня на телеэкране был слегка затравленный, будто меня брали с поличным. Моя художница держалась много лучше. Хотя и ее слов про милицию, гоняющую художников, в интервью не оказалось.
Портрет был готов, это был не я, не тот я, каким я видел себя в «психологических отношениях художника и модели».
– Может, получилось не совсем… – с сомнением сказала она, но я поспешно сказал: «Что вы, отлично!» – и еще поспешней выложил деньги.
Я выбрался из толпы со свернутым в рулончик портретом. Затем вернулся – стул перед ней уже был занят – и громко спросил через головы:
– Как вас зовут?
Мне нужно было домой, но, покружив по Невскому, я снова вернулся к портику. Ее я не нашел.
II
Назавтра ее не было. Я прошелся по всем засидкам художников, которые она упоминала, я побывал везде – она исчезла. Я чувствовал, что напрасно ищу, что ее сегодня нет и не будет, но не верил инстинкту и продолжал торить мостовые и площади города. Он был прекрасен и пуст, он был ужасен, он был белым на солнце и черным в тени. Я перебирал всякие мелочи нашей тридцатиминутной встречи, весь тот переливавшийся из пустого в порожнее разговор, который теперь мне казался значительным, полным разных поощряющих мою инициативу знаков и символов, и проклинал себя за пижонство. Упустить, потерять, лишиться… И все-то из опасения показаться пошлым. Ведь должен же был я понимать, когда сидел на ее стульчике, – Господи, даже тот стульчик я теперь любил! – должен же был я тогда понимать, что подобным же образом садятся на него и начинают полоскать перед ней зубы десятки других знатоков Серова.
– Вообще-то я оформитель, – сказала она. – И еще я реставрирую иконы.
Нет, она работала не в театре. Она вообще нигде не работала, только где-то там числилась. Да, а на жизнь она зарабатывает портретами. Сначала было страшно – вот так взять и выйти на улицу. Надо было себя преодолеть. Она начала в Пицунде. В Пицунде было проще, там она одна рисовала. Нет, грузины не такие уж щедрые. Они садились, чтобы познакомиться. Каждый предлагал себя в мужья. Чтобы отстали, она говорила, что ей пятнадцать лет. Но они соглашались подождать. Прямо тут же, на стульчике. Они забывали, что садились для портрета, и потом не хотели за него платить. Им была нужна женщина, а портрет им был не нужен, они ничего не понимали в портретах. И не понимали, зачем ей деньги. Деньги должны быть у ее мужчины. Они не понимали, что деньги ей нужны на жизнь, они не понимали, почему она одна. Такая девушка не могла быть одна. В Пицунде она дружила только с мальчишками, с целой ватагой мальчишек, потому что они были чисты и красивы. Грузины красивы только до семнадцати лет.
А потом она сказала, что ей нравится такой возраст, как у меня, и моя седина ей нравится. Когда мужчина начинает седеть, он становится моложе. Потому что светлей. Потому что седина дает рефлекс света на лицо. Не мешаю ли я ей рисовать своей болтовней? Ничего, она привыкла. А вообще-то ей интересно поболтать со мной. И еще она сказала, что на днях должна переехать и будет очень занята. Это я совсем забыл, она просто очень занята. И еще она снова собиралась в Пицунду. Может, она уже там. Там бы я ее наверняка нашел по толпе мальчишек на солнечном песчаном берегу. И хотя я уже понял, что ни сегодня, ни завтра ее не увижу, мистическая интуиция медиума, а влюбленный – почти медиум, говорила мне, что я ее еще встречу.
Я обнаружил ее на четвертый день, когда, согласно Книге Бытия, творец отделил свет от тьмы. Она шла стремительной высоконогой походкой в компании высокого худого мужчины, который был седей и старше меня. Лицо у мужчины было неглупое, но испитое и циничное, и я огорчился за нее. Все было кончено. Мне оставалось только незаметно проскочить мимо. Но она заметила меня, узнала и вдруг побежала ко мне. Пока она подбегала, краем глаза я увидел, как ее спутник состроил кислую презрительную гримасу. Гримаса была явно по моему адресу.
– Я наконец переехала, – сказала она, улыбаясь во весь рот, будто радуясь встрече. – У меня есть телефон, я могу вам позвонить. Я не люблю звонить из автомата.
Нет, она не давала телефона, она просила мой, она оставляла за собой инициативу, и она сказала:
– Я вам позвоню.
– Когда? – спросил я пересохшим горлом.
Мы встретились рано утром на Невском проспекте, когда он еще чист, свеж и малолюден, и политые мостовые еще не отдали летнему небу свою влагу, и кажется, что тебе не сорок пять, а шестнадцать, и от Невского ты ждешь чуда, и он дарит его на протянутой ладони. Что там? Три клеверные головки: розовая и две белые.
– Это для вас.
Я засовываю их стебельками в карман рубашки, и в темноте кинозала они фосфоресцируют от экранного света.
Никогда в жизни не ходил в кино на первый сеанс. Она тоже. И вообще кино разлюбил. А она и не любит. И если б не нервные соседи слева и справа и, кажется, сзади, мы бы объяснились на этот счет: это ведь нечасто – не любить кино. «Я не уверен, что это искусство», – только и успел сказать я. Я много об этом думал и теперь не уверен. А она просто не любит киношников и переносит это на их продукцию. Она не любит суету, хотя, пожалуй, сама немного суетлива. «Я тоже суетлив», – шепчу я, наклоняя к ней голову, так что задним соседям приходится искать другую точку смотрения; зал прямой и узкий, как школьный пенал, непонятно, почему его назвали «Титан». «Это потому, что русский человек испытывает тягу ко всему чрезвычайному», – без зазрения совести цитирую я Пастернака и добавляю, что до революции здесь был ресторан Палкина, а напротив, в «Октябре», – дом свиданий под названием «Шуры-Муры». Господи пронеси, нет больше сил молча трястись от смеха. Мы прыскаем в темноте.
И вечером мы еще вместе. Пьем чай на кухне в ее новой квартире. Она сняла ее на полгода. Отличная хрущевская квартира – балкон, совмещенный с соседским, ватерклозет, совмещенный с ванной, комната, совмещенная с кухней… Ничего, она все здесь распишет – она не выносит скучные интерьеры. На окнах будут витражи, на стенах – декоративные ткани. Конечно, я могу помочь, если захочу, хотя она привыкла обходиться сама. Она с пятнадцати лет сама. Отец, он хороший, но слабый человек. Фантазер. Пишет стихи. В стихах у него тигры, пальмы, пампасы. Вообще-то он инженер-электронщик. Очень хороший электронщик, но очень слабый человек. А мать она ненавидит. Мать все детство ее била – мать не выносит другой жизни рядом с собой. Бабушка – вот кто ее спас. Бабушка взяла ее в свой дом и воспитала. Она скоро возьмет бабушку к себе. Они купят за городом дом и будут жить вместе.
В открытое окно кухни лезла листва кленов, комары-невидимки распевали свои кровожадные песни, легко преодолевая четыре этажа, равные двум 1913 года постройки, по всем трубам вверх-вниз утробно носилась вода, дом гудел, как нутро пациента под фонендоскопом… Нет, она будет жить только в своем собственном доме, за глухой стеной, ей нет дела до того, что вокруг, она создаст свой собственный мир, она умеет все – малярничать, работать по дереву, раскрашивать и обжигать плитку, класть ее.
– Я тоже умею, – сказал я. – Дома я сам облицевал ванную.
– Это все не то, – поморщилась она, хотя не бывала в моей ванной.
– Конечно, не то, – сразу согласился я. Мне почему-то было радостно соглашаться.
Наконец я сказал:
– Уже поздно, мне пора.
– Да, поздно, – сказала она. – Можете остаться. Думаю, нам будет не слишком тесно.
Это было последнее наше «вы».
В ней не оказалось ни капли постельного кокетства, она сразу доверчиво, простодушно раскрылась мне, будто наперед знала все, чем я могу ее одарить, и благодарно принимала это, была податливо-послушна и в то же время равна мне в предприимчивости, и та часть моего тела, где приостанавливались в ласке ее живые пальцы, тут же начинала ответно вибрировать, будто пронизанная пучком золотого света; и в самозабвенном бреду соития, которое все не кончалось, я почему-то ощущал себя поющим деревом, вроде яблони, или вишни в цвету, которые по зримому образу ведь ни что иное как белые вспышки, ослепляющие нас в миг очередного умиранья.
III
Утром она принялась рисовать новую рекламу, потому что я раскритиковал то, что она выставила на Невском. Я обнаружил у нее совсем другие работы, и они меня поразили. Вообще они мало походили на то, что до недавнего времени привычно висело на выставках моих современников. У одних был профессиональный застой, у других – профессиональное лукавство. Они умели изображать только предметы, но не их связь. Впрочем, была еще надежда, что где-то там, за облезлыми стенами нежилого фонда, все-таки живет и дышит, и заново рождается подлинное искусство. Когда же запреты были сняты и в выставочные залы хлынул сель авангарда, оказалось, что подлинного, настоящего почти нет. Так, отдельные золотые крупицы… Оказалось, что когда в обществе нет глубинной потребности в искусстве, то и само искусство вымирает. Мельчает, мелочится, приспосабливается. Оказалось, что гениев порождает потребность в них, то есть среда. Лет за двадцать, за одно поколение, может быть, и возродится дух красоты, дух романтизма. А ей был 21 год, и ей на все было начхать. Затаясь, ушки на макушке, я слушал ее истории, рассматривал ее картины. К себе она относилась иронически. Однако ее было просто обидеть. От насмешки и грубости она была плохо защищена.
Новая реклама у нее не получилась.
– Попробуй на другом фоне, – сказал я.
– Ты прав, – кивнула она и взяла лист плотной розовой бумаги, которой в школьные годы мы обертывали учебники и дневники. Ничего, кроме поросят, на такой бумаге нельзя было нарисовать.
– Да что ты! – воскликнула она. – Ты приглядись! – и она близоруко беззащитно прищурилась. – Видишь, в тени, за изгибом, она уже не розовая, а голубовато-зеленая. Ей только надо придать абрис лица – она сама засветится, надо только чуть выявить ее фактуру.
Пока она выявляла фактуру оберточной бумаги, я съездил домой за съестным. Заодно я прихватил свой этюдник, так как ее собственный еще болтался где-то у знакомых с половиной ее не перевезенных в новую квартиру вещей. За время моего отсутствия ее прежде розово-светящаяся «тетка» позеленела от усталости.
– Чего-то не то, – растерянно пробормотала она, вставая с колен и скрестно размахивая руками, чтобы разогнать кровь, – чего-то не получается.
Я не стал ее разубеждать. В отличие от большинства женщин, ей нужно было говорить правду.
– Она у тебя похожа на буфетчицу, – сказал я.
– Не в этом дело, – поморщилась она. – Я ее уже нашла. Уже было нормально. А потом я вот здесь ввела фиолетовый, и все потерялось. Знаешь, когда розовый фон, очень трудно найти цветовую гамму, ведь все цвета перекликаются, я рисую и вижу, как они то включаются, то выключаются, как цветомузыка.
– Зачем тебе мучиться с розовым? – сказал я.
– А это интересно, – сказала она, массируя пальцами уставшие глаза.
– Таких теток надо писать с натуры, – сказал я.
– Таких теток вообще не надо писать, – сказала она. – Мне просто нужны деньги, нужна реклама. Тетки очень любят, чтобы их рисовали. Они делают прическу в парикмахерской напротив и идут позировать, они садятся передо мной, и в глазах у них такая тоска. У них комплекс одиночества, они мечтают о мужчине. Они очень терпеливые, и не отказываются от своих портретов, и не просят телефончика. Мой вид их не волнует. Даже ты сел из-за моих ног, ведь так?
– Так, – сказал я. – Но я тут же понял, что ноги ни при чем.
– Как это ни при чем? – обиделась она за ноги.
Когда я, чтобы не мешать ей, лег спать, она еще стояла на коленях перед теткой, розовый фон вокруг которой был теперь перекрыт охрой.
В свете от настольной лампы ее падающие до полу волосы загорались багрецом. Только в середине ночи она осторожно, чтобы не разбудить, забралась рядом под одеяло.
– Ну как? – голосом из сна спросил я.
– Ты не спишь?
– Сплю. Как тетка?
– Ну ее. Не получилась. Завтра я тебя нарисую.
– Я не подхожу для рекламы.
– Ты что?! Ты ничего не понимаешь! – воодушевилась она, привстав, словно намереваясь немедленно посвятить меня в игру света и цвета на моей измятой физиономии.
– Спи, – сказал я и поцеловал ее в лоб.
– Хорошо, – кротко сказала она и сразу заснула.
С той ночи я стал бояться ее потерять.
IV
Я жил у себя, чтобы не путаться под ногами, – она любила свободу и одиночество, – но каждый вечер звонил ей в условленное время, и, если ее еще не было, я начинал умирать. Однажды она задержалась на два часа против обещанного, и я как сумасшедший бегал возле ее дома и едва успел спрятаться в телефонную будку, когда увидел ее. Из будки я и позвонил.
– Где ты? – спросила она.
– Не очень далеко, – сказал я.
– Ты что, ждал меня?
– Нет, я звоню по пути домой.
– Ты… ты можешь приехать, – сказала она, – только я очень устала… Эти несчастные мужики… Им бы только глазки строить. Я заработала всего шестьдесят рублей.
Она просила, чтобы я не подходил к ней, когда она с этюдником сидит на Невском, и я только раза два нарушил свое обещание, но она меня не видела. Оба раза работы у нее не было, и она казалась мне такой беззащитной…
Ее родители и бабушка жили во Владимире, где она окончила художественное училище. «Когда я куплю свой дом…» – часто начинала она разговор или: «Когда приедет моя бабушка…» Бабушка была из рода священнослужителей, но в Бога вроде не верила. Не верила и внучка, хотя с Богом у нее были какие-то свои отношения, которых, скажем, не было у меня. Детство ее прошло возле церквей, дядя был иконописцем, и она хорошо разбиралась в иконах. Несколько икон, написанных ее рукой, гуляли по частным коллекциям.
– А что, – хмыкала она, – если человеку хочется иметь восемнадцатый век?
Еще один коллекционер имел акварель «настоящего Шагала», выполненную ею.
– Пришлось повозиться…
– Так он знает, что у него подделка?
– Конечно, он сам меня попросил. Но теперь Шагал висит у него на стене, и все считают, что это подлинник. По-моему, он скоро тоже начнет так считать. Он уже говорит: «Мой Шагал, мой Шагал…» – и, взглянув на меня, она поспешно добавила: – Тебе просто не понять коллекционеров. Это сумасшедшие.
– Я их понимаю, – сказал я. – Я тоже сделал две копии, когда мне захотелось иметь дома своего Рембрандта.
Она еле сдержалась, чтобы не поморщиться, вспомнив те два холста, которые я, всю жизнь балующийся красками, с гордостью показал ей.
– Вот видишь, – сказала она. – Но то копии… – тут она запнулась и извиняющейся скороговоркой выпалила: – Ты все-таки сними их, ладно? То копии, а это новое. Это очень трудно. Надо изучить манеру письма. Ой, там столько тайн! – и она отмахнулась рукой то ли от них, то ли от себя, занимающейся этим тайным делом, то ли от меня, как бы щадя мои потаенные, но не близкие ей идеалы. – Давай знаешь что? – сказала она, словно все еще чувствуя себя виноватой. – Давай ты будешь со мной заниматься поэзией, а я буду тебя учить живописи. Я тебе все объясню, ты поймешь.
– У меня нет таланта, – сказал я, хотя недавно думал иначе.
– Ты не прав, – сказала она не очень уверенно, – ты… ты поймешь.
Она настаивала, что главное – голова, про свою руку она забывала, потому что той не стоило никаких усилий заполнить пустое пространство холста ли, стекла или листа бумаги теми вихрящимися призраками, от которых меня, помню, бросало в дрожь, – только тронь кистью – и тебя поведет.
Страх потерять ее все рос во мне. Он возникал почему-то только по вечерам, утром я был за нее спокоен, я чувствовал, что все хорошо, что она поздно легла и теперь спит, и не звонил ей до полудня. В полдень, как мы уславливались, я будил ее, но она всегда спрашивала: «Который час?» Часов у нее не было – часы ей были не нужны, она жила по собственному времени. Ей неоднократно пытались дарить часы. Но она их теряла. Одни, правда, продержались около месяца, но то и дело выпадали из браслета: в автобусе, в метро, в магазине. Когда они выпали на улице, она решила больше не поднимать их и пошла дальше. Теперь она носила игрушечные, где стрелки, закрепленные под прямым углом, крутились зараз.
Я боялся не того, что она в любой момент может от меня уйти, ведь она и так оставалась сама по себе, я боялся, что с ней что-нибудь случится. Мне хотелось защитить ее от всех напастей мира, а она смеялась:
– Ну что ты выдумываешь. Кому я нужна – старая лошадь?
Она говорила «кому» – значит, одушевленные напасти для нее все-таки существовали.
Прямо над тахтой, на которой она спала, висела большая картина, выполненная ею семь лет назад, стало быть в четырнадцатилетнем возрасте. Картина изображала смерть. Смертью была старуха без возраста с нежным телом. Тело она написала свое, глядя в зеркало. Лицо у старухи было бесплотное, одна кожа, натянутая на череп. Череп улыбался. Через глазницы глядела чернота. Сзади был изображен обнаженный мужчина, мертво лежащий на спине. А внизу – голова юноши, напоминающего Антиноя. В волосах юноши, как в гнезде, стояла на цыпочках птица с длинным тонким клювом и безумно-тревожным взглядом. Птица пыталась обнять крыльями огромное, больше ее, яйцо. Еще были не то какие-то стебли, не то кровоточащие вены: капли крови превращались в цветок. Из цветка рождались гладкие фигурки женщин, а под цветком толпились грубые фигурки мужчин с воздетыми руками. Символика была прямолинейной, как и мир в четырнадцать лет. Картина распадалась, но две ее точки болезненно притягивали взгляд – изогнутая щель смертельной улыбки и птица, обнимающая гигантское яйцо. Второй образ она объясняла так: это какая-то идея, какая-то огромная мысль, человек породил ее, но не может ее согреть, она оказалась больше его, она ему не по силам, у него нет на нее крыльев. А первый… она и не знала, что об этом есть строки:
Ужасный род царицы Коры
Улыбкой привечает нас,
И душу обнажают взоры
Ее слепых загробных глаз.
Она сама писала стихи. И еще сочиняла музыку. Впрочем, и стихи она сочиняла, то есть не записывала, она держала их в голове и над некоторыми неудавшимися строчками «работала» по году. Как-то я принес диктофон, и, прогнав меня с кухни, она целый час начитывала их на пленку. Стихи напоминали ее картины, но были вполне дилетантские, хотя отдельные строчки почему-то сразу запомнились: «Мокнет демон на скамейке, бородач без бороды…» Лучше же всего было само ее чтение. Голос звучал то страстно, то печально, то заклинающе, на каждое стихотворение у нее были свои краски, это был театр одного актера, это была целая труппа.
– Ну а как же иначе? – сказала она. – Ведь стихи, они все разные.
Моя же попытка отнестись к ним объективно была большой моей глупостью. Она жила в своем мире и не нуждалась в объективности. После моих замечаний стихи она забросила.
– Они все плохие, – говорила теперь она.
Ох, не надо учить птицу летать.
Музыкой она занималась в музыкальной школе, еще она занималась фотографией, танцами, аэробикой и, кажется, состояла в секции моржей. Всем этим занимались многие из нас, но, когда в фойе кинотеатра она села за рояль, я снова замер – у нее был дивный звук и какая-то особенная левая рука.
– Да, левая рука у меня все время хочет поспорить с правой, она не хочет ее слушать, ей обидно, что права не она, а правая.
– Тебе нужно играть Скрябина, – сказал я, – пьесы для левой руки. У него левая рука играет за две.
Когда ей не надо было зарабатывать на портретах, она сутками не выходила из дому и писала свое. Натура ей, по ее уверениям, была не нужна, она ее помнила, как стихи, каждую деталь. Она рисовала мужское тело и объясняла мне каждую мышцу, где какая крепится и куда идет, и каждую косточку, к которой эта мышца прилегает. Так же она рисовала и лицо. Стрелкой она указывала источник света и начинала покрывать контур тенями и полутенями. Лицо проступало из белого листа, как из замутненного паром зеркала. Лицо обретало взгляд, то есть выражение, и она объясняла, от каких мышц взгляд зависит.
Но глаза она не рисовала – ее вихрящиеся персонажи смотрели на зрителя черными глазницами.
– Это ты у Модильяни взяла? – спросил я.
– Ты что! – возмутилась она. – Модильяни просто не рисует зрачков. У него все как слепые котята. У меня иначе. Взгляд – он ведь очень конкретен, он приземлен, он смотрит в одну точку. А у меня смотрят изнутри. Это сама душа смотрит из глазниц. Вот приглядись, – и она направляла руками мою голову, чтобы я правильно пригляделся. – Видишь, какой у них широкий взгляд, они обнимают им сразу весь мир.
Вскоре я действительно привык к этим черным или оранжевым, будто внутри бушевало пламя, глазницам, и направленный человеческий взгляд стал мне казаться суетливым.









































