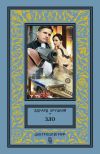Текст книги "Тайна дела № 963"
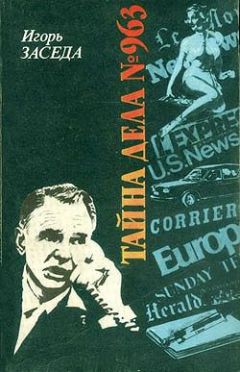
Автор книги: Игорь Заседа
Жанр: Современные детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Игорь Заседа
Тайна дела № 963
I. ГОНКА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1
Она раздевалась не торопясь, аккуратно раскладывая снимаемые вещи. Платье – серебристое, отливающее сизым вороньим крылом, словно резиной обтягивавшее ее тело, встряхнула раз-другой, будто желая убедиться, что в нем ничего не осталось, и, надев на пластмассовые плечики, любовно устроила в массивный, из мореного дуба почти черный шкаф. Закрыв дверцы, мимоходом скользнула взглядом по мне, но ни малейшей реакции на свое присутствие я не обнаружил на ее чуть продолговатом с тонкими, едва угадывавшимися восточными чертами лице – разве что миндалевидные глаза непроизвольно сузились, точно от неожиданного всплеска огня; впрочем, это вполне могло мне показаться. Она была высокая, никак не меньше 175 сантиметров, ноги у нее, как водится, росли из-под мышек, и длина их сейчас была подчеркнута черными тонкими с модным рисунком чулками, которые пристегивались к изящному узкому поясу; под поясом скорее проглядывали, чем виднелись мини-трусики золотистого цвета; талия у нее узкая, и бедра круто уходили в стороны – крепкие, сильные, молодые. Когда же она профессиональным жестом секс-звезды, расстегнув пальцами правой руки застежку на спине, подхватила неглубокий лифчик левой и резко, как на сцене в одном из подвальчиков Сохо, повернулась ко мне, у меня перехватило дыхание и я забыл о боли, разрывающей мое сердце на части.
Такой груди, признаюсь, мне видеть не доводилось…
Это были два отлитых из бронзы колокола с торчащими, как пики, сосками.
Я забыл обо всем на свете: о том, что руки намертво стянуты нейлоновым жгутом, отчего кисти налились кровью, распухли и давно-давно потеряли чувствительность, что челюсть была выбита еще тем первым ударом, на который я наткнулся, едва вступил в полутемную комнату, куда меня втолкнули так, что я едва не упал; забыл, да что там забыл – перестал чувствовать боль, точно ее и не существовало! – стоило было мне лишь увидеть эту фантастическую грудь.
Девица знала силу ее неотвратимого влияния на мужчин: чуть покачиваясь на носочках, она повела хрупкими, никак не вяжущимися с грудью плечиками, точно играя ими, замерла на мгновенье, прислушиваясь к чему-то, потом скривила маленькие, неожиданно жесткие губки ярко-малиново-кровавого цвета – распустившаяся роза на смуглом лице, улыбнулась каким-то собственным мыслям, опять скользнула взглядом в мой угол – я буквально почувствовал его прикосновение, он обжег меня.
Она совершала привычный ритуал так, точно никого в комнате не было, словом, вела себя как любая другая женщина наедине с собой, зная, что никто не видит ни ее лица, ни ее тела. У меня даже мелькнула шальная мысль: а жив ли я вообще и не витаю ли, невидимый и невесомый, в затхловатом воздухе давно непроветриваемого помещения?
– Нет, черт побери, и откуда у природы столько фантазии? – вернул меня на грешную землю глухой, надтреснутый баритон. Владельца его я хорошо знал. Я не видел его, потому что не мог пошевелить головой, а он вошел в комнату из-за моей спины.
Она шелковисто рассмеялась, и смех ударил мне в сердце, как нож, напомнив о моем жалком положении.
– Нет, – продолжал баритон Келли за моей спиной, – совсем голову можно потерять. Бесстыдница! Этот-то еще, видать, живой.
Келли положил тяжелую лапищу на мою голову, сжал пальцами с такой силой, что мне показалось, что трещит кожа, и рывком повернул назад, к себе. Он навис надо мной, как скала, – мощная, заросшая рыжими густыми кудряшками грудь культуриста. Парень был профессиональным силачом, возможно, даже чемпионом мира среди подобных себе, и очень гордился этим, хотя, как показала наша первая встреча, это не спасло его от «грогги», когда он напоролся на мой хук снизу. Впрочем, признаюсь, Келли сполна рассчитался со мной, когда пришел в себя. Нет, он не вызывал во мне ненависти, хотя измолотил меня до бесчувствия, и если б не тот, в темных очках и с козлиной седой бородкой, одним словом: «Стоп!», прекративший избиение, вполне мог бы прикончить бедолагу. Скорее мне не давала покоя мысль, родившаяся в тот самый миг, когда я сообразил, что попался в ловушку, простенькую, незатейливую и потому сработавшую без помех. У меня и в мыслях не возникло сомнение, что приглашают меня по указанию человека, встречи с которым я ждал с таким нетерпением. Звонок, как условлено, раздался ровно в шесть, «пароль» был известен лишь нам двоим… «Хэлло, сэр, не испить ли нам по бокалу доброго шотландского эля? Я набрел тут на одно прелестное местечко на Бейкер-стрит…». Что касается голоса Майкла Дивера, то никогда прежде я не слышал его по телефону…
Лишь позже, размышляя да раскладывая случившееся по полочкам, с разочарованием сообразил, что попался, как кур в ощип, – подслушать наши с Сержем переговоры по телефону и разобраться, что к чему, при современных технических возможностях было, согласитесь, плевым делом.
Да, задним умом мы крепки.
– О, да он жив! – Келли криво улыбался, потому что значительно округлившаяся левая щека мешала свободному сокращению мышц, и еще сильнее, – кажется, кожа затрещала, – сжал мне череп. – Поживи, поживи, дружочек, мы еще с тобой покалякаем на разные темы, и – поверь мне! – ты выложишь все, о чем буду тебя спрашивать, и даже о том, о чем буду лишь намекать…
– Оставь его, – сказала она с брезгливостью, и Келли тут же опустил голову и взглянул на собственные пальцы, видимо, желая убедиться, что не измазался в крови. Странно, но нередко такие вот здоровяки от одного вида крови отключаются.
Честное слово, я не испытывал к нему ненависти; ненависть можно испытывать к человеку, имеющему нервы и способному реагировать не только на физическую боль; этот же был бесчувственен что мешок с тырсой в боксерском зале. Такой вывод я сделал еще после нашей первой стычки, когда Келли тоже кое-что перепало от меня. Откуда мне было знать, что эта гора мышц панически боялась обыкновенного укола шприца и ежедневно принимала голубые таблетки «си-эйч-дабл», начисто снимающие боль, – можно на твоих глазах отрезать руку, твою руку – и ты ничего не почувствуешь?…
Девушка замерла в двух метрах от меня, и от ее бронзовых колоколов исходил такой густой малиновый звон, что у меня закружилась голова.
Келли наконец выдвинулся из-за моей спины. Он оказался в чем мать родила, и ее взгляд был устремлен на него, ниже пояса, и я видел, как наливались блеском ее глаза и колокола двинулись вверх, точно грудь распирала изнутри страшная сила; она дышала все чаще, и малиновый звон совсем затуманил мне голову, и я непроизвольно издал стон, словно выдохнул остатки души, измочаленной кулачищами бесчувственного к ответным ударам Келли. Он уловил мой стон-выдох и обернулся с торжествующей сладострастной гримасой на лице, уже распаляемом страстью. Вот тогда только я почувствовал, как где-то в глубине моей – в груди ли, в сердце или в сером, стонущем от ран веществе – поднимается что-то тяжелое и жгучее, как расплавленный свинец; я с такой неистовой, неуправляемой, слепой силой натянул нейлоновый трос, стянувший руки, что из-под ногтей выступили капельки крови. Я мог простить Келли пудовые удары, но смириться с этой торжествующей, унизительной улыбкой – да еще в ее присутствии! – это было выше моих сил. Мои разбитые губы лишь слегка шевельнулись, и Келли, без сомнения, не уловил даже намека на просочившееся – «Сука!», но он догадался, что я сказал, и вновь готов был озвереть. Она охладила его: «Ну же…»
Келли прыжком преодолел два метра, отделявшие от нее, сграбастал девицу и с каким-то утробным ревом подбросил ее, как пушинку, чуть не к потолку, поймал, и я испугался, что эти перевитые венами, как канатами, ручищи сомнут ее – только кости затрещат. Но Келли – о, Келли, мерзавец, скотина, зверь! – неожиданно мягко обнял ее и, держа на вытянутых руках, самым кончиком языка коснулся темно-коричневого соска, потом – другого, снова вернулся назад и ликовал, балдел и наслаждался сверхрадостью, только доступной в этом мире.
Я видел ее шальные глаза, где, точно молнии, пробегали огненные токи, вызываемые к жизни его поцелуями, слышал горячее, обжигавшее меня дыхание, бессвязные обрывки слов. У меня трещали, звенели все мышцы, их сводило стальными судорогами, а голову точно сжало обручами и затягивало, затягивало сильнее и сильнее.
Келли положил девушку на диван у стены, сам опустился на колени и трясущимися непослушными руками расстегнул (не рванул!) черный пояс и медленно смакуя, потянул вниз золотистые, как заход солнца, бикини; и ее тело уже отзывалось на каждое его прикосновение, и волны расходились, как круги по воде, от впалого овального живота в стороны, достигали ее лица, и оно, бесформенное, с закрытыми глазами, похожее на ожившую маску, покрывалось мелкими бисеринками пота, бесчисленными алмазами сверкавшими в ярком свете люстры; этот подонок кайфовал, растягивая удовольствие, и я убедился, что он знает толк в этом, и неожиданно открытие смягчило мою ненависть к нему.
Келли поднялся с пола, наклонился над распростертым телом, еще раз окидывая его долгим, впитывающим взглядом, затем рванулся к ней всей тяжестью тела, но в последний миг удержал себя на широко расставленных руках и…
Она издала такой глухой утробный звук, что даже Келли вздрогнул и на миг приостановил свое движение вперед. Но тут она в каком-то змеином движении рванулась ему навстречу, я увидел окаменевшие мышцы и… потерял сознание…
2
– Вы уж простите Келли… – дитя природы, знаете ли, его непосредственность – прекрасный возбудитель, ну, нечто вроде психологического допинга для нас, современных обывателей, зашторенных, я бы сказал, в собственных привычках и неписаных правилах. А Келли… он не ведает сдерживающих факторов – моральных ли, физических – вы видели его мышцы? – сам Арнольд Шварценеггер считает их уникальными… по красоте, кажется. Сознаюсь, я не силен по этой части… всегда отдаю приоритет мозговым мышцам, если позволите так выразиться… – Седобородый говорил не спеша, пожалуй, даже лениво, точно выполнял нужную, но неинтересную работу. Во всяком случае, так могло показаться человеку неискушенному. Увы, мой журналистский опыт тысячи раз убеждал, что за этим кроется хитрость, если не подлость или зловещее коварство.
Седобородый предоставил мне редкую возможность молчать и наблюдать, наблюдать и слушать, скорее даже как бы вслушиваться во внутренний голос говорившего, что давал наблюдателю больше, чем хотелось хозяину слов. А в моем положении, когда я не только не догадывался о целях и планах моих похитителей, но и не представлял, как далеко они готовы пойти в своих намерениях, всякий намек на информацию был бесценен. Что касается намерений, то мне было яснее ясного, что многое, если не целиком, зависит от уровня их знаний о моей информированности в деле, которое явно задело за живое. Иначе, сами посудите, за здорово живешь похищать журналиста, да еще иностранца, за которого немедленно вступятся коллеги в разных уголках земли независимо от политических, религиозных, социальных и прочих различий, существующих в нашем разделенном границами и предубеждениями мире.
Но пока ни седобородый Питер, как он представился тогда, перед дракой, если, конечно, можно называть дракой почти беспрепятственное избиение двумя бронеподростками, как еще во времена моего увлечения спортом мы окрестили носителей безупречных мышечных масс, одного – пусть не хиляка, но отнюдь не Геркулеса, да к тому же однорукого. Нет, конечно, рук у меня было две, но тот хук снизу, на который напоролся Келли, закончился секундным триумфом и сломанными, как оказалось позже, двумя пальцами. Келли же, оклемавшись, молотил от души, а я не мог даже защищаться…
Я не догадывался, в чем они осведомлены, и потому старался максимально использовать дарованную мне передышку и с упоением слушал болтовню Питера. Ведь чтоб догадаться, что тот просто убивает время, не нужно было быть семи пядей во лбу.
– Я понимаю ваши чувства, мистер Романько, но поверьте, у нас не оставалось выбора – такие, как вы не покупаются. Не правда ли? Ведь вы, коммунисты, вроде членов секты стоиков, гордитесь вашей непреклонностью и железной выдержкой. Да если по-честному, то и времени у нас в обрез: ваша командировка – каких-то два дня, футбольный матч, репортаж по телефону, и тю-тю домой, даже некогда заглянуть в галерею Тейт, скажем, или в Британский музей. Можно ли тут спокойно беседовать, а тем паче полюбовно договориться, как джентльмен с джентльменом? А в том, что вы человек серьезный, не меня убеждать: я досконально проштудировал досье, и ваша биография, мистер Романько, тому свидетельство. Вот и довелось прибегнуть к методам, кои лично я не одобряю, ибо убежден: лучше договориться миром, чем идти на конфронтацию. Ведь во втором случае, согласитесь, издержки могут стать необратимыми…
Он говорил и говорил, но теперь это уже и отдаленно не напоминало пустую болтовню. Питер (честно говоря, я не был уверен тогда, что это и есть его настоящее имя, значительно позже убедился – действительно Питер, Питер Скарлборо, руководитель и идейный вдохновитель… впрочем, у меня еще будет повод рассказать о нем подробнее, этот тип заслуживает того) подходил к сути. Куда и подевалась его вальяжность: водопад иссяк – каждое слово на вес золота. Внимательнее, внимательнее, старина, ты не имеешь права ошибаться!
– Да, да, издержки могут быть, увы, необратимыми и печальными. – Он сделал паузу и, не поднимая на меня глаз, аккуратно обрезал кубинскую сигару, извлеченную тонкими холеными пальцами с чистыми, покрытыми бесцветным лаком ногтями из деревянной, отделанной старинным серебряным плетением шкатулки. Я невольно залюбовался и пальцами, и шкатулкой: было что-то в них притягивающее, вызывающее, отлично характеризующее и владельца этих холеных рук, и его ухоженный, избавленный от ненужных раздражителей мир. «Нам так не жить!» – вспомнил я любимую приговорку одного моего киевского знакомца, непременно произносившего ее, случись ему попасть в заграничные условия престижного пресс-центра или, на худой конец, в умопомрачительный для простого советского человека супермаркет, набитый, как старинный бабушкин сундук, разной всячиной до самого потолка. «Нам так не жить…» – невольно улыбнувшись, услышал я свой внутренний голос.
Питер уловил движение моих губ и расценил это по-своему (лишний повод убедиться в дьявольской наблюдательности этого человека).
– Вот видите, мистер Романько, вы вовсе не похожи на истукана, с которым невозможно найти общего языка, – мягко изрек он, укладывая сигару во рту, а затем, поправив ее языком, взял со столика массивную позолоченную зажигалку с изящной Никой самофракийской на крышке, откинул ногтем крышку и нажал рычажок. Белое высокое пламя стрельнуло вверх, почти коснувшись его подбородка, но Питер даже не шевельнулся, а уверенно по-хозяйски поднес струю пламени к самому кончику сигары и легко затянулся. Сигара ответила на прикосновение огня красным венчиком и сизым дымом, выпущенным Питером.
– Вы – умный человек, мистер Романько. Я уважаю умных людей, ибо именно они правят миром и движут его.
Я молчал.
Это, однако, не смутило Питера Скарлборо. По-видимому, время серьезных слов еще не наступило.
– Если уж откровенно (можно подумать, что я приглашал его к откровенности или вообще навязывался на эту беседу!), то я не придал значения вашей встрече с Майклом Дивером в Кобе. Я надеюсь, вы помните ту непринужденную беседу в ресторанчике в холле велотрека? Промахнулись мои ребята там, нужно признать это. Мы упустили время, перестали контролировать ход событий… но затем, слава богу, сумели овладеть ситуацией. Теперь от вас зависит, как быстро мы завершим дело, сделку, если хотите…
«Сделку?» – Последние слова Питера приоткрыли мне завесу тайны, под покровы которой я стремился проникнуть с той самой минуты, когда понял, что угодил в ловушку, ловко расставленную на, казалось бы, совершенно прямой и ровной дороге, «Значит, они не знают истинного положения вещей?»
Питер точно читал мои мысли:
– Да, мистер Романько, я предлагаю вам сделку, потому что, к сожалению, вы обладаете тем, что нужно мне, но зато я… обладаю вами, что значительно усложняет ваше и упрощает мое положение, не так ли?
Я молчал. Я еще не знал до конца, чем же, кроме моей скромной персоны, владеет сейчас этот утонченный аристократ, так снисходительно беседовавший со своим пленником.
– Не торопитесь, дайте успокоиться волнам, кои все еще колобродят в вашей душе, вызывая смятение и растерянность, рождая то надежду, то ужас безысходности. – Питер Скарлборо напоминал приходского священника – сама доброта и смирение. – Посудите, что толку в информированности, если вы никак, ни при каких условиях – упаси вас бог усомниться в этом! – не сможете воспользоваться вашей, то есть, простите, нашей информацией? Вещь в себе, не более. Вы, полагаю, отдаете себе отчет, что сможете выйти отсюда лишь в обмен на те несколько листков бумаги или… или не выйти никогда. Вы исчезнете, растворитесь, перестанете быть думающей и страдающей личностью. Увы, жизнь человека в нашем бренном мире ценна лишь до тех пор, пока он дышит…
«Что и говорить, иллюзии относительно собственной дальнейшей судьбы рассеялись в первый же миг схватки, когда я усвоил истину, что назад пути нет. Но ведь мы пока говорим на равных, не так ли, мистер Скарлборо?» – подумал я.
– На равных мы будем говорить лишь до той минуты, когда я пойму, что мистер Романько дурачит нас. – Этот седобородый действительно проникал в мои мысли, точно читал открытую книгу!
– Не понимаю, о чем речь! – Это, считай, были первые слова, услышанные им от меня.
Дверь тут же распахнулась – и в проеме застыл Келли. Гора мышц в мире, где, как утверждал Питер Скарлборо, правит разум…
Я поднялся из мягкого кресла, где так безмятежно отдыхал. Меня качнуло из стороны в сторону, но я пошире расставил ноги, что твой моряк на качающейся палубе корабля. «Рановато объявился этот тип, еще бы пару часиков, и я оклемался бы окончательно, – подумал я с разочарованием. – Ну, да что поделаешь…»
Келли выглядел агнцем, не подавая никаких признаков агрессивности, и я попался. Он ударил молниеносно, едва оказался на расстоянии вытянутой руки.
И я снова отключился…
3
В аэропорту Хитроу, в тесном квадратном залике, задавленном низким потолком, двигалась разноязыкая, разноцветная толпа. Миновав незримую черту иммиграционной службы, она растекалась по узким проходам, бурлила у баров и крошечных прилавков с сувенирами и газетами, передвигала кресла и легкие столики на металлических ножках, оставляя их посреди дороги искусственными островками; замедляла свой бег у световых табло, где мелькали, сменяясь поминутно, номера рейсов и названия пунктов назначения – Москва и Бейрут, Дели и Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Неаполь… Два длинноволосых итальянца, опасно размахивая полными кружками пива, бешено спорили, стараясь перекричать друг друга. Иссохший коричневый индус в роскошной белой чалме тенью скользил меж людьми и легкими движениями сухих рук убирал в холщовый мешок, укрепленный на двух колесиках, пустые банки из-под кока-колы, стаканы с наплесками соков, высокие бокалы с фирменными знаками «ВЕА» и «БОАС», поспешно брошенные в самых неожиданных местах: под столиками, на газетных прилавках и даже на панели у стеклянной будочки диктора.
Я без задержек прошел пограничный и таможенный контроль и вздохнул свободно, как человек, главные заботы которого остались позади. А разве нет? Буквально до последней минуты не было решения инстанций, как говорят на официальном языке: кто-то там в большом Белом доме на Банковой до предела держал выездные документы в сейфе, но, наконец, словно отрывая от самого себя, разрешил мою командировку за рубеж. В какой уж раз так!
Потому-то, получив подтверждающий звонок, что решение есть, я кинулся за билетом. Из Москвы мне дали знать, что самолеты Аэрофлота в Лондон не летают по причине забастовки диспетчеров, но можно устроить рейс через Париж или Амстердам – то есть долететь до Парижа или Амстердама, а уж там на месте пробиваться на самолет до английской столицы. Скажут же – пробиваться! Это ведь не наш, аэрофлотовский мир, когда в кассах билетов нет вперед на месяц, а в салонах пустует едва ли не половина мест. Там ты бронируешь место на самолет или на самолеты – может, тебе вздумалось облететь за сутки весь шарик! – и ты уверен, что никто его не займет.
В конце концов довелось прокладывать маршрут через Хельсинки и сидеть в аэропорту шесть часов, дожидаясь окончания лондонской забастовки. Слава богу, в финской столице диспетчеры работали исправно, и в баре было практически пусто, потому что задерживался один-единственный рейс – на Лондон, да и на него, судя по тому, с какой легкостью и радостью мне предложили место на выбор в первом или эконом классе, пассажиров негусто. Я, естественно, выбрал эконом-класс – он, во-первых, демократичнее, а во-вторых, больше соответствует нашим скромным командировочным.
В баре – хоть шаром покати. Я попросил банку пива «Кофф» и, отказавшись от бокала, протянутого барменом, устроился в глухом углу за пальмой так, чтобы видеть экран телевизора. Пиво было холодным и резким, и вскоре заботы и треволнения окончательно отступили. Теперь уж, без сомнения, я попаду в Англию, на матч, а значит, и увижу Майкла Дивера. Встречи с ним я ждал с нетерпением, с того самого дня, когда мы расстались в Кобе. Это нетерпение передалось и Сержу Казанкини, моему доброму ангелу из Франс Пресс. Он, набычившись, мрачно напомнил: «Ты ведь не забудешь Сержа, мы ведь с тобой не конкуренты?» На что я легковесно бросил, все еще пребывая в эйфории обещанных мне документов, кои, как я догадался по отдельным словам Майкла, позволят вплотную приступить к разоблачениям, что многократным эхом отзовутся в большом спортивном мире: «Серж, ну какие мы с тобой конкуренты!»
Это было в 1985-м в типично японском городе, в Кобе. Серж Казанкини обещал удивить меня сюрпризом.
Сюрпризом оказался высокий худощавый человек с прямыми широкими плечами, выдававшими в нем в прошлом спортсмена. Незнакомцу было лет 45, никак не меньше, но выглядел он моложаво, и если б не седые виски, вряд ли бы дал ему больше сорока… Он был в шортах, в белой тайгеровской майке и резиновых японских гэта на босу ногу. Перед ним на столике стояла чашечка кофе, рюмка с коньяком и стакан воды с кусочками белого льда.
Он поднялся, когда мы направились к нему, открытая улыбка высветила ровные, как у голливудской кинозвезды, белые зубы, глаза смотрели прямо, приветливо. Я подумал, что он похож на типичного американца, и не ошибся.
– Майкл Дивер, – представился он.
– Олег Романько.
Он с силой пожал мою руку.
– Наверное, я видел вас в Мехико-сити, на Играх, – сказал он. – Я не пропустил ни одного финала по плаванию. Был там в составе американской делегации, помощником олимпийского атташе. К тому же сам – бывший пловец, правда, до Олимпиады мне добраться не посчастливилось. – Я догадался, что Серж успел дать мне исчерпывающую характеристику и таким образом упростил ритуал знакомства. – Что будете пить? Виски, коньяк?
– Спасибо. Сержу, насколько я в курсе дел, коньяк надоел еще во Франции, потому ему – виски. Мне – баночку пива.
– О'кей. И кофе!
– Мистер Казанкини много рассказывал мне о вас, – сказал Майкл Дивер и сделал легкий наклон головы в сторону Сержа. – У нас с вами, мистер Романько, есть общая тема – Олимпийские игры, олимпизм и все, что связано с «олимпийской семьей». Поэтому я согласился с предложением…
– …просьбой, – уточнил Казанкини.
– …просьбой мистера Казанкини, – поправился американец, – рассказать вам о некоторых аспектах современного олимпийского движения, я так думаю, вам малоизвестных. Нет-нет, я никоим образом не намерен умалить ваш опыт, но, поверьте, об этих делах знают или догадываются немногие…
– Я весь внимание, Майкл. Вы позволите называть вас так… запросто?
– Буду вам признателен. Итак, речь идет о существующем заговоре против олимпизма. Олимпизма в том изначальном смысле, коий был заложен в него древними греками и возрожден Пьером де Кубертеном. Я в Мехико представлял не НОК США, хотя и работал под его крышей, а Центральное разведывательное управление, и задачи передо мной ставились несколько в иной плоскости, чем ставят тренеры перед спортсменами. Хотя было и кое-что общее: они хотели выигрывать золотые медали, я же стремился кое-что выиграть в политической игре. Преуспел ли я там, не мне судить. Но мое начальство достаточно высоко оценило мои труды… Увы, я подвел ожидания и сошел с их корабля…
– Как это следует понимать, Майкл?
– В прямом смысле. Сразу после Игр в Мехико я отправился не в Вашингтон, а сел в порту Веракрус на корабль и… с тех пор путешествую по миру. Я собираю свидетельства и свидетелей, чтобы подтвердить мое заявление о существующем заговоре против Игр. Я неоднократно выступал с разоблачениями усилий, предпринимаемыми в этом направлении некоторыми странами, слишком близко к сердцу принимающими поражения своих спортсменов от русских, от восточных немцев и других. В первую очередь, это исходит от влиятельных кругов моей страны…
– Мне попадались некоторые ваши статьи, Майкл, и я рад познакомиться с их автором. Я могу записать интервью с вами?
– Увы, я не готов для серьезной беседы. Я здесь проездом, а рукопись своей новой книги, как и документы, добытые мной в последнее время, особенно после Игр в Лос-Анджелесе, храню, как всякий уважающий себя американец, в банке… В одной нейтральной стране, так скажем… Я готов буду поделиться с вами некоторой информацией или даже дать вам экземпляр рукописи – публикация в вашей прессе, право же, будет стоящей рекламой. Месяца через два, о'кей?
– Мне не выбирать, Майкл. Через два месяца, так через два месяца… Как это организовать?
– Вы не собираетесь быть в Европе?
– Возможно, в конце ноября в Лондоне, если наш футбольный клуб выйдет в одну восьмую Кубка Кубков…
– Вы мне тогда дайте знать! Вот по этому адресу и на это имя. – Майкл Дивер быстрым, красивым четким почерком написал несколько слов на листке в блокноте, вырвал и отдал его мне. – Я буду неподалеку, в Париже, и смогу прилететь на денек в Лондон. К тому времени с легкой руки и с помощью мистера Казанкини моя книга уже будет, как говорится, испечена…
– А, понимаю, беседа со мной – дань мистеру Казанкини.
– В определенной степени. Хотя такая встреча полезна и для меня. Моя цель – привлечь как можно более широкое внимание мировой общественности к опасности, нависшей над Играми. Ведь теперь объединились самые черные силы – политика, бизнесмены и мафия. Мне страшно даже подумать, что они способны натворить с этим едва ль не самым прекрасным в это критическое время творением человечества! Допинги, наркотики, подкуп спортсменов…
– Жаль, что мы не можем сейчас побеседовать на эту тему.
– Я привык подкреплять свои слова документами. Я это сделаю, обещаю вам. Кое о чем вы сможете рассказать первым, потому что даже я не решусь обнародовать некоторые факты… Только у вас в стране, которая является гарантом чистоты Игр, ее традиций и идей, это возможно! – с пафосом закончил Майкл Дивер.
Я молча кивнул головой в знак согласия, а про себя подумал, что, увы, многое из того, что отравляет большой спорт на Западе, быстрыми темпами проникает и в наш отечественный спорт. Но разочаровывать Майкла Дивера не хотел…
Когда я попал им «под колпак», затрудняюсь сказать. Возможно, уже в Хельсинки, но, вероятнее всего, они вычислили гостиницу, забронированную для меня из Москвы, хотя найти приезжего в десятимиллионном Лондоне – с его сотнями отелей, больших и малых, среди миллионной толпы гостей, съезжающихся и слетающихся со всех пяти континентов, – даже в местных условиях непросто. И то обстоятельство, как безошибочно они вышли на меня, словно их человек контролировал мои передвижения, начиная с Брест-Литовского, то бишь проспекта Победы, от низкорослого и безнадежно устаревшего здания «Радянськой Украины», где на шестом этаже, окнами на злосчастные трубы «Большевика», располагался мой кабинет, наталкивало на мысль, что я оказался, вольно или невольно, владельцем тайны, которую они стремились заполучить во что бы то ни стало.
Я не наивный юнец, чье прекраснодушное и чистое отношение к спорту накануне Олимпиады в Монреале послужило толчком, заставившим меня здраво, без иллюзий, вглядеться в явление, известное ныне под названием «Большой Спорт». В мои годы, то есть тогда, когда я сам выходил на старт, побеждал или терпел жесточайшие поражения, но не распускал нюни, а наоборот – сцепив зубы, таранил и таранил непокорную жесткую воду в бесчисленных бассейнах Киева, Москвы, Ташкента и Ленинграда, Львова и Днепропетровска, и еще везде, где были 25– или 50-метровые ванны, наполненные то теплой, то холодной водой, с этим было проще и понятнее. Мы получали госстипендии, а за них расплачивались здоровьем, легковесными дипломами об окончании вузов, семейными неудачами и алиментами, больным самолюбием и неприспособленностью к повседневным заботам, кои обваливались на нас, едва мы покидали спорт. Что и говорить, не всем повезло, кое-кто так и остался навсегда в тех звездных мгновениях удач, и вот уже нет-нет, да прилетит черная весточка о человеке, с коим ты прожил бок о бок годы, лучшие годы, и ты, ворочаясь без сна, слышишь его угасшее дыхание, видишь лицо, глаза, губы, но слов нет и быть не может, потому что ты не спишь, а грезишь наяву. А это только во сне мы разговариваем и слышим друг друга…
Если не кривить душой, то следует сказать, что история с Виктором Добротвором [1]1
Тех, кто заинтересуется этим, отсылаю к книге «Из загранкомандировки не возвратился», Киев, «Молодь», 1987. – Авт.
[Закрыть], о которой вы наверняка слышали, о ней много писалось, по ТВ показывали документальный фильм о процессе над теми, кто убил Виктора и кто пытался сплести лапти и мне, Олегу Романько, бывшему олимпийцу, рекордсмену и чемпиону, как говорится, а ныне репортеру «Рабочей газеты», не напугала меня, нет. Просто я пообещал Наташке «умерить пыл» и не забывать, что главное мое дело – писать репортажи с футбольных матчей или хоккейных чемпионатов, Олимпийских игр, брать интервью у победителей, рассказывать читателям, почему в Штатах, где, как известно, царит капитализм, то есть человеконенавистнический строй, и в подметки нашему передовому, социалистическому, человеколюбивому не годится, массовая физкультура существует на деле, а не в бравых отчетах спортивных функционеров, придумавших липовое ГТО и теплые местечки для себя да своих «номенклатурных» протеже. За сии откровения меня не раз и не два серьезно предупреждали, правда, сначала по-отечески. Потом, когда я не принял правила их игры, попытались забрать партбилет, которым я дорожил и до сих пор дорожу. Эта затея им почти удалась, и организаторы психологического марафона уже потирали руки, тем паче что одному из них еще в самом начале я без обиняков выложил свое мнение о том, что таких, как он, следовало расстреливать еще в 1956 году, когда начали раскручивать сталинские дела. Он тогда, помнится, озверел, и мое персональное дело превратил в дело собственной чести. Ну, не мне вам рассказывать, на что способен гомо сапиенс, когда дело касается его неприкосновенной личности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?