Текст книги "Путеводитель по театру и его задворкам"
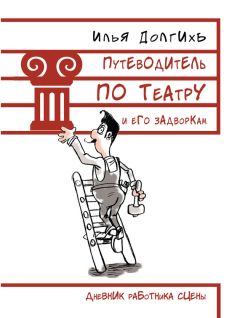
Автор книги: Илья Долгихъ
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
9
В ту зиму мы готовили несколько спектаклей одновременно. Я знакомился с другими работниками, общался, запоминал имена. Моя привычная хандра чаще отпускала меня, за работой не так просто было следить еще и за своими душевными переживаниями. Держась в стороне, я все же начал поддерживать отношения с теми людьми, с которыми имел более частый контакт. Все люди кажутся хорошими, пока не узнаешь их ближе, и иногда не стоит этого делать, чтобы не так сильно разочаровываться в дальнейшем.
Мы вырезали силуэты деревьев из тонкого пластика по трафарету. Работать нам было негде. В нашем цеху нас не переносили, так как мы использовали неприятно пахнущие материалы или издавали слишком много шума, когда сверлили или резали металл. Иногда просто не было места, весь пол занимали тканями, и нам приходилось искать его в других помещениях. На этот раз, расположившись в одном из цехов на бетонном полу, в том месте, где хранятся декорации, а точнее, в узком проходе между ними и почти в темноте, так как высота потолков была здесь метров 9 и, как сказал мне Борис, никто просто не хочет лезть так высоко, чтобы заменить лампочки в месте, которое не используется для работы, мы и ползали на четвереньках по разложенным листам пластика и трафаретам и вырезали канцелярскими ножами эти самые деревья.
В то время Борис, а позже и я по его совету, увлекался фильмом «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна и часто цитировал фразы из этого фильма, а порой и целые диалоги, меняя их несколько на свой лад, добавляя к ним некоторое количество нецензурных выражений, отчего цитаты эти, и без того смешные, в его интерпретации приобретали уж совсем причудливую окраску. От этих его экспериментов в области сочетания литературных жанров я просто катался по полу. Этот истерический смех по большей части и помогал нам сохранить самообладание в тех непростых условиях, в которых мы оказались тогда. Работы было не просто много, она шла безостановочно, одно за другим, и во время выполнения чего-либо могла возникнуть необходимость бросить все и нестись делать еще что-то.
Я был так ошеломлен этим рабочим ритмом, что не пытался ничего анализировать, а плыл по волнам неуемной энергии людей, которые и являлись этим океаном силы и выносливости.
* * *
Приказы по рации сыпались постоянно, не успевая ничего сделать с одним делом, мы бежали перетаскивать мотки тканей и разворачивать их, бросив это, мы разматывали пленку, как только мы возвращались к изначальному делу, вдруг приходила машина, и мы бежали во двор, не успев переодеться, и там, по щиколотку в снегу в мокрой обуви выгружали пластиковые листы, закрученные в большой тяжелый тубус, обмотанный скотчем, который нам тут же приходилось разматывать и, отмеряя рулеткой, нарезать на листы. Руки мерзли так, что невозможно было держать нож, а обувь промокала так сильно, что остаток дня приходилось ходить в мокрых кедах. Этот поток дел порой так затягивался, что за целый день мы не могли выполнить ничего из того, что нужно было сделать по основной работе, и, бывало, что по несколько дней мы работали без результата.
Потом, наконец, мне и одному моему недавно устроившемуся на работу знакомому было поручено нарезать полый резиновый канат из больших мотков на отрезки различной длины. Мы работали несколько недель в той части театра, где было свободное место и почти никто не ходил. За нами закрепили эту работу, и мы занимались только ею, иногда нам давали помощников из бывших в то время на практике студентов или наших ребят из бригады. Метод заключалась в следующем: изначально это были мотки с резиновым полым эластичным шнуром, который, разматывая, нужно было нарезать на куски определенной длины и раскладывать их по специально сшитым для них чехлам. Длина у них была разная. Сначала мы принялись за 20-метровые, потом следовали 16– и 14-метровые канаты. В этих чехлах уже нарезанных канатов тоже должно было быть разное количество, сейчас точно я уже не смогу сказать, сколько каких, но счет начинался от 120 и постепенно уменьшался, закончили мы вроде бы на 67. Сам диаметр этого каната был трех видов, и это тоже нужно было учитывать.
Чудное было зрелище, когда мы всей бригадой из подвального этажа, надев на каждую руку по два мотка, переносили их к месту работы. Каждый из мотков весил килограммов по 5–7, и они часто падали во время переноски, и, имея на руках уже три таких же, было сложно поднять упавший, а снимать те, что были надеты, очень не хотелось. Эту процедуру мы проделывали в день раз по 5, стараясь как можно больше принести за один раз, чтобы поменьше ходить, уставали мы сильно. Мы пробовали использовать тележку, но иногда на подъемах и спусках, которые сопровождали нас по дороге, мотки соскальзывали и валились друг за другом на пол.
Технологию отрезания придумывали на ходу. Сошлись в итоге на том, что один сидит и разматывает моток, а второй берет один конец этой трубки и идет на противоположный край чехла, где уже стояла заранее нарисованная метка, по которой мы отмеряли длину. Мотки часто запутывались, смотаны они были весьма странным образом, и одно неверное движение или резкий рывок могли привести к остановке в работе минут на 15–20, и это было немало, учитывая сроки, поджимающие нас.
Самое нелепое и смешное начиналось, когда нам необходимо было поднять уже готовые чехлы, набитые нарезанными канатами, на несколько этажей вверх. Технология тоже появилась неожиданно. Мы становились в линию из четырех человек, а справа и слева от нас лежало по одному чехлу, затем каждый поднимал на свое плечо ту часть чехла, что лежала около него. В итоге мы закидывали по чехлу на каждое плечо и вчетвером, нестройной колонной, шли к лифту, пошатываясь и с трудом сохраняя равновесие под тяжестью ноши. В лифт, в котором с трудом помещается 4 человека, мы с нашими чехлами по 20 метров длиной с разбега вносили все это общее тело и вповалку, кто на ком, пытались нажать на кнопку лифта. Это было похоже на своеобразную гусеницу из людей.
Записки из дневника:
18 ноября 2012 г.
Утро.
Сегодня холодно. Приехал в театр и, переодевшись, не дожидаясь своего напарника, спустился вниз, продолжать резать канаты. В холле тоже холодно, как мог в одиночку расстелил чехол и приготовил несколько мотков.
В высокие витражные окна мне виден дом напротив, он равнодушно смотрит на меня пустыми темными глазницами окон, напоминая мне дома Петербурга, когда я, сжавшись от холодного ветра, шел в неизвестность, а в голове моей мелькала только одна мысль, что все уже кончено и никогда не будет прежним. И вот теперь и этот дом взирает на мое поражение и также беззвучно смеется надо мной, зная, что в этой новой тюрьме я застрял надолго.
Я включаю в плеере «Rammstein» на полную громкость и не чувствую силы звука, наполняюсь ненавистью к самому себе и начинаю работать. Медленно проходя от одного края к другому, с пустой головой и отупевшим взглядом я создаю искусство…
Не могу вспомнить, как долго мы нарезали эти резиновые канаты, но как только мы закончили с ними, началась полнейшая вакханалия, в которой уже трудно было что-либо разобрать. Бесконечно мы переносили какие-то вещи с одного этажа на другой, помогали всем, кто в этом нуждался, брались за дело и бросали его, как только появлялось новое, все как обычно, но в таком диком напряжении, что любая мелочь могла привести к эмоциональному взрыву любого из нас, концентрация эмоций была такой, что от нас буквально шел фон негатива.
Другие спектакли, которые параллельно готовились для другой сцены, были для нас не менее тяжелы, чем основной. В одном из них, самом непростом, основную часть декораций составлял съемный пол, который состоял из 78 листов, подгонявшихся друг к другу уже на месте непосредственного сбора. Листы были разного размера, но в основной своей массе размер их был около 3–4 квадратных метров. Весили они килограммов 30 каждый, и нам пришлось переносить их по всему театру вручную. Где была возможность, мы, конечно, использовали лифт, но вот после того, как весь пол собрали и одобрили, его пришлось снова разбирать и нести уже в другой корпус, в лифт которого не вошел уже ни один из листов, и нам ничего не оставалось, как носить их по одному на руках пешком несколько этажей вниз и далее еще часть пути в очень неудобном положении, водрузив каждый лист на телегу, с которой они с завидной регулярностью соскакивали, грозя повредить ноги, везти их в другой конец театра, чтобы вновь там собрать. Кроме этого, в спектакле был использован большой деревянный шкаф, внешний вид которого никак не могли подогнать под требования художника, и мы раз десять носили его на себе, вчетвером с трудом поднимая, на улицу, где один из наших коллег пытался сделать его настолько старым, чтобы это могло понравиться художнику. Прекрасно помню, как в плохо освещенном дворе театра, по колено в снегу, с фонариком на груди и со шлифовальной машинкой он шкурил этот шкаф. Потом мы уносили его обратно, ставили на место и через несколько минут опять несли на улицу доводить до ума.
В конце концов, Борис не выдержал и после бесчисленного количества раз, снова принеся этот шкаф на сцену и устанавливая его, мы по ошибке повернули его дверями к кулисе. От усталости уже никто ничего не соображал, и вот тут его прорвало. Он заорал благим матом, проклиная все на свете и этот шкаф в том числе. На сцене готовилась репетиция, и актеры уже пришли, и некоторые из наших начальников тоже были здесь. Я думал, что его уволят, но, как выяснилось позже, это было здесь в порядке вещей. Я тогда еще не слышал, как нимало не стесняясь, здесь орет матом на своих подчиненных даже высокопоставленное начальство.
* * *
Основной спектакль по-прежнему не давал никакого отдыха. Вслед за мотками с резиновыми канатами появилось огромное количество металлических рам, которые мы беспрестанно красили; затем алюминиевые двери, числом около 30, которые мы разместили на полу в одном из цехов. Они лежали мертвыми, вынесенными на берег лодками, перегородив практически все пространство. Это даже не двери, просто описать их точно мне затруднительно, это были прямоугольники, метра по 2,5–3 в высоту и в ширину около метра, что придавало им сходство с лодкой, особенно когда внутри них сидели мы и обклеивали их цветными картонками. В то время наша бригада и почти весь состав еще одного цеха работали вместе.
* * *
Я посмотрел на часы, было 15 минут первого, до метро идти не очень далеко, и мы вполне успевали расплатиться и спокойно дойти до станции.
– Слушай, а нам не пора ехать? – спросил я М.
– Ну-у, пора, конечно, но мне бы не хотелось прерывать тебя на половине рассказа, в следующий раз, быть может, ты уже и не захочешь исповедоваться мне, да и неизвестно, когда мы сможем опять увидеться.
К тому времени я уже изрядно устал. Я и без того очень мало сплю, а бодрствовать всю ночь, пусть и со стимулирующим средством, которым для меня всегда являлся алкоголь, мне не очень-то хотелось. Я прикинул, что завтра с утра мне на работу, бессонная ночь грозит обернуться сверлящей головной болью на целый день, ломотой в костях и повышенной раздражительностью, и решил, что лучше поехать домой и поспать хоть пару часов.
– Лучше нам поехать, – сказал я после небольшой паузы, – вставать рано, а сон у меня в последнее время неважный.
– Подожди, а до которого часа они работают? – вдруг спросила М.
– Черт его знает, может быть, и круглосуточно, – без особого энтузиазма ответил я.
Она позвала официанта, уже совсем поникшего от работы, и он подтвердил ей мою догадку – ресторан работал до 6 утра.
– Ты же сможешь остаться и утром уехать на работу?
– Я смогу дойти до нее пешком, – с неохотой выдавливая из себя улыбку, сказал я, – отсюда мне до нее минут 20, не больше.
Она поняла, что я сдался, и что мне придется продолжить свой рассказ. Сон опять откладывался на неопределенное время. Скрепя сердце я допил оставшийся у меня бурбон, поморщившись от его мерзкого вкуса. Мне нужно было взбодриться.
* * *
– Черт, ну ладно, – сказал я, – раз уж мы остаемся, то придется еще выпить, по крайней мере, мне, а ты как хочешь.
– Ну и я не откажусь.
– Хорошо, но теперь я сам выберу тебе что-нибудь. Доверься бывшему бармену, – улыбнувшись, сказал я и пошел к стойке.
Пока я ждал свой заказ, у меня возникло желание выкурить сигарету на свежем ночном воздухе. Расплатившись и попросив отнести напитки за наш столик, я вышел на улицу. Ночь встретила меня свежим холодным ветром, пробирающим до костей, но мне это и было нужно сейчас. Я закурил и, засунув руки в карманы брюк, посмотрел в звездное небо, так низко нависшее над столицей. Я вдыхал ледяной весенний воздух, перемешанный с сигаретным дымом, и улыбался, глядя небу в глаза. Некуда было спешить, работа отодвинулась в моих мыслях куда-то совсем далеко, я вспомнил, что скоро лето и сессия, а это целый месяц, когда я смогу полностью сосредоточиться на том, что для меня действительно важно, и не буду видеть этот бесцветный калейдоскоп скучных серых лиц. Я курил и наслаждался моментом, мне нравилось стоять здесь, быть собой, немного пьяным, немного наивным и смешным. Нравилось ощущать себя свободным, вступившим в какой-то новый отрезок жизни, который я только-только начинал осознавать, не понимая пока, но только чувствуя. Возможно, это был возраст зрелости, но если верить Сартру и его «Дорогам свободы», то для меня этот возраст еще не наступил. Возможно, это его первые звоночки, первые попытки заявить о себе, заставить меня задуматься. Но и это было мне приятно. Я вспомнил о том, что у меня стали появляться седые волосы, и улыбнулся. Сигарета догорела, я бросил ее на асфальт и еще раз вдохнул ночь полной грудью.
Записки из дневника:
26 апреля 20..г.
Нервный срыв.
Работа иногда становится невыносима. Сегодня у меня чуть не случилось нервного срыва. Я решительно не понимаю, как можно столько лет работать здесь и считать это нормальным. Десять, пятнадцать, тридцать, кто больше?! Целые жизни проходят здесь уныло и безрадостно. Одни и те же разговоры на протяжении всех этих лет, с одними и теми же людьми.
В моей голове это просто не укладывается.
Эти люди бывают хорошими только тогда, когда говорят о своих внуках, детях или домашних животных, все остальное время за их добродушными улыбками скрыт животный оскал. Мне хочется кричать, когда я слышу, о чем они говорят. Я стараюсь уйти подальше от этих слов, этих интонаций, этих лиц, которые считают себя ни много ни мало – истиной в последней инстанции, какие бы вопросы не обсуждали.
Сегодня днем я, не выдержав очередной хвалебной песни, воспевающей «нормальный» уклад жизни, поднялся на второй этаж, с которого, впрочем, можно прекрасно видеть все то, что творится внизу. Я углубился в чтение, чтобы немного забыться, но, отвлекшись на минутку, я увидел, как шесть женщин сидят на стульях в ряд и проделывают одинаковую работу с каким-то материалом. Все происходило в гнетущем молчании, десять пар рук монотонно перебирали, отрезали, оттаскивали и снова повторяли всю процедуру. Несколько минут я с ужасом наблюдал эту картину, все это было похоже на кино, за тем лишь исключением, что это и есть настоящая жизнь. Мне было странно, что никто здесь не сходит с ума, не кричит, не плачет или, наоборот, не замыкается в себе, забившись в самый дальний угол. Это очень хорошо вписалось бы в общую канву атмосферы обреченности, которая царствует здесь и днем и ночью. Мне стало ужасно тяжело наблюдать за этими покорно склоненными головами, руками, повторяющими однообразные движения.
Для людей, которые попали в сети подобных мест, нет выхода. Собственная страна загоняет нас в угол с унизительно маленькими зарплатами, которые дают нам возможность лишь не умереть с голоду, но на нечто большее рассчитывать уже не приходится. Нехотя соглашаясь с системой, мы вынуждены отдавать свою жизнь, энергию и здоровье, а взамен, получать унизительный и тяжелый труд, который не приносит никакого морального удовлетворения, вынуждены сносить хамство и непроходимую тупость руководителей, о несправедливости которых можно говорить бесконечно долго, греясь у железной бочки с горящим в ней огнем, но никаких действий уже, конечно, не предпринимать, всякое инакомыслие имеет здесь весьма плачевные последствия для его выразителей.
Маленькие царьки со времен Грибоедова так и остались на своих местах и чувствуют себя там не менее уверенно, нежели раньше.
10
Железные лодки были вывезены из нашего цеха могучей армией монтировщиков, и теперь почти вся территория была покрыта белым покрывалом из синтепона или схожего с ним материала. Эти белые сугробы – полосы по 20 метров длиной и по 4 метра в ширину – были сшиты как мешки и набиты обычной полиэтиленовой пленкой, которую мы мяли, чтобы создать больший объем внутри этих белых полос.
Замечательно смотрелись наши женщины, когда они в короткие минуты отдыха, развалившись, лежали на этом сплошном белом покрывале. Издали они напоминали морских котиков, лежащих на огромной льдине, мчащейся в неизвестность. Приложенный ими титанический труд при создании этого айсберга был затрачен впустую, потому как вся эта изначальная пышность утратила свое великолепие практически сразу. Изначальная задумка, что плотно скомканная пленка будет сохранять объемную форму, провалилась, как только работа была закончена. Она усела после первой же транспортировки, и восстановить изначальный объем уже не получалось, как мы все ни старались. Несколько раз приходилось вспарывать синтепоновые полосы и «взбивать» пленку, находившуюся в них, но это было уже бесполезно, она тут же превращалась в плоский блин.
Такая практика, когда труд затрачивается впустую, очень часто встречается в нашей работе. Я думаю, что эта проблема всесторонне распространена в наших широтах и процветает всюду, где сталкиваются люди разных возрастов, опыта и образования. Все испытывается буквально на месте, метод проб и ошибок, в основном, ошибок, применяется ежедневно. Насколько бы меньше можно было затратить сил, времени и материалов, если бы люди, отвечающие за выбор той или иной технологии при выполнении заданий, более ответственно подходили к этим вопросам, и переживали бы не только о себе и о том, что они могут лишиться премии, но и о работниках, которые будут выполнять это задание, выполнять и переделывать по несколько раз, потому что выбранный механизм выполнения изначально был провальный. Насколько можно было бы облегчить труд, если бы они умели прислушиваться к более опытным сотрудникам, пусть и занимающим не самые высокие должности, но обладающим колоссальным опытом и знаниями в области материалов и технологий. Но никто не желает никого слушать, каждый тянет в свою сторону и пытается продвинуть свою идею, какой бы нелепой она ни была.
* * *
– Насколько все смешно, настолько и грустно – понимаешь?
– Не совсем, – ответила М. – Мне не ясно, почему нужно переделывать по многу раз одну и ту же работу? Неужели нет четкого представления, как ее можно выполнить с наименьшими потерями?
– В том-то все и дело, что всем плевать на потери и труд, который мы затрачиваем. Все считают это вполне нормальным. Бывают ситуации, когда не совсем понятно, как мы будем выполнять то или иное задание, и кто-нибудь из руководства предлагает определенное решение, которое ему кажется правильным. Нам приходится его выполнять, даже если кто-то из более опытных людей говорит о способе, который проще или легче. Никто никого не слушает. Постоянно мы сталкиваемся с этой проблемой и переделываем многое, а все потому, что каждый считает себя правым, несмотря порой на очевидные факты.
– Да-а, это и вправду дебилизм.
– Конечно, я не могу не согласиться с тем, что мы те самые люди, на которых лежит обязанность все это делать и переделывать, и мы априори имеем предвзятое мнение, но в данном случае мне все это видится именно таким.
– Это понятно, но все же должен же быть какой-то здравый смысл?
– Здравый смысл в театре?! Что может быть абсурднее!
М. натянуто улыбнулась.
Некоторое время мы сидели молча, я медленно пил, и М. тоже не отставала от меня. В пачке оставалось не так много сигарет, но до рассвета, я надеялся, мне хватит. У меня было странное чувство, что с утра должно непременно что-то произойти, когда рассказ будет завершен, и эта часть жизни останется позади, перейдет в воспоминания, и сказанных слов будет уже недостаточно, чтобы опять оживить все это, нужно будет уже нечто большее. Но незачем будет это делать, не стоит ворошить прошлое слишком часто: сделав это однажды, уже не удастся также аккуратно и незаметно разложить его на полках своей памяти. Я вспомнил книгу Ремарка «Ночь в Лиссабоне» и поставил себя на место героя, только вот я никого не убивал и не убегал от преследования, единственным моим преследователем был я сам. От себя я и старался убежать все это время.
Зал был пуст, только у стойки еще продолжалось какое-то движение. Двое молодых людей, парень с девушкой, сидели на близко придвинутых друг к другу стульях. Он спал, уткнувшись носом ей в грудь, а она сидела и, озираясь по сторонам, постоянно курила. Иногда парень просыпался, и, приподняв голову, щурясь, остекленевшими глазами смотрел по сторонам, и, видимо, ничего не понимая, вновь зарывался в декольте своей спутницы. Мне было жаль девушку, которой придется тащить это безжизненное тело на себе.
Записки из дневника:
5 марта 20.. г.
«Девятый сон Веры Павловны».
Сегодня утром было так холодно, что от ветра перехватывало дыхание, и приходилось поворачиваться к нему спиной и пережидать сильные его порывы. Как это часто бывает, я пришел первым. В цеху были только две уборщицы, одна из них прибирается у нас, а вторая ее знакомая, она часто приходит, и они вместе пьют чай. Как обычно переоделся и, имея в запасе минут 30 до начала рабочего дня, лег подремать. Через некоторое время внимание мое привлек их разговор. Поначалу я решил, что мне показалось, и я, присев на диване, стал прислушиваться. Меня им видно не было, и я мог, не опасаясь того, что помешаю, слушать их странную беседу. Речь шла о мертвых и о том, как можно с ними общаться.
– Ведь вот что такое тот свет?! – сказала одна из женщин, очень уверенно и точно представляя, о чем ведет разговор, это было слышно по той интонации, с которой она говорила. – Просто иная реальность, к которой мы, как живые, относимся как к иной, но только лишь потому, что еще живы.
– А те, кто умер, они что же, там и обитают? – спросила вторая, она вообще по большей части слушала.
– Да, там они и находятся. С ними можно разговаривать и даже видеться, но это уже сложнее.
– Как это? – недоумевала собеседница.
– Ну-у-у, вот самое простое, помнишь, ты говорила, что твоя бабушка пекла какие-то замечательные блины, а ты никак не можешь вспомнить их рецепт?
– Да, конечно, помню!
– Ты можешь запросто узнать этот рецепт, просто спросив у нее, у своей бабушки то есть!
– Но как? Как это сделать?
– Перед сном задай ей вопрос или попроси чего хочешь, она в свою очередь попытается сделать то, что в ее силах. Этого уж я не знаю, там у них своя иерархия, но, во всяком случае, передать тебе рецепт блинов во сне она точно сможет.
– Ишь ты! Какие фокусы!
– Да никаких фокусов как раз и нет, все как есть – жизнь!
Тут разговор их переменился на что-то более земное, и я уже не вслушивался. Я продолжал сидеть недоумевая. Почувствовал себя героем пелевинских рассказов, как раз и две женщины-уборщицы имелись, совсем как в «Девятом сне Веры Павловны». Удивительно, как много таят в себе люди, и как много мы не видим в них из-за наших стереотипов и предрассудков.
Я решил для себя присматриваться к этой женщине и прислушиваться внимательнее к тому, что она говорит.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































