Текст книги "Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации"
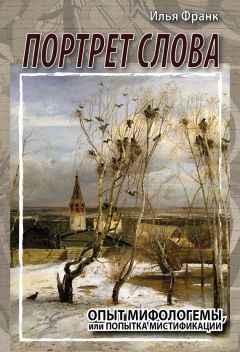
Автор книги: Илья Франк
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Илья Франк
Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации
Глава первая
ИМЯ ТЕКСТА
Передает ли звучание слова его значение или является только условным знаком? Ощущаем ли мы в слове «лес» сам лес как явление, его плоть и его звуки, например шелест? Иначе говоря, является ли слово «лес» маленьким звуковым рисунком леса? Или это только обозначение, о котором условились люди, чтобы понимать друг друга (и могли бы условиться по-другому, предложив другое слово для обозначения большой группы деревьев, например слово «сел»)?
Слово, в звучании которого раскрывалось бы его значение, – мечта немецких романтиков конца XVIII – начала XIX века. Они говорили о чудесном языке, каждое слово которого – не условный знак, а шифр явления, который поддается разгадке. Новалис в повести «Ученики в Саисе» говорит об этом так:
«Преимущественно же влек их к себе тот священный язык, который сияющим мостом соединял тех царственных людей с неземными краями и их жителями и кое-какими словами которого, согласно самым разным преданиям, владели еще некоторые счастливые мудрецы из наших предков. Его звучание было чудесным пением, неотразимые тона глубоко проникали внутрь каждой природы и расчленяли ее. Каждое из его имен было как бы словом-разгадкой для души каждого природного тела. Творческой властью этих ритмических колебаний пробуждались все образы мировых явлений, и о них можно было по праву утверждать, что жизнь вселенной – это вечный тысячеголосый разговор, так как в их речи все силы, все виды деятельности казались непостижимым образом соединенными».
Это сразу воспринимается, конечно, как красивая легенда. В любом случае у нас-то нет священного языка. У нас – несколько тысяч языков, в каждом из которых много тысяч слов-знаков, обозначающих предметы и явления. Получается, что слово – условный знак, его звучание безразлично для его значения.
Однако приглядимся, например, к таким словам, как «ветер» или «бабочка».
Мы чувствуем, что люди не могли условиться так, чтобы бабочка обозначалась словом «ветер», а ветер – словом «бабочка». Мы чувствуем, что в слове «ветер» дует ветер, а в слове «бабочка» порхает бабочка. Вот, говоря словами Новалиса, кое-какие слова священного языка прямо в нашем обычном языке.
Конечно, сказать, что мы это чувствуем, не значит что-либо доказать. Такое утверждение очень легко опровергнуть, сказав: «А я так не чувствую, это ваша галлюцинация». Или: «Вы просто настолько привыкли к этим словам, что, слыша слово «ветер», сразу представляете себе, как дует ветер, и вот вам уже кажется, что само явление изображено, нарисовано звуком в этом слове».
Доказать нельзя, но можно показать тем, кто готов прислушаться, готов попробовать слова на вкус. Могут ли обменяться смыслами слова «холод» и «жар», «тихий» и «громкий», «легкий» и «тяжелый», «мягкий» и «твердый», «узкий» и «широкий», «медленный» и «быстрый», «пушинка» и «камень», «взлететь» и «упасть», «пощечина» и «поцелуй»?.. Интересно, что в этих и подобных случаях иноязычный участник эксперимента часто угадывает значение правильно, при этом набор предлагаемых для угадывания слов может быть и больше двух.
И наоборот, русскоязычный обычно угадывает, например, в паре немецких слов “eng” (эньг) и “breit” (брайт), какое из них означает «широкий», а какое – «узкий». Или в паре английских слов “quick” (квик) и “slow” (слоу), какое из них означает «быстрый», а какое – «медленный».
Рассказывают, что немецкий философ-мистик XVII века Якоб Бёме, не знавший древнееврейского языка, правильно угадывал значения еврейских слов, которые ему называли. Это, несомненно, просто легенда (легендами же и прочими чудесами мы в данном сочинении заниматься не будем, – точнее, будем заниматься только теми чудесами, которые можно потрогать). Однако, может быть, речь шла лишь о небольшом наборе слов, который надо было сопоставить с соответствующим набором немецких слов. Тогда такое угадывание вполне возможно. При этом, конечно, нужно обладать развитым чувством звукового рисунка слова. У Якоба Бёме оно было, не случайно он говорит о «естественном языке», о том, что «внутреннее открывает себя в звуке слова», что «всякая вещь имеет рот для откровения» («Аврора, или Утренняя заря в восхождении»). Бёме вглядывается в звучание слов, в отдельные звуки и их комбинации, занимается своего рода языковой алхимией. Например, о слове «сердце» (Herz – хэрц) он пишет:
«…слог Herz выталкивают из глубины тела, из сердца: ибо слово Herz произносит истинный дух, поднимающийся (рождающийся) из зноя сердца, в котором восходит и кипит свет».
Вы слышите, как слово Herz поднимается из сердца и кипит?
Так вот и я скажу, что «лес» хоть и маленькое, односложное слово, а все же шелестит.
Сократ (в платоновском диалоге «Кратил») отрицает мнение, «что-де имена – это результат договора и для договорившихся они выражают заранее известные им вещи, и в том-то и состоит правильность имен – в договоре, – и безразлично, договорится ли кто-то назвать вещи так, как это было до сих пор, или наоборот: например, то, что теперь называется малым, он договорится звать великим, а что теперь великим – малым». Далее он говорит, что как ткачу для каждого отдельного вида ткани нужен особый челнок, соответствующий природе ткани, так для каждого предмета или явления нужна особая звуковая композиция. Так, например, «буква ро соответствует порыву, движению и в то же время твердости». От этого первоначального звука родится пучок «однокоренных» слов: «рэин» – «течь», «роэ» – «стремнина», «тромос» – «трепет», «трахюс» – «обрывистый», «круэйн» – «ударять», «трауэйн» – «крушить», «эрэйкэйн» – «рвать», «трюптэйн» – «рыть», «кэрматидзэйн» – «дробить», «рюмбэйн» – «вертеть» – «все они очень выразительны благодаря ро».
Вслушиваясь в приведенные выше греческие слова, мы чувствуем, что нельзя, например, поменять значения у «рэин», «эрэйкэйн», «кэрматидзэйн», не разрушив звуковую картинку. Кстати говоря, если вы найдете среди ваших знакомых людей, не знающих древнегреческого, вы можете предложить им сопоставить эти слова с русскими словами «течь», «рвать», «дробить» – интересно, найдут ли они верную русскую пару к каждому греческому слову.
Есть, как известно, просто звукоподражательные слова, скажем «кукареку», «квакать» или «шелестит», «дребезжит». Они обозначают и одновременно с этим рисуют какие-либо звуковые явления. При этом слово, например, «кукареку» очень условно передает крик петуха, это не подражание, а именно условное изображение. Видимо, звук «к» передает то, что это горловой и отрывистый крик, звук «р» подчеркивает его гортанность, а гласные «у-а-е-у» расставлены так, как показалось некоему художнику (коллективному художнику, народу) лучше – с эстетической точки зрения и в смысле соотношения с другими словами его языка (немецкий петух, например, кричит «кикерики», французский – «кокарико», а китайский вообще кричит «уоуо»). Даже звукоподражательные слова являются не прямым подражанием явлению (стремлением, например, наиболее приближенно воспроизвести петушиный крик), а условным изображением явления, звуковым рисунком, их нужно рассматривать с эстетической точки зрения. Они не фотографии, а, скажем, картины Сезанна, передающие не сами предметы и явления и даже не впечатления от них, а их сущность, их идею. Они обладают своей структурой, соответствующей, параллельной структуре того, что они передают. То есть слова являются не условными знаками (в которых звучание было бы произвольно) и не точными слепками (фотографиями), а символами передаваемого (художественными произведениями).
Звучащих предметов и явлений не так уж много, большинство предметов и явлений не звучат, безголосы. Например, «колокольчик» имеет голос, а «бабочка» – нет. Но оба этих предмета нарисованы звуком. Слово не подражает явлению, а его выражает, дает ему «рот для откровения».
Павел Флоренский в работе «Магичность слова» замечает, что слова кажутся нам миниатюрными лишь по своей кратковременности, но при растяжении времени, например приемом гашиша, превращаются в сложные музыкальные произведения, в сложное целое.
Принимать гашиш мы не будем (мало ли еще какие чудеса привидятся), а послушаем то, что могут рассказать дети, вслушиваясь в какое-либо слово. Я проводил такие эксперименты. Вот, например, рассказ ребенка о том, как он воспринимает слово «метро»:
М – замедляя движение, подходит поезд; Е – потоки воздуха, рассекаемые поездом, обтекающие его; ТР – торможение и последующий разгон, рев удаляющегося поезда; О – поезд уходит в туннель, остается поток воздуха и эхо.
Откуда берутся эти сопоставления? Почему М здесь воспринимается ребенком как выражение замедляющегося движения? С криком петуха было примерно ясно: прерывистый, гортанный крик. А здесь откуда?
Видимо, из трех источников одновременно.
Первый источник – наше тело. Когда мы произносим «м», мы мычим, перегораживая путь воздуху. Это и дает возможность соотнести данный звук с замедлением движения в слове «метро».
Второй источник – соотношение с другими словами языка, например с «медленно», «замедлять». Этот корень присутствует в описании ребенком слова «метро». Ребенок как бы выстраивает аллитерацию, включая слово «метро» в некое более развернутое художественное произведение, в некое стихотворение.
Сравните со словами Сократа, приведенными выше: «буква ро соответствует порыву, движению и в то же время твердости». Здесь (правда, в русском переводе, но это как раз верно передано) Сократ подтверждает свою мысль о значении звука «р», например, в слове «стремнина» другими словами языка («порыв» и «твердость»), в которых тоже есть этот звук.
Третий источник – внутренняя логика рисунка, потому что звуки «м», «е», «т», «р», «о» могут означать все что угодно в других словах и только в слове «метро» имеют то значение, которое увидел в них ребенок. Иными словами, они значат то, что описано выше, именно в соотношении друг с другом и строго в этом порядке. Это краски, которыми написана картинка.
Если бы задачей слова было наиболее точное, реалистическое изображение предмета, то идеальным словом был бы точный двойник предмета, как говорит об этом Сократ Кратилу:
«Будут ли это разные вещи – Кратил и изображение Кратила, если кто-либо из богов воспроизведет не только цвет и очертания твоего тела, как это делают живописцы, но и все, что внутри, – воссоздаст мягкость и теплоту, движения, твою душу и разум – одним словом, сделает все, как у тебя, и поставит это произведение рядом с тобой, будет ли это Кратил и изображение Кратила, или это будут два Кратила? …И не настаивай на том, что имя должно иметь лишь такие звуки, какие делали бы его полностью тождественным вещи, которой оно присвоено».
Затем Сократ говорит, что имя отличается от именуемогo своим несовершенством: «Допусти, что и какая-то неподходящая буква может тут быть добавлена». Но тогда и о картине можно было бы сказать, что от действительности ее отличает лишь несовершенство.
Слово «бабочка» – это не фотография бабочки, это стихотворение о бабочке. Иначе оно звучало бы одинаково на всех языках. На самом же деле каждый народ создает свое стихотворение о бабочке, в котором не только отражает бабочку, но и выражает свое собственное понимание сущности бабочки: «фарфалья» (итальянский), «папийон» (французский), «шметерлинг» (немецкий)… В каждом языке бабочка порхает по-своему, это как бы разные бабочки.
Каждое слово в процессе своего исторического развития не раз меняет и свое звучание, и часто даже свое значение. Однако звуковая картинка взаимодействует с изменяющимся значением, обкатывается, как камень волной, эстетическим чувством человека.
Представим себе следующую картину: первобытный человек вышел утром из пещеры подышать свежим воздухом (или еще для чего-нибудь) и, вернувшись, рассказывает соплеменникам о погоде. Слова «холод», допустим, еще нет, оно не существует в своей нынешней краткой форме, еще не сложилось, не застыло. И вот он начинает дуть (изображая ветер): хооо…хоо… потирать заледеневшее тело: ллл… дрожать, показывая, как он одеревенел, задубел, стучать зубами: ддд… Могли бы быть, конечно, при этом и другие звуки и жесты. На произнесение такого слова могло бы уходить несколько минут. Это могло бы быть целой музыкальной картиной. Это могло бы быть процессом творчества, созданием слова-рисунка, слова-стихотворения, единственного в своем роде, не предназначенного для повторных употреблений, передающего только вот этот холод вот в этой ситуации общения, – то есть созданием имени собственного. И только потом, видимо, такие большие и оригинальные первобытные слова сжались и застыли в маленькие наши слова, стали разменной монетой, именами нарицательными.
Это, разумеется, всего лишь макет, не было в доисторической древности слова «холод», даже отдельными звуками языка, входящими в это слово, человек овладевал тысячелетиями. В основе макета – восприятие современного человека (ребенка), который всматривается в современное слово. Но именно такое, детское, открытое восприятие готового слова помогает понять, как могло быть создано слово впервые.
Мартин Бубер в книге «Я и Ты» пишет о таком первобытном, детском восприятии мира, в котором слово рождается как динамический образ, как переживаемое отношение (то есть как символ, а не как знак):
«В начале было отношение. Возьмите язык “дикарей”, т. е. тех народов, чей мир еще беден объектами и чья жизнь строится в тесном кругу действий, насыщенных присутствием. Ядра их языка – слова-предложения, первичные дограмматические конструкции, из расщепления которых возникает все многообразие грамматических форм, – чаще всего выражают цельность отношения. Мы говорим: “Очень далеко”; зулус скажет вместо этого слово-предложение, которое значит: “Там, где кто-то кричит: "Ой, мама, я пропал"”, а житель Огненной Земли посрамит нашу аналитическую премудрость семисложным словом, точный смысл которого – “глядят друг на друга, ожидая, что другой вызовется сделать то, чего оба хотят, но не могут сделать”. Здесь в целостности отношения нерасчлененно присутствуют и лица – будущие существительные и местоимения; они пока лишь намечены и не обладают полной самостоятельностью. Смысл речи составляют не эти продукты анализа и размышления, а подлинное первичное единство, переживаемое отношение.
При встрече мы приветствуем человека, желая ему благополучия, уверяя его в своей преданности или поручая его Богу. Но как мало непосредственности в этих стершихся формулах (улавливается ли хоть что-нибудь в “Хайль!” от первоначального наделения властью?) в сравнении с не теряющим свежести телесным приветствием кафров: “Я тебя вижу!” или с его забавным и возвышенным американским вариантом: “Услышь мой запах!”
Можно предположить, что понятия и связи, да и сами представления о лицах и вещах, выделились из представлений о таких событиях и состояниях, которые имели характер отношений. Стихийные впечатления и волнения, пробуждающие дух “первобытного человека”, вызываются событиями-отношениями – переживанием того, что предстает перед ним, и состояниями-отношениями – жизнью с тем, что предстает перед ним. О луне, которую он видит каждую ночь, он не составляет себе никаких идей, пока она, во сне или наяву, не предстанет ему телесно, приблизившись своими беззвучными движениями, околдует его, очарует своими касаниями, навлекая на него худое или доброе. Вначале он не сохраняет в себе даже оптического представления о блуждающем световом диске или о демоническом существе, как-то связанном с этим диском, а создает лишь динамический, пронизывающий тело, волнующий образ лунного воздействия, из которого лишь постепенно выделяется персональный образ – лик луны: тогда воспоминание о том неведомом, что воспринималось еженощно, разгорается в представлении о виновнике и носителе этого воздействия, и возникает возможность его объективирования, превращения первоначально непознаваемого, но лишь переживаемого Ты в Он или Она».
Люсьен Леви-Брюль в книге «Первобытное мышление» пишет о том же, подчеркивая, что для первобытного человека каждое слово звучит особенно, в зависимости от момента отношения, от ситуации, что порождает и обилие собственных имен для называния различных предметов:
«Так, в Лаонго каждый пользуется речью на свой лад, вернее, из уст каждого речь выходит по-разному, смотря по обстоятельствам и по расположению говорящего. Это пользование речью столь же свободно и естественно, как (я не знаю лучшего сравнения) звуки, издаваемые птицами. Иначе говоря, слова не являются здесь чем-то застывшим и установленным раз и навсегда, напротив, голосовой жест описывает, рисует, графически выражает, так же как и жест рук, действие или объект, о котором идет речь».
«Этой же тенденцией объясняется такое поразительное обилие собственных имен, даваемых отдельным предметам, в особенности всем мельчайшим подробностям поверхности земли. В Новой Зеландии у маори каждая вещь имеет свое имя (собственное). Их жилища, их челноки, их оружие, даже их одежда – все это получает особые имена… Их земли и дороги – все имеют свои названия, побережья всех островов, лошади, коровы, свиньи, даже деревья, скалы и источники. …На деле каждая часть страны, каждое изменение ее поверхности обозначается в таком количестве специальными названиями, что потребовалась бы целая человеческая жизнь для того, чтобы расшифровать их смысл».
Мы упоминали уже слово «лес», задаваясь вопросом, слышен в этом слове лес или не слышен, нарисован или не нарисован. Если в это слово вслушиваться, всматриваться, то можно услышать и увидеть лес, но это своего рода медитация, созерцание, то есть нечто возможное, но не вызывающее доверия. Однако это слово можно дорисовать, присоединив к нему другие слова, например «лес шелестел» или «зеленый лес», – и слово «лес» действительно становится музыкальной картинкой, звуковым рисунком. Мы пробуждаем спящую в нем художественность, символичность.
Такие «проснувшиеся» слова наиболее ярко видны в поэзии. Вот, например, стихотворение Ивана Никитина «Лес»:
Шуми, шуми, зеленый лес!
Знаком мне шум твой величавый,
И твой покой, и блеск небес
Над головой твоей кудрявой.
Я с детства понимать привык
Твое молчание немое
И твой таинственный язык
Как что-то близкое, родное.
Как я любил, когда порой,
Краса угрюмая природы,
Ты спорил с сильною грозой
В минуты страшной непогоды,
Когда больших твоих дубов
Вершины темные качались
И сотни разных голосов
В твоей глуши перекликались…
Или когда светило дня
На дальнем западе сияло
И ярким пурпуром огня
Твою одежду освещало.
Меж тем в глуши твоих дерев
Была уж ночь, а над тобою
Цепь разноцветных облаков
Тянулась пестрою грядою.
И вот я снова прихожу
К тебе с тоской моей бесплодной,
Опять на сумрак твой гляжу
И голос слушаю свободный.
И может быть, в твоей глуши,
Как узник, волей оживленный,
Забуду скорбь моей души
И горечь жизни обыденной.
В этом стихотворении о лесе слово «лес» как звуковой рисунок обрастает другими словами-картинками, отражается в них. Например, его звучание подчеркивается, расширяется словом «зеленый». Стоит сказать «зеленый лес» – и возникает новое единство, новое слово, новое имя. А от слова «зеленый» можно перекинуть мостик к слову «знаком», а от слова «лес» – к слову «блеск». Имя разрастается дальше. От слова «блеск» – к слову «близкое», от слова «знаком» – к слову «покой» и так далее, можно двигаться внутри стихотворения по многим расходящимся тропинкам, соединяющим слова. В стихотворении каждое слово бесспорно является звуковым рисунком. Происходит это оттого, что слова поддерживают друг друга, «братаются», и тогда, например, звук «ш», сам по себе мало что значащий, становится символичен: «шумит», «страшной», «больших», вершины», «в глуши». Или: слова «лес», «шум», сами по себе не соединенные в звуковом отношении, соединяются при помощи слов «голос», «глушь»: лес – голос – глушь – шум.
Ю. М. Лотман в «Лекциях по структуральной поэтике» пишет:
«В стихах:
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.
cлова “утром”, “уверен”, “увижусь” находятся в определенной связи, не зависящей от обычных синтаксических и иных, чисто языковых связей. Звук “у” (вопреки утверждению В. Шкловского в одной из его ранних работ), конечно, сам по себе никакого значения не имеет. Но повторение его в ряде слов заставляет выделить его в сознании говорящего как некую самостоятельную единицу. При этом фонема “у” осознается и как самостоятельная, и как несамостоятельная по отношению к слову “утром”. Будучи отделена и не отделена, она получает семантику (значение. – И. Ф.) от слова «утром», но потом повторяется еще в других словах ряда, приобретая новые лексические смыслы. Это приводит к тому, что слова “утром”, “уверен”, “увижусь”, которые в непоэтическом тексте составляли бы самостоятельные и несопоставимые единицы, начинают восприниматься в семантическом взаимоналожении. Происходящее при этом своеобразное отождествление этих слов приводит к необходимости раскрыть в их разности нечто единое для всех. При таком семантическом наложении огромная часть понятийного содержания каждого слова окажется отсеченной, подобно тому, как контекст отсекает полисемию (многозначность. – И. Ф.). Но зато возникнет значение, невозможное вне этого сопоставления и единственно выражающее сложность авторской мысли. В данном случае подобная единица содержания – результат нейтрализации слов “утро”, “уверен”, “увижусь”, их “архисема” (верховное значение, соединяющее противопоставленные элементы, например архисема «север/юг». – И. Ф.), включающая пересечение их семантических полей.
Сложность, однако, в том, что вся нестиховая структура языка, все синтаксические связи, все определенные контекстом этой фразы, воспринимаемой как явление не-поэзии, значения слов сохраняются. Но одновременно возникают и другие связи, другие значения, которые не отменяют первых, а сложно с ними коррелируют (соотносятся. – И. Ф.).
Но и, более того, мы имеем дело не только со спорадическими (непостоянными, случайными. – И. Ф.) повторениями одного какого-либо звука, а с тем, что вся звуковая система стиха оказывается полем сложных соотнесений».
Прочтите стихотворение «Лес» вслух, проартикулируйте его, попробуйте его на вкус. Или хотя бы пару строчек:
Когда больших твоих дубов
Вершины темные качались…
«Вся звуковая система стиха оказывается полем сложных соотнесений» – невероятно, но факт. Невероятно потому, что не в человеческих силах построить такую систему, такую «предустановленную гармонию» (Лейбниц) сознательно. Так же как боец не может отразить нападение с разных сторон сразу нескольких противников. Однако мы знаем, что может, что так бывает. Человек обладает способностью впадать в особое состояние, когда все его движения фантастически точны и согласованны.
В стихотворении язык становится тем самым священным языком, о котором мечтал Новалис, в котором «все силы, все виды деятельности казались непостижимым образом соединенными».
Стихотворение похоже на ожерелье ведического бога Индры, о котором в «Аватамсака-сутре» говорится: «В небесах Индры есть, говорят, нить жемчуга, подобранная так, что если глянешь на одну жемчужину, то увидишь все остальные отраженными в ней. И точно так же каждая вещь в мире не есть просто она сама, а заключает в себе все другие вещи и на самом деле есть все остальное».
Текст стихотворения «Лес» построен так, что представляет собой разворачивающееся, разрастающееся слово «лес». «Лес» – главное слово в этом тексте, слово-матка, а все остальные слова им порождаются и его обслуживают. Все слова текста так или иначе отражаются в слове «лес». Одни из них непосредственно созвучны этому главному слову, прилепились к самому магниту, другие лепятся уже на эти намагниченные слова. «Лес» здесь – не только название стихотворения, но и действительное имя текста.
Мы уже говорили о том, как могло складываться первое слово, о том, что человек, возможно, сочинял его, как стихотворение. Здесь же пред нами стихотворение, состоящее из многих отдельных слов. Но при этом оно представляет собой и одно слово – «лес». Точнее говоря, даже не это маленькое, ужавшееся слово «лес», не лес как понятие, а лес как «отношение», как «динамический образ», являющийся в определенный момент автору. То есть одно слово, равное стихотворению, большое, развернутое слово. Это – не имя нарицательное, а имя собственное, собственное имя этого момента «отношения». Не случайно Лотман называет искусство «миром собственных имен».
Лотман в «Лекциях по структуральной поэтике» пишет, что поэтический текст, с одной стороны, состоит из многих слов, каждое из которых является самостоятельным знаком, но, с другой стороны, весь поэтический текст является одним единым знаком:
«Переходя к знаку в искусстве, мы сразу же сталкиваемся с неожиданными вещами. Для любой семиотической (знаковой. – И. Ф.) системы знак (единство обозначающего и обозначаемого), сочетаясь по законам синтагматики (т. е. по законам синтаксической сочетаемости языковых единиц. – И. Ф.) с другими знаками, образует текст. В противоположность этому в искусстве обозначаемое (содержание) передается всей моделирующей структурой произведения, т. е. текст становится знаком, а составляющие текст единицы – слова, которые в языке выступают как самостоятельные знаки, – в поэзии (в литературе вообще) становятся элементами знака».
А значит, каждое произведение является единым словом, и тот смысл, что в нем заложен, может быть высказан не частями, а только таким гигантским словом сразу, и потому «чудесное пение» поэзии, ее ритм, аллитерации и рифмы не являются внешними красотами, украшениями, а столь же необходимы для передачи смысла, как правильное сочетание звуков в отдельном слове:
«Рассмотрение вопросов структуры стиха убеждает нас, что слова Брюсова: “Стихи пишутся затем, чтобы сказать больше, чем можно в прозе”, – не только удачное по форме изречение, но и точное определение телеологии поэтического текста (Телеология – философская концепция, согласно которой всё в мире устроено целесообразно и всякое развитие является осуществлением заранее предопределенного Богом или природой. – И. Ф.). Усложненность поэтического текста – не внешнее украшение, а средство создать модель наиболее сложных жизненных явлений и знак для передачи сведений об этой модели слушателям. Слова А. Потебни о том, что целое художественное произведение в известном смысле может быть приравнено к слову, представляются нам чрезвычайно глубоким прозрением в знаковую природу поэзии».
(А. А. Потебня в книге «Мысль и язык» говорит: «Язык во всем своем объеме и каждое отдельное слово соответствует искусству».)
Об этом красиво сказал и Герхарт Гауптман: «Творчество поэта заключается в том, чтобы из-за слов заставлять звучать исконное слово».
Осип Мандельштам в «Разговоре о Данте» говорит:
«Всякий период стихотворной речи – будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая – необходимо рассматривать как единое слово. Когда мы произносим, например, “солнце”, мы не выбрасываем из себя готового смысла, – это был бы семантический выкидыш, – но переживаем своеобразный цикл.
Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося “солнце”, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что гoворить – значит всегда находиться в дороге».
Говоря иначе, слово «солнце», если к нему присмотреться-прислушаться, если сделать его предметом созерцания, предстанет нам гиперсловом, протянет свои лучи к другим словам текста, в котором оно находится, а то и просто ко всем словам языка, в котором оно существует. И такими гиперсловами, «царственными словами» (Мандельштам) являются все слова без исключения.
В этом смысле очень интересен мистический опыт Даниила Андреева. Текст книги «Роза мира» то и дело сгущается, конденсируется в очередное собственное имя. Вот как, например, вводится одно из таких имен – «Лиурна»:
«Сквозь бегущие воды мирных рек просвечивает мир воистину невыразимой прелести. Есть особая иерархия – я издавна привык называть ее душами рек, хотя теперь понимаю, что это выражение не точно. Каждая река обладает такой “душой”, единственной и неповторимой. Внешний слой ее вечнотекущей плоти мы видим, как струи реки… Но внутренний слой ее плоти, эфирной, который она пронизывает несравненно живей и где она проявляется почти с полной сознательностью, – он находится в мире, смежном с нами и называемом Лиурною. <…> Невозможно найти слова, чтобы выразить очарование этих существ, таких радостных, смеющихся, милых, чистых и мирных, что никакая человеческая нежность не сравнима с их нежностью, кроме разве нежности самых светлых и любящих дочерей человеческих. И если нам посчастливилось воспринять Лиурну душой и телом, погружая тело в струи реки, эфирное тело – в струи Лиурны, а душу – в ее душу <…>, – на берег выйдешь с таким чистым, просветлевшим и радостным сердцем, каким мог бы обладать человек до грехопадения».
Откуда взялось слово «Лиурна» – это «заумное», «самовитое» (как сказали бы футуристы) слово? Оно собрано со всего данного текста, «с миру по нитке»: в него вошли и «струи реки», и «милые, мирные существа», и «любящие дочери», и эфирность. Это собственное имя текста, как бы ангел-хранитель текста.
Подобным именем текста является, например, и название фильма Феллини “Amarcord”. Это слово (как объясняется в самом фильме) образовано из слов “ricordo” – «воспоминание», “аmаrо” – «горький», “amare” – «любить», “cor” (= “сuоrе”) – «сердце».
В старину верили, что имя человека влияет на его жизнь. Так, например, Яаков, предсказывая судьбу сыну Гаду («гад» на древнееврейском языке – «счастье, удача»), извлекает ее из его имени: «Гад гдуд йгудэну вху ягуд ‘акев» – «Гад – рать поратует на него, а он оттеснит ее обратно». Слово разворачивается и становится текстом подобно тому, как, по древнему поверью, имя разворачивается и становится судьбой.
Вот как Даниил Андреев описывает свой мистический опыт, опыт встреч с такими «ангелами»:
«Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по нескольку раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других – с заревами, в третьих – с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений – одно, из всех согласованно звучащих слогов – один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































