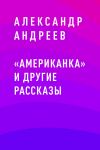Текст книги "Путешествие улитки и другие рассказы"

Автор книги: Инна Шолпо
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Нужно все-таки написать… про это стихотворение. Лучше Фета, конечно. Там про природу, без философии.
«”Ель рукавом мне тропинку завесила”… Очень хочется сейчас переписать стихотворение целиком. Почему? Не знаю, просто иногда ты сам говоришь эти слова, но, конечно, не так, как Фет. Когда читаешь это стихотворение, хочется плакать: почему ты сам так сказать не можешь? И в этом смысл. А получается это потому, что все мысли, чувства и побуждения сняты прямо с души и даже не обдуманы. Сняты и отданы нам. Залпом, без остановки. Простые слова, только сразу с души. Потому-то и кажется, что все свое. Потому-то и волнуешься ты, как в лесу. Музыка есть, но не от искусства, а музыка души: тревожный шум ветра, еле слышное щелканье птиц, шепот травы, шуршание иголок под ногой. Все это и есть непревзойденная музыка леса. А любовь – это как небо над лесом. Солнце (не закат, а восход), серо-белые облака, зачем-то бегущие по небу. Вот что такое это стихотворение. Я писал долго и путано, а Фет мало и все близко».
Хэм закончил писать и подал яростно почерканный листочек:
– Я не буду переписывать начисто, ладно?
И улегся на парту досыпать.
А после школы догнал Светлану по дороге к своему дому.
– Светлана Евгеньевна, кружок в пятницу будет?
Спросил, просто чтобы что-нибудь сказать.
– Да. Тебя что, в октябрята приняли на старости лет? – спросила она, посмотрев на октябрятскую звездочку на его пиджаке.
– Да нет… Так я приду.
Хэм поправил на спине самодельный рюкзак с нашитой на него кривой пятиконечной звездой, чтобы она обратила внимание.
Возле его дома они попрощались, и Светлана пошла дальше, через сквер, к остановке трамвая. Хэм смотрел ей вслед – долго. «Светлана!» – тихо позвал он. Она не обернулась. «Светлана», – тихо повторил он одними губами беззвучно. Ветер неожиданно ударил ей в спину, взметнул волосы, вуаль на шляпке… С маленького клена в сквере дождем хлынули на землю багряные листья, похожие на изорванные сердца. И горький запах опавшей листвы томил, как фетовские строчки.
Эх, больше трояка не поставит, наверное…
* * *
А потом наступила зима. Она была такой же необычной, нереальной, как осень. Снежной, странной, страшной.
Их было человек десять на кружке. Они собирались по пятницам возле оплывшей свечки, Светлана читала им стихи, рассказывала; они много говорили – о поэзии, о жизни. И очень любили друг друга. То есть не то чтобы друг друга. Они любили ту общность, которая возникала в эти минуты; но общность эта распадалась в обычной жизни: лица, что ли, при свете свечей были другие, глаза? Хотелось невозможного, хотелось дышать в такт.
Ася Карпова лепила сердечки из стеарина. Скоро стали лепить все. И однажды, сделав каждый по сердечку, подарили Светлане.
– Что же мне с ними делать? – спросила она.
– Сплавьте их все в одно, – предложил Митя Лебедев.
– Так не бывает, – улыбнулась Светлана.
Но сама-то, пожалуй, немножко надеялась на то, что бывает. В ней было что-то не наше, не современное… из старинного романа. Это и манило, и раздражало одновременно. Она жила в каком-то своем мире, как улитка, совершенно не понимая, что он ненастоящий. Не жизнь, а литература. И пыталась потеснить этой литературой тот мир, в котором предстояло существовать ее ученикам. Хэму казалось, что она толкает их к гибели, но ему было сладко от этого, хотя и немного страшно. И он почти готов был отдаться этой метели, этой музыке…
Да, еще была музыка.
Это случилось в зимние каникулы. В тот вечер на кружок пришло всего три человека: Хэм, Митя и Ася. После занятия они спустились вниз и увидели, что актовый зал не заперт, даже дверь полуоткрыта. Оттуда тянуло холодом, но они зачем-то вошли, не зажигая света. Ася поднялась на сцену, к пианино. В гулкой пустоте стукнула крышка, вздрогнули от неожиданности струны. По темному, холодному залу, едва освещенному сквозь заиндевелые окна уличными фонарями, пронесся то ли вздох, то ли шорох, и чуть раньше или чуть позже этого вздоха зазвучала музыка…

Вступление набегало мерной волной так спокойно, так обманчиво просто, чтобы не мешать явлению главного инструмента души – голоса. Его мелодия началась с широкого, открытого «ля», протяжного, словно вздох, и тут же плавной дугой ушла на глубину, в грудь, зазвучала виолончельно и интимно. У Аси был красивый, бархатный голос, странно не сочетавшийся с ее хрупкой фигуркой, и очень широкий диапазон. Она пела на всех школьных концертах, и все прочили ей оперную карьеру. Но в тот вечер это было что-то просто необыкновенное. Через дрогнувшие ноты сомнения пробиралась она к завершению первой фразы, неуравновешенному, балансирующему, влекущему за собой вторую, похожую на первую, но чуть более взволнованную. Голос еще как будто не вошел в полную силу – душа только пробовала себя – и вдруг пронзительно взлетел мольбой и страданием… Завис на высоте и с новым дыханием взлетел еще выше, к головокружительному, прозрачному «си-бемоль» третьей октавы, чтобы потом стечь вниз хрустальным ручейком в спокойные воды аккомпанемента, на которых только порой, как солнечные блики на море, вспыхивали яркие, мучительные фиоритуры. Он звучал спокойно и глубоко, страстью сдержанной и очищенной, без надрыва, вычерчивая в морозном воздухе строгие изгибы то ли признания, то ли жалобы, то ли молитвы.
Хэму неожиданно стало очень хорошо. Хорошо и грустно.
Он стоял, прислонившись к колонне, и видел Светлану возле окна: на нее падал свет фонаря. И как-то они были связаны, музыка и Светлана. Словно какое-то непонятное чудо происходило, так что ни страха, ни сомнения – как натянутые крепко нити, – и только неразрешимость и непонятность желания… чего? Чего она хотела от него, эта музыка, и чего так жгуче, так безысходно хотелось ему? И отчего дрожали не повинующиеся ему губы?
Хэм отвернулся, чтобы не смотреть на нее. Ему казалось, что они и так близко, слишком близко, но мгновение это – счастливое и безысходное – сейчас кончится, оборвется в последних гармонических вздохах, и больше уже никогда…
Он не знал, что это была за мелодия. И не смог бы вспомнить и, может быть, даже не узнал бы, услышь он ее снова. Но он вобрал в себя навсегда зимний вечер, морозный узор на стеклах, темный, холодный зал, и голос Аси, и Светлану возле окна. Что произошло тогда? Казалось бы, ничего. Но, идя за этой музыкой, сливаясь с ней, он почувствовал, что вступил на вершину, вершину ослепительно чистую, где воздух разрежен и трудно дышать, а хочется вдохнуть всеми легкими, и больно щемит сердце от красоты. Можно ли жить на этой вершине, глядя в небо поверх земли, поверх суеты, поверх людей? Но, чувствуя невозможность, как невыносимо хотел он этого в те минуты!
* * *
А после зимы – вот странно! – пришла весна, когда за своим неровным, восторженным дыханием не различить чужого и почти все равно, слышат ли тебя. С треском лопаются почки на деревьях, и лезут клейкие листочки, и сердце, набухшее переизбытком чувств, как почка листом, вдруг разворачивается жаждой жить, существовать, дышать, звучать, вплетаясь в общую вселенскую симфонию. И разве можно изменить ритму своего дыхания, переставить ноты в мелодии, разбить гармонию, не разбив души?
Цвела черемуха, и город пах медвяно и томительно. Загорались каштаны. Золотом обрызганы были акации перед школьным крыльцом. Светлана носила легкие светлые блузки с крылатыми бантами. Все было пронизано солнцем, как ее рыжие волосы. А Хэм чуть ли не каждый день оставался у нее после уроков исправлять двойки по русскому… и тройки… и четверки… Оставался дольше всех, а потом они шли вместе, если, конечно, не встревал Цезарь, и между ними фетовской строкой плыло весеннее марево.
Да, кстати, о Цезаре. Хэм стал замечать, что Светлана как-то слишком часто заходит в кабинет к историку. И пару раз он видел их, выходящими из школы вместе. Неужели у них роман? Но все знали, что Цезарь женат на своей бывшей ученице.
Ребята тоже что-то заметили, стали посмеиваться. Говорили, что Светочка в Цезаря втюрилась и за ним бегает. Хэму не хотелось в это верить. И ничего такого в историке нет, чтобы сходить по нему с ума. Так, видимость одна. Фасон. На самом деле он говорит все не от души, заученно. И кажется, ему не очень-то самому интересно. Митя Лебедев, которого прозвали Паном Профессором за то, что он много читал, носил круглые очки и смешно надувал щеки, пару раз сажал Цезаря в лужу. Просто ловил на ошибках. А тот сразу начинал на стенку лезть, типа: «Не спорь с учителем!»
Но потом Хэм понял, что ребята правы. Однажды он пошел после уроков к Цезарю, хотел исправить двойку. Дверь была неплотно закрыта, и он услышал голос Светланы. Хэм не хотел подслушивать, но до него долетели интонации. Музыка. И все стало сразу же очевидным.
Хэм постоял, не зная, что делать: постучать или уйти. Решил уйти, но в этот момент дверь открылась и Светлана вышла. В слезах, с опрокинутым лицом. Хэм замер:
– Светлана Евгеньевна…
Она растерянно посмотрела на него, но уже ничего не могла поделать ни с лицом, ни со слезами.
Хэм проводил ее в тот день до самого дома. А она, стоя у своего парадного, вдруг положила ему руки на плечи. И поправила шарф. Ласково-ласково. Только все это не ему предназначалось. Не ему, вот беда-то. Другому человеку, который… который одного взгляда, одной мысли ее не стоил!
Что это, Хэм, никак ты ревнуешь? А если так…
Вообще-то Хэм не любил рассуждать о чувствах. На невнимание девочек он не жаловался. На его век мочалок хватит. Он сносно играл на гитаре, не просто там три аккорда: несколько лет проходил в музыкальную школу, недавно только бросил, хоть у него, говорят, абсолютный слух. Поэтому девочки в него влюблялись, на вечеринках он был нарасхват. Да и внешне он был ничего: высокий, видный. И малявки из пятого-шестого класса на него западали, и одноклассницы. Правда, трогало его все это не очень. В смысле души.
Просто приятно было позлить Светочку, погулять у нее на виду с шестиклассницей из ее воспитательского: пусть попсихует за девичью нравственность. А с такой фигуркой, как у этой Ленки, нравственность не убережешь, хоть ноги цепочкой сковывай… С такой девочкой в кайф в кино сходить на «до шестнадцати», на дискотеку, поприжать под лестницей. Но что касается души, то она-то тут при чем? Душа – как птица, стремящаяся взлететь в небо… небо над лесом.
Хэм пытался постичь Светлану, но скоро понял, что это бессмысленно. Она была непредсказуема. То этот воротничок накрахмаленный, строгий английский костюм, чуточку чопорное поведение – такая классная дама, институт благородных девиц; то вдруг юбку обрежет, стрелки подведет, так что Нинуля на нее зверем зыркать начинает.
А может быть, это все из-за нее? И осень на его фотографиях была такая нереальная – из-за нее? И музыка его мучает – из-за нее? А может, это она и его создала, и Цезаря придумала, а теперь страдает, играя собственными творениями и собой?.. И себя – разную – выдумывает, и жизнь свою сочиняет?..
* * *
Когда они вернулись после летних каникул перед десятым классом, то узнали, что Светлана уволилась из школы. И литературу у них теперь будет вести Нинуля.
«Мы попали в такт неожиданно, случайно. И нить, которую между нами протянули, звенела, как струна, покуда мы не попробовали сблизиться – и она бессильно провисла, и не стало музыки. Тогда мы попытались разойтись – и волшебная нить, натянувшись сверх меры, разорвалась… Мы расстались, унося с собой обрывки ее и так и не поняв друг друга, не постигнув чуда…» Её почерк на клочке бумаги в клетку. Он видел этот листок на столе у Цезаря, рядом с кроссвордом и нарисованными рожицами.
И снова осень, рыжая, как Светлана, грустная, как полузабытый сон, выметала листву из старых питерских дворов. И снова каждое утро Хэм шел в школу и, подгоняемый делами – выпускной класс! – не замечал, как бежит время. Хотя нет, это не так. Оно не бежало. Он где-то прочел, что время не проходит – проходит человек. Кто-то торопливо бежит, кто-то важно вышагивает, кто-то осторожно ползет. А время… Оно просто стоит на месте.
Митя Лебедев не стал профессором. Он умер от передоза. Ася Карпова не стала певицей. Она вышла замуж за финна и превратилась в домохозяйку с тремя детьми. Цезарь, говорят, сделался брокером, разбогател, недавно женился в третий раз. Нинуля все там же, в школе…. Сеет. А Светлана?
…Вот она проходит через маленький скверик возле его дома. «Светлана», – шепчет он вслед беззвучно, и слова его рождают порыв ветра; и взлетают вверх, ярко и бесполезно взметнувшись, рыжие волосы. С маленького клена в сквере багряным дождем сыплются на землю листья. И в воздухе Хэму чудится ее улыбка, и горький запах листвы томит, как забытые строки. Где это было, когда, с кем? И что он тогда получил за этот «анализ»?
* * *
Хэм так задумался, что едва не пропустил свою остановку. Но все-таки успел выскочить, краем глаза заметив, как изменился взгляд немолодой женщины. И понял: все-таки узнала. Но трамвай уже уехал, унося ее и долговязого подростка с прической «взрыв на макаронной фабрике».
Хэм пошел к метро, готовясь влиться в чужой и серый поток невыспавшихся людей, а вокруг носились, спотыкаясь и второпях толкая друг друга, блеклые, сухие листья. В их бесконечном круговращении не было ни красоты, ни смысла – один тупой страх, долгая привычка к суете. Иногда то один, то другой лист взлетал вверх, подпрыгивал, переворачивался, и снова падал, и вертелся до тех пор, пока не попадал в лужу и не становился мокрым и липким; и лежал там, и его втаптывали в грязь острые каблучки дамских сапожек или тяжелые ребристые подошвы осенних ботинок.
И только в небе сиротливо звучал затерявшийся звук – «си-бемоль» третьей октавы.
Соло для улитки

В. Беллини. «Норма»
Через два месяца после маминой смерти, почти привыкнув к тишине и пустоте отсутствия, я стала разбирать ее комнату. Вынимала вещи из забитого доверху шкафа и раскладывала прямо на полу в три кучки. Самая большая – то, что в мусорный бак. Вторая, поменьше – рядом на забор повесить, может, бомжам пригодится. И третья – новые вещи, иногда даже с бирками. Их в пункт приема одежды потом снесла: жалко было выкидывать то, что может действительно кому-то пригодиться. Но в доме ничего не оставила: не могла. Эти вещи вызывали у меня раздражение, почти ненависть.
Полки были забиты полностью, а в той части, где на плечиках хранились платья, их постепенно потеснила самая разная одежда, брошенная кучей на дно шкафа, – так что они уже не висели, а скорее лежали.
Среди прочего тут были и мои старые вещи: одни давно стали малы, потому что после сорока я значительно пополнела, другие сильно поношены или с пятнами, третьи – вообще самодельные шедевры советских времен, неумело сшитые мамой, когда ничего интересного нельзя было купить.
Сначала я приносила ей какой-нибудь пиджак и говорила: «Вот, это мне больше не нужно, я выкину». Она тут же его у меня забирала и запихивала в свой шкаф: «Отдам кому-нибудь» или «Может, на что– нибудь пригодится». Я потом уже сообразила, что к чему, и перестала ей говорить. Просто выкидывала то, что не ношу, и всё. Надеялась, что она не хватится. А вот её вещи – тут уж никак. Чего там только не было, в этом шкафу! Даже рваные колготки времен развитого социализма: «из них же коврик в прихожую связать – можно».
А сношенная, рваная обувь отправлялась в большой фибровый чемодан пятидесятых годов, стоявший под кроватью. Подметая в маминой комнате, я каждый раз яростно тыкала в него шваброй.
Помню, как хотела выкинуть ее старые замшевые сапоги – вдрызг уже порванные, подошва отлетела. Вздохнула: «Ну ладно, выбрасывай. Голенища только оставь. Может, стельки из них вырежем». А про сумку старую: «Не выкидывай, это кожа. Пригодится на сапоги заплатки поставить». Какие заплатки? Какие сапоги? У нас что, война? Мы нищие? Мы что, умеем ставить заплатки на сапоги и вырезать стельки?
А на нее если бы кто посмотрел, так и сказал бы, что нищие. Носила в последние годы всякую рвань. Особенно когда перестала выходить из дома: «Никто же не видит». Я-то, ясное дело, не в счет.
Я ей покупала халат новый, трусы – всё в шкаф: «Вдруг в больницу попаду». А там, в шкафу, – три халата новых, ненадеванных. Все для больницы: на смену. И пар десять трусов того же назначения. А дома можно и в старых ходить, с разноцветными заплатками, где уже и не поймешь, какого цвета основа: одни постояльцы.
Подруга ей свитер красивый подарила. Тоже спрятала: «А кто меня тут видит? Поберегу на случай». Свитеров я, разбирая шкафы, штуки четыре нашла. Все дареные, все «на случай». Подруги ведь, если зайдут, видят, как она одета, и думают, что мы купить не можем, – ну и дарят. А толку? Она их не надевала: носила старые, штопаные. А тот, что совсем разорвался, на куски разрезала и на полку сложила: «Это же чистая шерсть. Пригодится. На поясницу повязать, если радикулит».
Сидела я среди этих кучек на ломаном стуле и слезами давилась. А избавившись от одежды, вывезла на свалку и всю мебель из маминой комнаты. Вызвала машину, а самой перед рабочими стыдно, просто сквозь землю провалиться. Это ж надо такой хлам в доме держать! Я такого даже на советских дачах, куда свозили всякое барахло, не видела. Из кресла труха сыплется, кот в свое время разодрал на нем обшивку напрочь. Диван – ломаный, вместо одной ножки пачка книжек была подложена. Тахта, на которой она спала, по центру от старости протерлась, обивка порвана, пружины вылезли: «Ничего, я одеялом ватным застелила». Из одеяла, тоже драного, – вата по всей комнате. А на одном из стульев какая-то коробка от конфет стояла, чтобы кто-нибудь случайно не сел и не упал. И ведь ни в какую не соглашалась рухлядь эту выкинуть и новую мебель купить: «Денег же стоит».
Как будто у нас не было денег! Хорошо, что я все-таки разобрала вещи, а не выкинула все не глядя. На верхней полке шкафа среди каких-то старых футболок я нашла большую пачку тысячных и пятитысячных купюр, завернутую в тряпочку и перевязанную поясом от старого платья. Посчитала. Их было много. Можно было, наверное, ремонт сделать. Или репетиторство бросить. Диван купить, кресло. Но это не главное. А главное, главное… Я сжала пачку в руках. Чего я больше всего хочу из того, что можно получить за деньги? Я подумала и поняла: к морю! К теплому морю. Мама не пускала, потому что я одна, без мужчины, а там, на юге, – сплошное «мало ли что»… Нет, я и сама немного трусила, но… я же не в Египет собираюсь! Поеду в Испанию, например, в Валенсию или в Аликанте… Говорят, там хорошо.
И потом, хоть на время нужно из квартиры уехать. Я ее продам, наверное. Зачем мне одной такая большая? Страшно. Днем ничего еще: ученики приходят. Вечером телевизор включу. Как я ненавидела этот вечно орущий ящик, когда мама его смотрела! Теперь ничего, отвлечение. А вот ночью… Ночью спать не могу нормально, от каждого шороха просыпаюсь. Полы рассыхаются, трещат, как будто ходит кто-то. Ветер рамы выламывает. Мамина комната стоит пустая, гулкая. Ладно пока весна, лето, а что будет зимой, когда темно? Да и дорого за такую квартиру платить. Только вот жалко… вся жизнь в ней прошла.
Тут в моей комнате обои в углу совсем потрескались, и из под них стали видны старые… А под ними еще. Как годовые кольца.
* * *
Года за три до маминой смерти я отнесла на помойку всё, что долго и бережно хранила: свой юношеский дневник, фотографии, все старые письма от друзей и целую пачку – от бывшего мужа, написанных, когда он ещё был будущим.
Звали его Юра. Мы тогда расстались летом недели на три, потому что его мать взяла профсоюзные путевки на круиз по Волге. А это был самый разгар нашего романа, поэтому вожделенный для многих круиз стал для него наказанием. Но мы договорились, что я буду писать ему «до востребования» в каждый город по пути следования теплохода, примерно рассчитав, сколько времени идет письмо. И он тоже из каждого города будет посылать мне весточку.
Уж не помню, о чем я ему писала. Наверное, по принципу «что вижу, о том пою». Ну и о нежных чувствах, конечно. Он тоже делился дорожными впечатлениями, но больше всего писал о своей любви ко мне. А его мать ужасно на меня злилась, потому что в каждом городе, вместо того чтобы осматривать достопримечательности, он бежал на главпочтамт. Впрочем, она в принципе злилась на меня, за то что он меня полюбил.
Почему я все это выкинула? Самое странное, что я этого не помню. Помню только, что мама мне что-то сказала. Что-то такое, отчего у меня началась истерика, и я все выбросила, не читая, поливая слезами. Сорокалетняя баба, я рыдала в голос и вышвыривала на помойку годы своей жизни, годы молодости, любви. И думала, что никогда в жизни, никогда, ни за что не прощу маму, не забуду ей этого… А теперь не могу вспомнить, что же это было, что она сказала-то. На этом месте в памяти – черная дыра, глухая пустота. И обида, которая никак не рассасывается.
Но одно письмо я тогда все-таки оставила, потому что оно лежало отдельно: не помещалось в ящичек, где хранились остальные. Свернутое в трубочку, оно не пришло по почте и написано было не на простой бумаге, а на какой-то особенной, заграничной, с водяными знаками. Наверное, эту бумагу привез Юре его отец-летчик.
«Я люблю вас! Быть может, это не слишком удачное начало для письма, но ведь я люблю вас и ни о чем другом писать не могу. Мог ли я подумать в тот день, когда впервые увидел вас, что через каких-нибудь несколько месяцев вы станете олицетворять и смысл жизни моей, и мою совесть, и мои убеждения! А сейчас я понял, что последние два года ждал именно вас – но какое же чудо, что вы появились! Вы единственный человек, который мог сделать меня счастливым, – а я никогда еще не был так счастлив, хоть это и нелегкое счастье. Вы самая прекрасная, чистосердечная, добрая, великодушная, умная, нежная девушка в мире. Как много значит для меня ваша любовь! Быть любимым вами – это для меня величайшая награда, огромная честь. Как же слепы и бедны должны быть те люди, которые могут оставаться равнодушными к вашей красоте, а она проявляется во всем: и в вашем характере, и в ваших словах, и в стихах ваших, и в маленьких женских слабостях.
Любимая! Часто по отношению к вам я совершаю нелепые и жестокие глупости. Простите меня! Иногда я сам не могу объяснить себе их причину. Возможно, это боязнь показаться вам слишком сентиментальным. Как я иногда ненавижу себя за это! Поистине нужно обладать вашим сердцем, чтобы прощать меня.
Вы вправе поступать со мною, как вам угодно. Даже если бы вы сделали для меня десятую часть того, что сделали в действительности, вы совершили бы подвиг. Я буду стремиться быть достойным вас, вашей любви. Огромное счастье – быть вашим настоящим другом, любить вас, быть вам надежной опорой и защитой. Преданный вам, Юрий».
Интересно, он все это сам сочинил? И почему обратился на вы, когда мы с самого знакомства были на ты? Какие же мы были книжные дети в наши девятнадцать лет!
Это письмо, казенный свадебный фотоальбом и свидетельство о разводе – все, что осталось мне от нашего романа, моего первого и единственного настоящего романа. А стихи, о которых он пишет… Где они? Частично на той же помойке, а что-то тогда под руку не попалось и осталось, живет… Все они были про безответную любовь или, в лучшем случае, про беспредметную печаль. А Юрию я стихов не посвящала. Про счастливую любовь что писать? Мне вообще часто кажется, что это очень скучная штука. Вернее, раньше казалось. А теперь уж и не знаю.
Мы в жизни счастливы несбывшимся одним,
Одно несказанное в памяти всевластно,
Одно непознанное истинно прекрасно,
Одно ненайденное бережно храним.
Вот, не такие уж плохие были стихи, друзьям нравилось – у меня тогда еще были друзья. Я даже пыталась в журналы посылать. Но мне сказали, что мои стихи отдают символизмом, который советская поэзия давно переросла.
Нет, если бы я была настоящим поэтом, это бы меня не остановило. Я и так не бросила писать, продолжала, но уже только для себя…. Переросла так переросла. А сейчас уже почти не пишу. Не знаю почему. Может, потому что любить некого. Нет, люди кругом есть… А любить некого. Оказывается, это еще хуже, чем безответная любовь.
* * *
Вот в ранней юности я часто влюблялась, даже не задумываясь, что он за человек на самом деле. Просто увижу его руки или услышу, как он читает наизусть «Ты жива еще, моя старушка?» – и всё. Остальное я просто домысливала. Ну а потом уже узнавала поближе и начинала злиться, что он не такой, каким я его себе придумала. Это помогало мне влюбиться в кого-нибудь другого.
Не могу сказать, что по поводу рук у меня есть какие-то особые предпочтения. Они могут быть большими и сильными, как у мальчика Жени из параллельного класса, которого я часто видела на переменках: я расписание уроков наизусть выучила и все время находила повод прогуляться на нужный этаж. Или могут быть тонкими, изящными, даже маленькими… даже с бледными веснушками, как у моего однокурсника Лёни, который приходил на занятия с гитарой и пел песни «Битлз» на лестничной площадке. И я стояла там и вдыхала сигаретный дым, потому что это было место для курения. И потом кашляла. Да, руки могут быть совершенно разными, но что-то в них должно меня цеплять. Я не могу сказать, что именно, но я это чувствую. Какая-то особая одухотворенность.
А вот голос желательно, чтобы был низкий, с хрипотцой, такой как бы меховой. У меня тогда прямо там всё начинает вибрировать. Я помню, как в детстве впервые по радио услышала Джо Дассена. Мне показалось, что меня гладят по всему телу пуховой варежкой, и захотелось, чтобы это длилось долго-долго.
Но они, те, кто мне нравился, никогда не отвечали взаимностью. Наверное, чувствовали, что меня долго завоевывать не придется, – а это скучно. Я же, когда влюблена, – просто стихийное бедствие. Могу задушить в объятиях. И я все время искала: кто же меня полюбит наконец?
Мама говорила, что я бросаюсь на всех, кто в штанах. Ну а не она ли мне все время повторяла, что я страшненькая и никто меня никогда не полюбит? Нет, ну так прямо она не говорила, но смысл этот.
Может быть, поэтому я в первый раз целовалась в шестнадцать лет в пионерском лагере университета с человеком, который мне совершенно не нравился. Не помню даже, как его звали. Он был студентом журфака и работал в лагере фотографом, а я – помощницей вожатого. Ну на самом-то деле мне просто купили путевку, как всем, но я хотела поработать с детьми, чтобы посмотреть, стоит ли поступать в педагогический институт, и мне разрешили помогать вожатой в младшем отряде, потому что хорошо знали мою маму.
В тот вечер меня оставили одну с моими малышами, а в клубе были танцы для старших отрядов… Когда, наслушавшись вместо сказок моего краткого пересказа «Чайки по имени Джонатан Ливингстон», дети заснули, танцы еще продолжались, и я решила сходить в клуб. Хотя меня никогда никто не приглашал, и я всегда уже заранее знала, что так будет. Но можно было хоть помечтать и под быстрый танец подергаться, в кружочек… Правда, у меня все как-то неловко получалось. Я вечно с кем-нибудь сталкивалась.
Когда вечер кончился, воспитатели увели детей по корпусам, а вожатые остались и решили устроить танцы для себя. И вот тогда неожиданно ко мне подошел этот самый фотограф. Низкого роста, в круглых очочках, щупленький такой… Мы потоптались пару медленных танцев, а потом он предложил пойти погулять за территорию. В лес, в смысле. Было уже довольно темно, белые ночи кончились, но все-таки гулять было можно. И я согласилась.
Я вообще-то не совсем понимала, зачем пошла. Мы до этого вечера с ним даже парой слов не обменялись. А что до прогулки, то помню только, что он назвал меня очень красивой – до этого мне так никогда не говорили! – и все выпытывал у меня, где я учусь, потому что все вожатые были студентами. Я сказала: «Угадай!» Он гадал-гадал – и всё мимо. В конце концов пришлось признаться, что я еще школьница. Он смутился немного, но всё равно стал меня целовать. Если честно, мне это не очень понравилось, но я позволила, потому что подумала: «А вдруг меня в жизни больше никто никогда вообще поцеловать не захочет?» И мы гуляли по лесу и целовались, и он учил, как надо, хотя и сам, похоже, не был экспертом. Ему очки мешали, как Пьеру Безухову.
Было уже совсем поздно, когда он меня проводил до корпуса. Только я вошла, как объявилась вернувшаяся из города моя вожатая Люда, и мы с ней стали пить чай с тортом «Сюрприз». А фотограф зачем-то начал стучать в окно нашей комнаты. Люда не могла понять, кто это стучит и почему, и погасила свет, чтобы он нас не видел.
Через два дня он уезжал, и я всячески старалась избежать встречи. В конце концов перед отъездом он передал мне записку с кем-то из детей, проверявших у входа в столовую чистоту рук. В ней он назначал мне свидание у Эрмитажа, ровно в полдень тридцать первого августа.
Я не пошла, конечно. Может, и зря. Но у него были какие-то невыразительные руки и тонкий голос.
* * *
А потом я в девятнадцать лет вышла замуж. За автора того самого письма, за Юру.
Я не сразу его полюбила, а когда уже он стал за мной ухаживать. Тогда я и увидела, что руки у него большие и сильные. И ничего, что лицо круглое. Зато он высокий, и волосы такие мягкие, и глаза красивые, серые с каемочкой…
Юра ухаживал долго, несколько месяцев. Мы в Филармонию ходили, на выставки. В кафе-мороженое. Мне нравилось, как он одевается – в пиджачной паре, в плаще, с длинным белым шарфом… Это было стильно и необычно. Его отец был летчиком на международных авиалиниях и привозил вещи из-за границы.
А сам Юра был музыкантом, студентом Консерватории. На валторне играл. Валторна красивая, похожа на золотую улитку… Я любила смотреть, как он с ней обращается. Ласково, как с ребенком. Гладил изгибы трубки и вентили, касался клапанов нежно-нежно. Брал губами мундштук, словно целовал…
Несмотря на мой комплекс неполноценности, я сразу поняла, что он ко мне неравнодушен. Но он так долго мне ничего не говорил и не делал попыток меня поцеловать, что я уже просто занервничала. Я его в какие только укромные места не водила: и в весеннем лесу подснежники мы собирали, и по пустырю за домом гуляли, он меня на руках через лужи переносил, а вот поцеловать всё как-то никак не решался. А мне так хотелось наконец по любви поцеловаться! И в итоге все произошло в самом людном месте. Уже летом мы сидели на бульваре напротив многоэтажного дома, и я решила как-то Юру подтолкнуть: положила голову ему на плечо. И тогда он меня у всех на виду взял и поцеловал.
Я потом его как-то спросила, почему он так долго ждал. А Юра сказал, что у меня был такой неприступный вид, что смотришь и думаешь: «А не получу ли я по физиономии?»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?