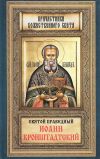Текст книги "Бытие как общение. Очерки о личности и Церкви"

Автор книги: Иоанн Зизиулас
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Бог может сохранить личную идентичность не Своей природой, а тем, что Он троичен. Бог-Отец бессмертен потому, что Его неповторимое Отцовство состоит в вечном различии с самоидентичностью Сына и Духа, Которые называют Его Отцом. Бессмертие Сына также обязано не природе, а тому, что Он единородный (отметим выраженную здесь уникальность) и что в Нем Отец «нашел Свое благоволение»[43]43
Слово «единородный» в Иоанновых писаниях означает не только единственность рождения Отцом Сына. Оно имеет также значение «неповторимо Возлюбленного» (см.: Άγουρίδησ Σ. Υπόμνημα είς τάς А', Β' και Г' Έπιστολάς του ’Αποστόλου Ίωάννου. 1973. Ρ. 158). Именно это совпа дение в Боге любви и существования показывает, что бессмертие принадлежит не природе, а личностным отношениям, которые порождены Отцом.
[Закрыть]. Так же и Дух, Который называется «животворящим», потому что Он есть «общение» (2 Кор 13:14). Жизнь Бога вечна, так как она личностна, она осуществляется в свободном общении, в любви. Жизнь и любовь в личности совпадают: личность не умирает только потому, что любит и любима. Вне общения в любви личность теряет свою неповторимость и становится «как все»[44]44
Всем, кто интересуется онтологией любви, стоит утрудить себя чтением «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Невзирая на свою простоту, это глубокая богословская книга.
[Закрыть], безликой «вещью» без имени, у которой нет устойчивых признаков для опознания. Умереть для личности означает перестать любить и быть любимым, а значит, и неповторимым. Соответственно, жизнь для нее означает выживание ее ипостасной уникальности, которая сохраняется и утверждается любовью[45]45
Тайна личности как онтологического «начала» и «причины» состоит в том, что любовь способна одарять другого неповторимой идентичностью и именем, в этом откровение «вечной жизни», которая поэтому означает, что личность способна возвысить до личной ценности и жизни даже неодушевленные объекты, так как они составляют органическую основу отношений любви. (Например, все творение может быть спасено своей «рекапитуляцией» внутри отношений Отца и Сына.) Тогда обреченность на вечную смерть означает вырождение личности в «вещь», в абсолютную анонимность и звучит ужасающим приговором: «Не знаю вас» (Мф 25:12). Вот чему противостоит Церковь поминовением имен на Евхаристии.
[Закрыть].
II. От биологии к экзистенции: церковное существование и экклезиологическое значение личности
Бессмертное бытие личности как уникальной, неповторимой и свободной ипостаси, любящей и любимой, образует квинтэссенцию спасительного благовестил. На языке отцов это называется «обожением» (теозисом), что означает соучастие в Божественной жизни, только не в природном или субстанциальном, а в личностном смысле. Цель спасения в том, чтобы личностная жизнь, открывающаяся в Боге, стала реальностью и на уровне человеческого существования. Таким образом, спасение совпадает с исполнением личности в человеке. Но не личность ли человек и вне спасения? Не достаточно ли ему быть просто человеком, чтобы называться личностью?
В отеческом богословии личность понимается как «образ и подобие Божье», поэтому оно не может довольствоваться одним лишь гуманистическим содержанием понятия. Отцы рассматривают человека в свете двойного «модуса существования». Первый может быть назван ипостасью биологического, а второй – ипостасью церковного существования. Краткий сравнительный анализ этих двух способов человеческого бытия позволит нам понять, почему идея личности неразрывно связана с богословием.
1. Биологическая ипостась создается зачатием и рождением – каждый человек приходит в мир носителем своей «ипостаси». Любовь не есть что-то для нее постороннее: как-никак новорожденный – это продукт общения двоих. Эротическая любовь, даже лишенная особенной пылкости, содержит поразительную тайну бытия. Это кроющееся в глубинах общения стремление к экстатическому преодолению индивидуальности через акт творения. Правда, это биологическое созидание человеческой ипостаси неизбежно страдает от двух «страстей», искажающих цель этого события – личность. Первую «страсть» можно было бы обозначить как «онтологическую необходимость». Биологическая ипостась неизбежно привязана к природному инстинкту, т. е. к импульсу, который не подчиняется свободе. Тем самым личность обязана своим существованием не свободе, а необходимости. Как следствие она оказывается не в состоянии утвердить свою ипостась на абсолютной свободе. Мы уже отмечали, что если человек пытается возвысить свою свободу до абсолютного онтологического уровня, он неизбежно сталкивается с дилеммой нигилизма[46]46
Ср. ранее цитированное место из Достоевского. Подросток в пору своего созревания, когда к нему приходит осознание собственной свободы, спрашивает: «Кто давал мне советы, когда я появлялся на свет?» Он бессознательно выражает огромную проблему онтологической необходимости, которая возникает перед каждой биологической ипостасью.
[Закрыть].
Вторая «страсть» естественно следует из первой. В своей начальной стадии ее можно назвать индивидуализмом или изоляцией ипостасей. В своем предельном выражении она оборачивается распадом ипостаси под действием последнего и самого главного врага человека – смерти. Биологическая основа человеческой ипостаси фундаментальным образом привязана к необходимым свойствам ее «природы». В итоге она выражается в круговороте этой «природы» через порождение новых тел, т. е. ипостасных особей, утверждающих свою самобытность изоляцией от других. Тело, рожденное как биологическая ипостась, оказывается крепостью для человеческого «эго», новой маской, препятствующей ипостаси в том, чтобы стать личностью, т. е. утвердить свое бытие на любви и свободе. Тело потенциально направлено к личностности, но реально достигает только состояния индивидуальности. В результате оказывается, что человеку для обоснования своей ипостаси не нужно быть связанным со своими родителями (имеется в виду не просто психологическая, а онтологическая связь). Напротив, разрыв этих отношений создает предпосылку для индивидуального самоутверждения.
Смерть есть естественный итог существования биологической ипостаси, уступка пространства и времени другим индивидуумам, «запечатывание» конкретной ипостаси. В то же время это очевидно трагическое «самоотрицание» ипостасности (распад и исчезновение тела и индивидуальности), так как попытка ее утвердить в итоге заставит признать, что собственная же «природа» заводит человека по ложной тропе к смерти. Этот «провал» природы, открывающийся в биологической структуре человека, позволяет нам одновременно увидеть две вещи. Во-первых, в противоположность тому, что подсказывает само биологическое стремление к выживанию, для ипостаси оно возможно только как «экстаз», достигающийся не последовательно (сперва как бытие и только потом как личность), а одновременно. Во-вторых, неосуществимость биологического выживания ипостаси вызвана не ущербностью морального характера (непослушанием), но структурным свойством ипостаси, т. е. биологическим круговоротом видов[47]47
Св. Максим Исповедник вслед за св. Григорием Нисским (De hom. opif. (Об устроении человека). 16–18 // PG. 44. 177 ff.) подходит к корню проблемы человеческого существования, когда в биологическом способе порождения жизни усматривает результат грехопадения (Ambiguorum Liber. 41, 42 //PG. 81. 1309 А, 134 °C ff.; cp.: Quaest. ad Thalas. (Bonpoсоответы к Фалассию). 61 //PG. 90. 6363). Те, кто видит в этом воззрении Максима проявление его склонности к монашеской аскезе, игнорируют тот факт, что он отнюдь не рядовой богослов, а, пожалуй, один из наиболее выдающихся и тонких мыслителей, гений, который вряд ли говорил подобные вещи случайно, не видя в них органического элемента своего целостного богословия. Позиция Максима по данному вопросу вдохновлена Мф 22:30, а именно той основополагающей посылкой, что подлинное человеческое бытие обнаруживается в эсхатологическом измерении (см. далее). Победа над смертью, сохранность личности не может быть достигнута без перемен в устроении человеческой ипостаси, без преодоления ипостаси биологической. При этом здесь нет и намека на манихейство, так как биологическая и эсхатологическая ипостась не исключают друг друга (см. прим. 62).
[Закрыть].
Все это означает, что человек как биологическая ипостась – неизбежно трагическая фигура. Он рождается как плод экстатического действия – эротической любви, но его рождение окрашено природной необходимостью и поэтому лишено онтологической свободы. Человек появляется на свет ипостасным телом, но оно окутано индивидуальностью и смертностью. Тем же эротическим действом, которым человек пытается достичь экстаза, он ввергается в индивидуализм. Само его тело – явление трагическое. Оно может выступать средством общения через рукопожатие, поцелуй, речь, диалог или произведение искусства. И в то же время это маска лицемерия, крепость индивидуализма, знамение окончательного отчуждения – смерти. «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим 7:24). Трагедия биологической ипостаси состоит не в том, что в ней человек не существует как личность, а в том, что он, пытаясь стать личностью за счет нее, обречен на неудачу. Грех и есть такая неудача, и именно грех составляет трагическую прерогативу исключительно человеческой личности.
Для того чтобы спасение было возможно, эрос и тело, как выражение соответственно экстаза и ипостасности, должны перестать быть носителями смертности. И здесь должны быть одновременно соблюдены два условия: а) оба фундаментальных начала биологической ипостаси, эрос и тело, не должны подвергнуться разрушению (обратное означало бы, что человек лишается средств, которыми выражается его экстатичность и ипостасность, т. е. собственно личностность[48]48
В вариантах сотериологии, явно не вдохновленных святоотеческим наследием, появляется следующая дилемма: либо ипостась без экстатичности (разновидность индивидуалистического пиетизма), либо экстаз без ипостасности (форма мистического бегства от тела, экстаз эллинистических мистерий). Ключ к сотериологической проблеме лежит в сохранности обоих личностных начал, экстатичности и ипостасности, от посягательств «страстей» онтологической необходимости, индивидуализма и смерти.
[Закрыть]);
б) биологическая ипостась должна претерпеть коренное переустройство, причем не за счет постепенных нравственных перемен, а через новое рождение человека. Это означает, что ни тело, ни эрос не пропадают, а лишь меняются в своем проявлении, приспосабливаясь к новому «способу существования» ипостаси. Они лишаются тех форм своего проявления, которые были характерны для прошлого состояния ипостаси и создавали трагизм человеческого бытия. Одновременно в них сохраняется все, что позволяет личности быть: любовь, свобода и жизнь. Это те начала, на которых строится то, что я назвал «ипостасью церковного существования».
2. Ипостась церковного существования появляется через новое рождение человека в крещении. Крещение как новое рождение есть именно акт ипостасного созидания. Как зачатием и рождением создается биологическая ипостась, так крещением открывается новый способ существования по образу возрождения из мертвых (1 Пет 1:3, 23) и, значит, новая «ипостась». Но что составляет ее основу? Как крещение «ипостазирует» человека и кем он в итоге становится?
Мы видели, что фундаментальная проблема биологической ипостаси выражалась в том, что экстатическое действие, приводящее к рождению человека, было замешено на «страсти» онтологической необходимости. Природа онтологически предшествует личности и через инстинкт навязывает ей свои законы, чем в корне подрывает свободу. Эта «страсть» тесно связана с тварностью человека, т. е. с тем, что он, как личность, противостоит существованию по необходимости. Тварь не способна избегнуть встроенной в биологическую ипостась онтологической необходимости: вне последней, т. е. без «всеобщих» законов природы, биологическая ипостась человека лишается способности к существованию[49]49
Искусственное зачатие человека, если таковое когда-либо осуществится, также будет лишено принципа свободы в том, что касается устроения человеческой ипостаси. Природная несвобода будет в ней замещена аналогичными закономерностями действия человеческого фактора.
[Закрыть].
Для того чтобы избежать последствий трагизма человеческого бытия, о котором уже говорилось, личностность как выражение абсолютной свободы нуждается в ипостаси, свободной от онтологической необходимости. Эта ипостась неизбежно должна быть укоренена в такой онтологической реальности, которая не страдает от ограничений тварности. В этом смысл библейского выражения о рождении «заново» или «свыше» (Ин 3:3, 7). Святоотеческая христология старается особо выделить именно эту возможность, возвещенную человеку как Благая весть.
Главная цель христологии в ее классической святоотеческой форме имеет чисто экзистенциальное значение. Она состоит в том, чтобы дать твердое основание устремленности человека к личностному бытию. Здесь он больше не «маска» и не «трагическая роль», а подлинная личность, присутствующая в реальной истории, а не в мифе или ностальгическом переживании. Иисус Христос оправдывает звание Спасителя совсем не тем, что принес миру великое откровение в форме высокого учения о личности, а тем, что внутри самой истории утверждает подлинность и реальность человеческой личности, делая ее основанием и ипостасью каждого человека. Поэтому патристическая христология всегда исходила из непременного признания следующих положений.
а) Тождество личности Христа и второй ипостаси Св. Троицы. Долгая полемика с несторианством была отнюдь не упражнением в академическом богословии, а тяжелой борьбой, в центре которой стоял принципиальный экзистенциальный вопрос: как может Христос быть Спасителем человечества, если Его ипостась по своим свойствам совпадает с тем, что я выше назвал «ипостасью биологического существования»? Если личность Христа утверждена не на свободе, а на природной необходимости, тогда и Он не в состоянии окончательно избежать трагедии человеческой личности[50]50
Подчеркнем слово «окончательно», поскольку оно имеет жизненно важное значение в христологии. Все в ней получает свою оценку в свете Воскресения. Одно только воплощение не может служить гарантией спасения. Лишь то, что смерть окончательно побеждена, позволяет нам поверить, что Победитель смерти был Богом от начала. Именно в таком направлении развивалась христология Нового Завета – от Воскресения к воплощению, а не наоборот, – и в патристической мысли этот эсхатологический подход к христологии никогда не исчезал. Далее, когда мы говорим, что Христос избегнул необходимости и природных «страстей», мы не имеем в виду, что Он остался не затронутым условиями биологического существования (так, например, Он пережил самую жестокую для биологической ипостаси муку – смерть). Но то, что Он восстал из мертвых, отделило страдание от ипостаси: оказалось, что ипостась Христа не биологическая, а эсхатологическая или, иначе, тринитарная.
[Закрыть].
Смысл девственного рождения Иисуса представляет собой отрицательное выражение этой экзистенциальной озабоченности патристического богословия. Ее положительное содержание отражено в Халкидонском догмате о единой личности Христа, тождественной ипостаси Сына.
б) Ипостасное единство во Христе двух природ – божественной и человеческой. Здесь важно подчеркнуть разницу между греческими и западными отцами, подобно тому как это было отмечено в отношении тринитарного догмата. На Западе, как это явствует из Томоса папы Льва I, отправной точкой для христологии оказывается понятие «природа», или «субстанция», в то время как у греческих отцов, например у Кирилла Александрийского, исходным пунктом христологии выступает ипостась, или личность. И пусть на первый взгляд это покажется незначительной деталью, на самом деле речь идет о чрезвычайно важном. Теперь уже не только применительно к Богу, как мы видели выше, но и к человеку особо подчеркивается, что основанием бытия оказывается личность. Подобно тому как Бог есть Тот, Кто Он есть по природе – «Совершенный Бог», – только личностно, так и человек во Христе является «совершенным человеком» только как ипостась, личностно, т. е. в свободе и любви. Следовательно, только подлинная личность может быть совершенным человеком, чей способ существования выявляется как бытие по образу, в котором Сам Бог предстает как истинно Сущий. В этом и состоит смысл «ипостасного единства».
Христология, таким образом, подтверждает, что природа человека может быть «принята» и ипостазирована помимо его биологической ипостаси, существующей по закону онтологической необходимости, которая, как мы убедились, ведет к трагедии индивидуализма и смерти. Во Христе человек может осуществить себя, сделать свое существование личностным, так что в его основании будут не заданные раз и навсегда природные законы, а личные отношения с Богом, подобные узам любви и свободы, связывающим Самого Христа как Сына Божьего с Отцом. Это усыновление человека Богом, уподобление его ипостаси ипостаси Сына Божьего составляет суть крещения[51]51
Структура таинства Крещения воспроизводит евангельское повествование о крещении Иисуса. Слова «Сей есть Сын мой возлюбленный (или единородный), в Котором Мое благоволение», сказанные Отцом Сыну при явлении Св. Духа, возглашаются во время крещения, будучи адресованы самому крещаемому. Таким образом внутритроичные отношения становятся основанием для устроения новой ипостаси крещаемого. Ап. Павел указывает на такой смысл крещения словами: «…но приняли Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!”» (Рим 8:15).
[Закрыть].
Выше я назвал ипостась, которую человек обретает в крещении, «церковной». Если спросить: «Как эта новая ипостась человека выявляется в истории?» – ответом будут слова: «В Церкви». В ранней святоотеческой литературе часто используется образ Церкви как матери. Смысл его в том, что Церковь предстает «рождающей», в ней человек рождается как «ипостась», или личность. Эта новая человеческая ипостась наделена всеми фундаментальными свойствами аутентичной личностности, которые отличают церковную ипостась от первой, биологической. О каких же свойствах идет речь?
Первое и самое главное: Церковь ставит человека в такие отношения с миром, которые больше не определяются биологическими законами. Христиане первых веков с присущим им очень ясным церковным сознанием выражали преодоление отношений биологической ипостаси через образ семьи[52]52
«Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф 5:32).
[Закрыть]. Для новой церковной ипостаси «отец» – уже не физический родитель, но «Сущий на небесах», братья – члены Церкви, а не те, что по крови. То, что все это означает не параллельное сосуществование церковной и биологической ипостасей, а преодоление последней, хорошо видно из резких слов, требующих от христиан оставить и даже возненавидеть своих домашних[53]53
«Все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф 23:8, 9). Ср. Мф 4:21; 10:25, 27; 19:29, а также параллельные места, особенно Лк 14:26: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей» – т. е. все свои родственные связи, которые и составляют биологическую ипостась.
[Закрыть]. Эти слова не означают одного лишь отрицания. В них присутствует и положительное утверждение: христианин в крещении становится лицом к лицу с миром, он, как личность, вступает с ним в особые отношения, совершенно отличные от тех, что характеризуют его биологическое существо. Это значит, например, что он может любить не потому, что к этому его обязывают законы природы, которые неизбежно окрашивают любовь в сугубо индивидуальные тона, а так, что любящий, напротив, не связан никакими подобными ограничениями. Этим человек, как церковная ипостась, доказывает: все, ценное для Бога, может быть ценностью и для человека. Личность не детерминирована природой, поскольку сама сообщает импульс к существованию. Человеческое бытие оказывается тождественным свободе.
Результат этого освобождения личности от природы, ипостаси от биологии, выражается в преодолении человеком в Церкви своей исключительности. Когда человек любит как биологическая ипостась, он неизбежно исключает из этого других: семья имеет безусловный приоритет в любви перед «чужими», муж предъявляет исключительные претензии на любовь собственной жены, что для биологической ипостаси выглядит «естественно» и оправданно. Любовь к кому-либо за пределами семейного круга больше, чем сугубо собственные отношения, способствует преодолению своей исключительности, которая всегда присутствует в биологической ипостаси. Поэтому церковная ипостась характеризуется способностью личности любить сверх всякой исключительности, причем не из заповеданной нормы («возлюби ближнего своего» и т. п.), но исходя из самой «ипостасной сути», т. е. из того, что новое рождение в лоне Церкви сделало человека субъектом новых отношений, побеждающих всякую обособленность[54]54
Так Церковь подтверждает, что: а) спасение – не плод нравственного совершенствования в смысле улучшения природы, но явление новой ипостаси, новой твари; б) эта новая ипостась существует не в теории, а в реальном историческом опыте, пусть и прерывистом.
[Закрыть]. Это значит, что только в Церкви человек обретает способность выразить себя в качестве кафолической личности. Кафоличность, как свойство Церкви, позволяет человеку стать ипостасью без того, чтобы выпасть в индивидуальность, благодаря двум одновременно присутствующим в Церкви факторам. Во-первых, мир является человеку не как набор изолированных фрагментов, которые ему еще предстоит соединить а posteriori, но как единое целое, преломленное в каждой единичной вещи через кафолическую природу Церкви. Во-вторых, отражаясь в бытии человека, кафолическое существование позволяет ему выявить и реализовать соборность своего присутствия в мире через собственную ипостасность, которая указывает не на индивидуальность, а на подлинную личностность. Так Церковь открывается как присутствие Самого Христа в человеческом бытии, равно как и каждый ее член становится Христом[55]55
Характерно, что, согласно святоотеческой традиции, всякий крещеный становится «Христом».
[Закрыть] и Его Церковью[56]56
Св. Максим Исповедник прилагает кафоличность Церкви к экзистенциальному облику каждого верующего (Mystagogia (Мистагоги я). 4 // PG. 91. 672 ВС).
[Закрыть]. Это и есть историческая форма бытия церковной ипостаси, которая подтверждает способность человека противостоять своей естественной склонности редуцировать себя до уровня носителя простой индивидуальности, означающей самоизоляцию и смерть. Церковная ипостась означает веру человека в свою способность стать личностью, его надежду на то, что он реально обретет качество подлинной личностности. Иными словами, это вера и надежда на бессмертие человека как личности.
Последнее высказывание подводит нас к чрезвычайно важному вопросу, которым мы должны незамедлительно задаться. Все, что до сих пор говорилось, не позволяет еще судить о том, что происходит с биологической ипостасью человека после того, как рождается ипостась церковная. Опыт подсказывает нам, что, несмотря на крещение и обретение церковной ипостаси, человек остается рожденным и умирающим по законам своей биологической ипостаси. В чем же состоит тогда опыт подлинной личностности, открывающийся в церковной ипостаси?
Для ответа нам необходимо привлечь новую онтологическую категорию – не для устранения установленного выше различия между биологической и церковной ипостасью, а для того, чтобы выразить их реальное соотношение. Их столкновение оборачивается парадоксом человеческого существования. Человек существует в своей церковной идентичности не таким, каков он уже есть, а каким еще только станет; его церковность связана с эсхатологией, т. е. с конечным результатом его жизни.
Это видение человека с точки зрения его «телоса» не связано с Аристотелевым представлением об энтелехии, т. е. с идеей потенции человеческой природы, которая позволяет ему стать лучше, совершеннее, чем сейчас[57]57
Понимание человека Тейяром де Шарденом не имеет никакого отношения к патристическому богословию.
[Закрыть]. Все, что здесь до сих пор говорилось, исключает возможность рассматривать личность как эманацию субстанции, или природы (и даже Самого Бога – как природу). Следовательно, и понимание церковной ипостаси, т. е. личности в собственном смысле слова, исключает ее трактовку как возможного результата биологической или исторической эволюции человеческого рода[58]58
В этом состоит фундаментальная разница между христианством и марксизмом.
[Закрыть]. Положение, характеризующееся надеждой на обретение церковной идентичности в такой парадоксальной ипостаси, которая укоренена в будущем, а свои ветви раскинула в настоящем[59]59
В Послании к евреям (11:1) термин «ипостась» используется точно в таком значении, которое я пытаюсь здесь описать, а именно в значении бытия, укорененного в будущем, т. е. в эсхатологии.
[Закрыть], вероятно, лучше всего можно было бы описать иной онтологической категорией, которую я назвал бы сакраментальной или евхаристической ипостасью.
3. Все, что мы представляли как отличие ипостаси церковной от биологической, в историческом и духовном отношении имеет одно прямое соответствие – святую Евхаристию. Преодоление онтологической необходимости и замкнутости биологической ипостаси составляет опыт, предполагаемый сутью Евхаристии, если, конечно, она понимается адекватно и просто, т. е. не так, как это встречается даже в православии под влиянием западной схоластики. Евхаристия – это прежде всего собрание (синаксис) [60]60
Термин έκκλησία в своем первоначальном христианском употреблении остается вполне привязанным к евхаристической общине. См. мою работу «Единство Церкви в святой Евхаристии и епископе в первые три века» (Ή ένότης τής Εκκλησίας έν τή θεία Ευχαριστία καί τω Έπισκόπφ κατά τους τρεις πρώτους αιώνας. ’Αθήνα, 1965. Σελ. 29–59).
[Закрыть], община, система отношений, в которой человек живет не как биологическое существо, поскольку здесь он становится членом такого тела, в котором преодолевается всякая изолированность биологического или социального характера. Евхаристия представляет собой уникальный для человечества контекст жизни, в котором термины «отец», «брат» и т. д. утрачивают свою родовую привязку и обозначают, как мы видели, отношения всеобщей любви и свободы[61]61
Если Молитва Господня была, как выясняется, с самого начала евхаристической молитвой, тогда особое значение приобретает то, что выражение «Отец наш Небесный» ставится в очевидное противопоставление обычным отношениям каждого верующего со своим земным отцом. Показательна здесь и история употребления слова «отец» применительно к клирикам. Первоначально это касалось только епископа, причем именно потому, что он восседал «на месте Божьем» (Игнатий) и возносил благодарение. Затем это перешло на пресвитеров, когда им была усвоена роль предстоятеля евхаристического собрания в связи с образованием приходов. Говоря о соборности евхаристической общины, т. е. о преодолении в ней естественных и социальных разделений, вспомним о строгом древнем каноническом ограничении, согласно которому в одном месте и в один день могла служиться только одна Евхаристия. Это предписание (которое сегодня православные «деликатно» обходят воздвижением другого престола или служением другого священника в том же храме и в тот же день) имело целью на практике сохранять возможность всем верующим одной местности участвовать в одном евхаристическом собрании. Я оставляю в стороне другую новоявленную практику служения Евхаристии для определенных групп христиан, выделяемых по социальному (студенты, ученые и т. д.) или возрастному (маленькие дети и т. п.) признаку, а то и специально для членов организаций. Здесь мы имеем дело с еретическим нововведением посреди православия, отрицающим кафоличность евхаристической общины.
[Закрыть]. Патристическое богословие усматривало в Евхаристии историческую реализацию определенного философского принципа, утверждающего такое понятие личности, которое не частично, а во всей своей полноте выражено ипостасно. Христос здесь «раздробляется, но не разделяется», и каждый причастник становится всецелым Христом и всей Церковью, т. е. церковность исторически исполняется в Евхаристии. Этим объясняется, почему Церковь всякое свое действие связывает с Евхаристией. Смысл ее, как и всего, что мы называем церковными таинствами, состоит в том, чтобы человек преодолел свою природную ипостась и смог стать подлинной личностью. Таинства, утратившие связь с Евхаристией, превращаются в благословение и утверждение ценности биологической ипостаси. Но в своем евхаристическом выражении они, напротив, означают ее преодолеваемость в эсхатологической перспективе[62]62
Об изначальной связи таинств с Евхаристией см.: Τρεμπέλας Π. Ή Θεία Ευχαριστία κατά την συνάρθρωσιν αυτής προς τα άλλα μυστήρια και μυστηριοειδεΐς τελετάς // Ευχαριστήριον (Сборник статей в честь А. Аливизатоса). Αθήνα, 1958. Σελ. 462–472. Богословское значение этих литургических взаимоотношений очень велико. Например, было бы ошибкой рассматривать брак как простое подтверждение и благословение естественного действа. Будучи органически связан с Евхаристией, он напоминает о том, что хотя новобрачные и благословлены создать свою собственную семью, их ипостасность в конечном итоге утверждается более высокими и фундаментальными отношениями, которые характеризуют не семью, а Церковь, актуализируемую в евхаристическом собрании. Это эсхатологическое преодоление биологической ипостаси выражается также в возложении венцов на жениха и невесту, однако оно и экзистенциально, и по смыслу пропадает, как только чин венчания отделяется от Евхаристии.
[Закрыть].
Именно этот эсхатологический характер Евхаристии позволяет ответить на вопрос: как соотносятся церковная и биологическая ипостаси? Евхаристия – это не только собрание, проходящее в одном месте, но еще и историческая форма проявления и исполнения эсхатологичности человеческого бытия. Оно поэтому выявляется Евхаристией, которая таким оказывается процессом, продвижением к цели. Итак, собрание и движение – вот два фундаментальных свойства Евхаристии, которые, к сожалению, утратили свою силу в современном вероучении, даже в православной церкви, хотя именно они и составляют сердцевину святоотеческого евхаристического богословия[63]63
В «Мистагогии» Максима Исповедника святая Евхаристия понимается как движение к определенной цели (то πέρας). Это измерение Евхаристии ослабляется в толкованиях поздневизантийского периода и совершенно утрачивается в современных догматических пособиях.
[Закрыть]. Кроме того, они же создают литургическую основу Евхаристии. Это поступательное литургическое движение с его эсхатологической направленностью подтверждает, что церковная ипостась в своем евхаристическом выражении есть нечто не от мира сего и принадлежит не столько истории, сколько ее эсхатологическому преодолению. Церковная ипостась открывает в человеке личность, которая укоренена в будущем и непрерывно вдохновляется или даже сохраняется и питается будущим. Истина и личностная онтология принадлежат будущему, это образы грядущего мира[64]64
У св. Максима есть сжатый пересказ патристической (кто-то мог бы сказать «библейской») онтологии, где подлинная суть вещей совпадает у него с их будущим: «Ибо тень – это удел вещи в Ветхом Завете, образ – в Новом, а истина – в будущем веке» (Schol. in Hier. Eccl. (Схолии к трактату «О церковной иерархии»). 3. 2. 1 //PG. 4. 137 D). Ср. далее, гл. 2.
[Закрыть].
Какое же значение имеет эта ипостась для бытия человека, которая «есть осуществление (ύπόστασις) ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11:1)? Не возвращает ли это нас к трагизму личностности?
В эсхатологическом характере церковной ипостаси несомненно присутствует своего рода диалектика, диалектика «уже, но еще не», которая пропитывает Евхаристию[65]65
См., напр., Откровение св. Иоанна Богослова: несмотря на то, что самым реальным в нем предстает присутствие Христа на Евхаристии, возглас «Гряди, Господи!» и уверение «Се, гряду скоро» (22:8—17) превращают Того, Кто присутствует, в Того, Кто ожидается, или, иначе, представляют Его присутствие как ожидаемое. Cp.: Didache (Дидахи). 9, 10.
[Закрыть]. Через нее же человек как личность приходит к осознанию, что его истинная обитель не в мире сем, и отказывается помещать свою личную ипостасность среди ценностей этого мира[66]66
Так, становится хорошо понятно, почему, например, «корень всех зол – сребролюбие» (1 Тим 6:10) и по какой причине богатство исключено для Царства Божьего (Лк 6:24 и т. д.). Дело здесь не в морали, а в том, что ипостась, ее бытие и сохранность замыкаются границами мира сего, т. е. выражены субстанциально, а не личностно. (Можно ли считать простым совпадением, что слово ουσία довольно рано приобрело значение «владения» или «собственности»? См.: Лк 15:12; ср.: Еврипид. Неге. (Геракл безумствующий). 337; Аристофан. Eccl. (Женщины в народном собрании). 729.)
[Закрыть].
Церковная ипостась, преодолевающая биологическую, берет начало своего бытия в бытии Божьем и в том, чем она сама еще только станет в конце времен. Это придает церковной ипостаси аскетический облик[67]67
Смысл аскетики состоит в том, что чем меньше человеческая ипостась опирается на свою природную основу, тем больше сам человек ипостазируется как личность. Аскетика, однако, не отрицает «природу», а освобождает ее от онтологической необходимости биологической ипостаси. Она сообщает способность быть в подлинном смысле слова. Излишне говорить, что этого недостаточно для преодоления биологической ипостаси, если природа одновременно не будет ипостазирована в евхаристической общине. В нехристианских сотериологических доктринах аскетика также изображается как способ преодоления биологической ипостаси. Но только Церковь говорит о положительной стороне этого усилия, как об этом было только что отмечено в связи с Евхаристией. (В рамках исторической феноменологии религий когда-нибудь будет понято, что именно Евхаристия в своем подлинном значении есть важнейший отличительный признак христианства.) Личность невозможно себе представить вне аскетического измерения. Но в конечном итоге не монастырь оказывается средой, выявляющей личность, а Евхаристия.
[Закрыть].
Аскетический характер церковной ипостаси не означает отрицания мира или биологической стороны существования как такового[68]68
Λόγος φύσεως (внутренний принцип природы) не нуждается в преображении; его требует τρόπος φύσεως (способ осуществления). См.: Максим Исповедник. Ambiguorum Liber. 42 // PG. 91. 1340 ВС, 1341 С.
[Закрыть]; он отрицает биологическую ипостась. Аскетика признает биологическую природу, но желает ипостазировать ее в небиологической форме, сообщить ей реальное бытие, тем самым придать ей подлинную онтологию, т. е. вечную жизнь. Вот почему выше я утверждал, что эрос и тело должны быть не пренебрегаемы, а воипостазированы в соответствии с «модусом существования» церковной ипостаси. Аскетика, происходящая из евхаристической природы церковной ипостаси, именно тогда выражает подлинную основу личностности, когда воипостазирует эрос и личность в церковное бытие. Что это может означать на практике? Исходя из сказанного ранее, ипостасность человека создается не настоящим, а будущим, как это подчеркнуто в Евхаристии (или Самим Богом в евхаристическом действии Св. Троицы). В этом контексте эрос как экстатический порыв освобождается от онтологической необходимости и больше уже не приводит к самоизоляции, которая навязывается человеку его природными свойствами. Эрос становится свободным движением любви, расширяющейся до вселенских масштабов, т. е. любви, способной, сосредоточившись на ком-то одном как на индивидуальном выражении целого, увидеть в этой личности ипостась, в которой любовь объемлет всех людей и все существующее и в живой связи с которой ипостазируется все творение[69]69
Выдающееся экзистенциальное значение патристической христологии состоит в том, что способность личности возлюбить в одном лице всех и все отражает свойство Бога, Который, будучи Отцом, ипостасно любящим одного Сына (единородного), «в Сыне» способен возлюбить все творение, сообщая всему ипостасность: «все Им и для Него создано» (Кол 1:16).
[Закрыть]. Телесность как часть и ипостасное выражение человеческой личности также освобождается от индивидуализма и эгоцентричности, становясь высшим выражением общности – Телом Христовым, телом Церкви, телом Евхаристии. Так сам опыт жизни Церкви доказывает, что тело само по себе не означает изоляции и непроницаемости, а наоборот, выступает средством общения в любви. В своей церковной ипостаси вместе с индивидуализмом и замкнутостью тело преодолевает даже собственный естественный распад, т. е. смерть. Будучи, как тело общения, свободным от действия биологических законов, от давления индивидуализма и самоизоляции, не должно ли оно в конце концов найти освобождение и от самого закона смерти, который есть всего лишь обратная сторона той же медали? Церковное бытие человека, его евхаристическое ипостазирование, создает залог, «аванс» окончательной победы человека над смертью. Это победа не природы, а личности, и, следовательно, победа не человека с его самодостаточностью, а личности в ее ипостасном союзе с Богом, победа человечности Христа, как она выражена в святоотеческой христологии.
Здесь и проходит водораздел между евхаристической ипостасью и гуманистической трагедией личности. Несмотря на весь трагизм всецелого проживания в биологической ипостаси, из которого исходит и христианская аскетика[70]70
Сходства, которые на первый взгляд существуют между пониманием человека в святоотеческой аскетике и интуициями современного экзистенциализма, коренятся именно в этом. Однако отцы-аскеты не исчерпывают идею личности одной лишь биологической ипостасью, необходимо предполагая и ее эсхатологическое преодоление.
[Закрыть], бытие человека выводится не из того, что есть в наличии, – оно укоренено в будущем, залогом и авансом которого стало Воскресение Христово. Чем чаще человек чувствует вкус этой ипостасности и опытно ее переживает, тем больше он утверждается в своем убеждении, что личность, ипостазируемая в любви, свободной от онтологической необходимости и самозаключенности, никогда не умрет. Когда евхаристическая община хранит живую память о своих возлюбленных, живых или мертвых, – это не просто душевное воспоминание, а онтологический акт, подтверждающий, что именно личности принадлежит последнее слово в отношениях с природой, как и самое первое слово принадлежит не безликой божественной природе, а Личности Бога-Творца. Библейская вера в творение «из ничего» встретилась с греческой верой в онтологию затем, чтобы передать в дар мысли и бытию человека драгоценное сокровище – личность. Именно этим, не меньше, мир обязан богословию греческих отцов.