Читать книгу "Основы истории философии. Том первый – Философия античности"
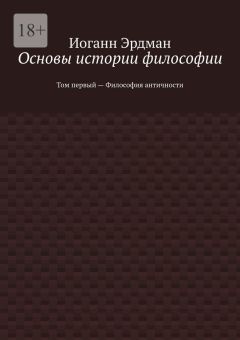
Автор книги: Иоганн Эрдман
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Gust. Teichmüller a. §24 a. O. Paul Tannery, Un Fragment d’Anaximene, im Archiv f. G. d. Ph., I, 1887. Ebenda Aless». Chiapelli, Za Pythagoras and Anaximenes.
(1) Анаксимен, сын Евристрата из Милета, конечно, не мог родиться в 01.63 г. и умереть во время завоевания Сард, как об этом сообщает Диоген согласно Аполлодору. Не исключено, что его расцвет (μχμη) следует отнести ко времени завоевания Сард Киром, а 01.63 – к дате его смерти. Анаксимен был младшим современником Фалеса и Анаксимандра. Его называют учеником последнего, в то время как он приближается к первому через свое учение; возможно, он лично знал обоих, что также объясняет промежуточное положение между ними генетически. Теофраст все еще был знаком с его письмом на ионийском диалекте и обсуждает его в отдельном сочинении. Все последующие авторы, похоже, черпали информацию у него и Аристотеля.
(2) Анаксимен также ищет принцип, который лежит в основе всего определяемого и поэтому является общим и бесконечным, но в то же время он хочет, чтобы он был определен качественно. Если он теперь говорит не о воде, как Фалес, а о воздухе, что он есть принцип и бесконечное, из которого все проистекает, то, возможно, к этому его подтолкнуло соображение, что вода не может принимать какие-то качества, но, несомненно, что живительное дыхание, которое он рассматривает как одно целое с душой, и небо, окружающее вселенную, – это воздух. Как у Фалеса вода, так и у него воздух несет в себе землю, плавающую в нем подобно тарелке. Что касается выведения человека, то ясно, что он допускает возникновение всего через конденсацию и разрежение и, вероятно, был первым, кто подробно остановился на этом выведении. Если, однако, он также вводит контраст холодного и теплого, он снова выступает здесь как посредник между методом деривации Фалеса и Анаксимандра, посредник, который облегчается тем, что теплое и холодное дыхание – это только разрежение или конденсация дыхания. Более вероятное сообщение о том, что он создал облака из воздуха, воду из облаков и землю из земли посредством осадков, противопоставляется другому, согласно которому земля была первым продуктом. Возможно, последнее относится к телу земли, которое содержит все элементы, а первое – к элементу земли. Тело земли образует центр мира; из паров, поднимающихся от земли небесные тела, которые движутся вокруг нее и состоят из земли и огня. То, что само по себе вероятно, подтверждается явными свидетельствами о том, что все должно вернуться в воздух.
§27.
С Анаксименом группа взглядов замыкается в круг, поскольку тезис «качественное», антитезис «без качества» и синтез «тем не менее качественное» не требуют и не допускают никакого дальнейшего развития. Материально тоже ничего больше не делается в чисто физиологическом направлении. С другой стороны, появляется человек, который стремится доказать молчаливые предпосылки, из которых исходили милезианцы, поскольку они оспаривались с другой точки зрения, и тем самым, как это всегда делают защитники взглядов, формально продвигает учение физиологов. Поскольку точка зрения, с которой оспариваются предпосылки милезианских философов, единство и материальность принципа, выше, чем их, Диогена Аполлонийского можно назвать реакционером. Как и все те, кто защищает преодоленную вещь, он демонстрирует большую субъективную значимость своих достижений, при этом сама вещь объективно не оспаривается им. То, что Шлейермахер относится к нему с такой любовью, а Гегель даже не упоминает о нем, объясняется следующим.
§28.
D. Диоген АполлониатSchleiermacher, Ueber Diogenes von Apollonia, Akad. Vorl. 1811. WW. III, 2. p. 149 ff. Гиль. Schorn, Anaxagorae Clazomenii et Diogenis Apolloniatae fragmento, Bonnae 1829. Fr. Panzerbieier, Diogenes Apolloniates, Lips. 1830. mr. Diels, Leakippos and Diogenes von Apollonia, im Rhein. Museum, XLII, 1887. G. Geil, Die schriftst. Thätigkeit des Diog. v. Apoll. in den Philos. Monatsh. 26, 1890.
1 Диоген родился, по-видимому, в Аполлонии на Крите и, следовательно, был, вероятно, дорийского происхождения, но, как и все писатели φνσεως, он пользовался ионийским диалектом. Его несомненную современность с Анаксагором можно примирить только с весьма вынужденным предположением, что он слышал Анаксимена. Вероятно, он усвоил его учение через традицию, а также учение Анаксимандра. Труд, от которого до нас дошли фрагменты, был, возможно, его единственным, а другие цитируемые работы были лишь его подразделами.
(2) Как того требует его историческое положение, Диоген требует большего формального совершенства доктрины путем установления фиксированного принципа, а также простого и достойного изложения. Поэтому он стремится прежде всего доказать то, что до сих пор было молчаливой предпосылкой, – что первоначальная субстанция только одна, а все остальное – лишь модификации этой субстанции. Если бы это было не так, то не было бы ни смешения, ни связи различных вещей, не было бы также развития и перехода, поскольку все это мыслимо только при переходе одной вещи (постоянной вещи) в другую. Но если существует только одна-единственная основная субстанция, то из этого сразу же следует вывод, что нет никакого действительного становления, а есть только изменение. Во-вторых, Диоген сознательно, как и его предшественники бессознательно, отрицает все нематериальное. Он не только прямо называет первоначальную субстанцию, видоизменением которой является все сущее, σώμα, но уже знает, что существует различие между материей и духом, и, очевидно, в противовес такому дуализму утверждает, что разум, который для него совпадает с жизненной силой и ощущением, имманентен воздуху и что без него нельзя мыслить. Поэтому все, даже неорганические существа, но особенно человек, получает жизнь и познание через дыхание. Физиологические примеры, такие как пенообразная природа спермы, должны служить доказательством витализирующей природы воздуха. Эта попытка отстоять прежний монизм против дуализма превращает беспристрастный гилозоизм в материалистическое учение.
(3) Как и Анаксимандр, Диоген также выводит индивидуальное из холодного и теплого с помощью антитезы; как и Анаксимен, он отождествляет его с плотным и тонким, но затем приравнивает оба к тяжелому и легкому. Поскольку он, как говорят, заимствовал у Анаксимандра, что море – это остаток, то сообщение о том, что он превратил в принцип среднее существо между воздухом и огнем, вероятно, следует изменить так, что это среднее существо уже было вторичным, как и у Анаксимандра. Отделив тяжелое от легкого, Земля отделила себя от небесных тел, чье круговое движение, как говорят, является следствием тепла. Поскольку они питаются испарениями земли, она становится все суше и суше и приближается к полному высыханию. То, что он далее говорил о бимороподобной природе звезд, было, вероятно, заимствовано у Эмпедокла или Анаксагора и, возможно, способствовало тому, что его обвинили в атеизме. В воздухе участвуют все отдельные вещи, но каждая по-своему и в соответствии с различными степенями теплоты, сухости и т. д. Сам воздух, по-видимому, имеет не только различные степени теплоты, но и различные степени плотности. Отдельные человеческие души также отличаются друг от друга только тем, что по-разному участвуют в принципе жизни и познания. В целом Диоген, как показывают и его исследования вен, сделал объектом своего исследования живое, и прежде всего человека.
§29.
Если философия есть самопонимание разума, то доказательство того, что философская система не понимает себя, есть также доказательство того, что она не является полностью (т. е. не является завершенной) философией, а значит, подлежит исключению. Но именно так обстоит дело с чистыми физиологами. Если бы они понимали себя, то признались бы себе, что их интересует не вода или воздух, а то, что во всем постоянно, существенно и сущностно, и что не это выводит их за пределы растительного и животного, что это животное и растительное, а то, что меняется и является лишь видимостью. Таким образом, речь идет не о чувственно воспринимаемых субстанциях, а о пребывающих и изменяющихся, то есть о мыслительных определениях, категориях. Найти это разуму мешает райское великолепие Востока, в котором внешний мир настолько занимает человека, что даже тот, кто начинает размышлять, подобно Диогену, всегда думает, что его интересует теплый воздух. Сумерки окцидентального мира, напротив, приглашают разум поразмышлять о себе, делая открытие, что не то, что представляется чувствам как наиболее изменяемое, решает загадку всего существования, а только то, что можно найти с помощью мышления. В тех колониях Великой Греции, которые, даже если их происхождение иное, дышат более или менее дорийским духом, появляются чистые метафизики, составляющие диаметральную противоположность чистым или простым физиологам. Если последние стремятся вывести все из материальной субстанции, то третьи – из мыслительных детерминаций. Разрыв с физиологическим мировоззрением обозначен тем, что первыми метафизиками были ионийцы, которые, однако, эмигрировали из страны натурфилософии, отдалившись от нее в результате путешествий.
II. Чистые метафизики
§30.
Какие детерминации мысли должны возникнуть сначала как существенные и всеопределяющие, было установлено развитием философии до сих пор. Если всякая множественность объясняется сгущением и разрежением, то разум, размышляя о самом себе размышляя о себе, должен прийти к выводу, что все различия сущности превратились в различия более простого и более простого, меньшего и большего, то есть в различия числа. Но если различия сущности – это только различия числа, то из этого следует, что сущность и число – это одно и то же. Если гораздо более развитое мышление Платона все еще любит описывать отношения между существенным и случайным как отношения одного и многих, то понятно, что там, где полет метафизического мышления только начинается, эти количественные категории кажутся вполне достаточными. Как справедливо отмечали философы древности и современности, они являются как бы посредниками между физическим и логическим и, таким образом, представляют собой наиболее удобное средство для облегчения большого шага от первого ко второму путем деления. Математическая школа Пифагора, таким образом, демонстрирует первые зачатки логического направления.
A. Пифагорейцы (математики)
§31.
a. Исторический аспект
Работы Гладиша и Рюта см. выше к §17. A. Ed. Chaignet, Pytha– gore et la Philosophie Pythagoricienne, 2 vols., Paris 1873. L. v. Schröder, Pythagoras und die Inder, Leipzig 1884. Erw. Rohde, Die Quelle des Jamblichus in seiner Biogr. d. Pythagoras, im Rhein. Museum 1871, 72, 79.
Недостоверный характер трех биографий Пифагора, дошедших до нас из древности, и противоречия, которые выдвигали против них более здравые авторы, вызвали необходимость критических исследований, которые привели к противоположным результатам, в зависимости от того, выступал ли критик за оригинальность всего греческого, был ли он в душе индо-египтоманом или собственно египтоманом. В первой половине нашего века преобладала первая односторонность, поэтому противоположность, представленная, например, Рётом, казалась новшеством своего времени, чего не было в более ранние времена. Все согласны с тем, что Пифагор родился на Самосе как сын камнереза Мнесархоса. Не исключено, что он был потомком тирренских пеласгов, что, возможно, объясняет его склонность к мистическим практикам. Большинство современных авторов помещают его в OL.49, то есть между 584 и 580 годами до н. э. Он покинул родину на сороковом году жизни и переехал в Кротон в Великой Греции. Сведения о его многочисленных путешествиях, особенно на Восток, невероятны; не доказано даже его путешествие в Египет. Более специализированные конструкции этих путешествий произвольно скомпонованы Рётом из ненадежных источников. Вероятно, Пифагор уже начал свою преподавательскую деятельность на родине. Возможно, он умер в Метапонте около OL.69. Мы ничего не знаем о его учителях. Менее вероятно, что он был учеником Анаксимандра.
Вероятно, Пифагор уже начал свою преподавательскую деятельность на родине. Возможно, он умер в Метапонте около OL.69. Мы ничего не знаем о его учителях. Маловероятно, что он был учеником Анаксимандра. Однако не исключено, что верна старая традиция, согласно которой он был учеником Ферекидеса из Сироса. Однако она не вносит большого вклада в историческое понимание его учения. Ведь особенности пифагорейского мировоззрения так же далеки от космологических поэм в «Пяти ключах» Ферекида, как и от доктрин Анаксимандра, старшего современника Ферекида. С другой стороны, остается возможность, что аналогии, которые, согласно более поздним сообщениям, возникают между образом жизни Ферекида и Пифагора*, построены для Ферекида по модели Пифагора из предпосылки той исторической общности между ними. – Античный мир слишком единодушен в своих рассказах о некой окутанной особой тайной общине, к которой принадлежали ученики Пифагора, чтобы можно было сомневаться в ее существовании. В то время как большинство людей середины нашего века приписывали этой группе религиозное, возможно, также политическое, но уж точно не научное значение, Рёт попытался сместить акцент более узкой школы, «пифагорийцев», на научные доктрины. Но в этом построении, как и в своих предположениях о тайных религиозных учениях школы, он мог опираться лишь на произвольные детали позднейшей пифагорейской легенды, так что его предположения, даже если они и были временно приняты в более широких кругах, оставались по сути неактуальными для научных исследований. Сам Пифагор, возможно, приписывал себе сверхъестественные способности; еще больше их ему, несомненно, приписывали ранние последователи. Основную черту его интеллектуальной жизни мы должны искать в его религиозных начинаниях, которые ставят его в тесную связь с соответствующими движущими силами того времени в развитии мистических культов. Более глубоко, чем в этих культах, этические требования, по-видимому, были связаны с его религиозными начинаниями, как это было в кругу его ближайших учеников. Несомненно, что основные моральные и религиозные чувства основателя характеризовали не только его собственный образ жизни, но и образ жизни его учеников, что отражалось, прежде всего, в его партийной позиции, в его оппозиции демократическим движениям того времени, а также в ряде социальных институтов, в различных диетических предписаниях и, возможно, даже во внешнем облике. Мы уже не можем определить, в какой степени были организованы отдельные пифагорейские ассоциации в городах Великой Греции, и даже в какой степени различные ассоциации были связаны друг с другом. Из иногда туманных, иногда противоречивых сообщений мы также не можем понять, пережил ли сам Пифагор отпадение своей партии от политической власти. Несомненно лишь то, что политическое влияние Лиги было уничтожено в Великой Греции к середине V века (она лишь временно приобрела новое значение при Архите, примерно в первой половине IV века), и что уничтожение светской власти послужило толчком не только к распространению, но и к углублению научного учения пифагорейства. Насколько сам Пифагор философски обосновал свое учение, судить сложно. Основная часть философских учений школы, которая, безусловно, может быть признана пифагорейской, относится, по-видимому, к периоду после распада членов договора. Однако, учитывая суждения Гераклита о Пифагоре, трудно оправдать полное исключение родоначальника школы из списка философов.
§32.
b. Учение пифагорейцев
Ср. труды, упомянутые в §31. H. Ritter, Geschichte der pythagoreischen Philosophie, Berlin 1826 (Против этого: E. Reinhold, Beitrag zur Erläuterung der pythagor. Metaphysics, Jena 1827). Chr. Äug. lirandi», Ueber die Zahlenlehre der Pythagoreer und Platoniker, in 2. Jahrg. des Rhein. Museum (1828). Rothenbucher, Das System der Pythagoreer nach den Angaben des Aristoteles, Berlin 1867. Mullach, Fragm. Philos. Gracc., I, 383—575; II, 1—129 – Подробно: Aug. Bockh, Philolaus des Pythagoreers Lehren nebst den Bruchstücken seines Werkes, Berlin 1819. Carl Schaarschmidt, Die angebliche Schriftstelleret des Philolaus, Bonn 1864; и в дополнение Zeller, Die Philosophie der Griechen, I, 1, 5th ed. p. 297 ff. – Gust. Hartenstein, De Archytae Tarentini fragm., Leipzig 1833; Fr. Beckmann, De Pythagoreorum reliquiis, Bero. 1844, 50; quaest. Pythagor., I-TV, Brauneberg (Lect. lat.) 1852, 55, 59, 68; – A. Nayck, in Jamblichus de vita Pythug., Petersburg 1884, p. 199 ff. – A. Unna, De Alcmaeone Croton., in Philol. histor. Studien by Chr. Petersen 1832; Rud. Hirzel, Zur Philos. des Alkmäon, in Hennes XI, 1876.
1. Главными источниками для пифагорейских доктрин являются дошедшие до нас аристотелевские сведения, а также сведения из «Литератора» его школы. Более разнообразные и важные, но еще более тревожные из-за их обилия, а тем более из-за их зависимости от более поздних учений, сведения сохранились от неопифагорейской литературы. Филалаос, старший современник Сократа, скорее всего, является самым древним литературным представителем пифагорейской философии через свое сочинение περί φνσεως. Большинство высказываний, дошедших до нас в виде фрагментов этого произведения, похоже, подлинные, в то время как подавляющее большинство тех, что приписываются тарентинскому Архиту, следует считать поддельными. Филолай и Лисий преподавали в Фивах. Ученики Филолая Симмиас и Кебес сделали его учение известным в сократических кругах; третий, Эвритос, похоже, оказал большее педагогическое влияние в Греции. Врач Алкмеон, младший современник Пифагора, Гиппас из Метапонта и сиракузец Экфантос, оба примерно времен Филолая, и, наконец, комедиограф Эпихарм были близки к пифагорейству.
2. Аристотель называет в качестве причины, по которой пифагорейцы не предполагали чувственной первоматерии, а видели в элементах чисел первооснову всех вещей, во-первых, то, что числа являются принципом всей математики, во-вторых, что вся гармония основана на отношениях чисел, в-третьих, что отношения природных явлений также основаны на числах. Филолай приводит аналогичные доводы. Помимо этих объективных причин, пифагорейцы никогда не отрицали принцип всего этого периода, согласно которому подобное познается подобным. Рассказы противоречат друг другу в том, как они представляли себе связь чисел с вещами. Следует воздержаться от предположений, как у Рёта, что числа служили пифагорейцам лишь символическими или тропическими обозначениями, так что, поскольку, согласно пифагорейскому (то есть египетскому) учению, материя состояла из двух субстанций, ее стали называть «двумя», как мы говорим о «двенадцати» и подразумеваем апостолов, или о злой «семерке» и смертных грехах. Аристотель характеризует числа в пифагорейском смысле и так, что они сами являются вещами, то есть неизменной сущностью вещей, и так, что они являются архетипами вещей, в соответствии с которыми эти вещи образуются; и это в контекстах, которые заставляют предположить, что оба утверждения призваны отразить пифагорейскую доктрину одним и тем же способом. Таким образом, пифагорейцы еще не проводили различия между этими двумя разными идеями. Если взять Филолая как представителя строго научных пифагорейцев, то их доктрина состоит в том, что числа – это реальные вещи; поэтому у них развитие чисел происходит не только путем синекдохи, но и действительно, с развитием вещей, система чисел совпадает с миром.
3. То, из чего состоят все числа, их основание или принцип, который по этой самой причине часто называют их происхождением (γονή) или порождающим отцом, есть, хотя и только по более поздним сведениям, Единое (έν) или Единство (μονας), которое, поскольку оно содержит все числа в себе, часто называется числом вообще. Теперь числа возникают из единого как их общего корня в силу оппозиции неопределенного (άπειρον или также αύριστον) и предельного (τὰ περαίνοντα, но также в единственном числе τὸ περαῖνον, которое Платон называет более кратко τὶ πέρας), что так важно для всей системы. Даже если оправданно называть введение ἐναντία для обозначения производных вещей ссылкой на Анаксимандра, нельзя упускать из виду то большое различие, что физические противоположности холода и тепла и т. д. были заменены логическими. Тот факт, что то же самое слово, которое Анаксимандр использовал для обозначения принципа, здесь используется для обозначения только одной и даже, как будет вскоре показано, подчиненной стороны этого принципа, показывает, что милезийские физиологи сознательно вышли за его пределы. Ограничивающий элемент постоянно обозначается как более высокий и более мощный, но над обоими возвышается единство, которое он содержит как связанное внутри себя; поэтому он называется гармонией, и это одно и то же, говорим ли мы о числе или о гармонии. Это единство без противоположностей является высшей мыслью в этой системе, следовательно, Богом ее, и не имеет особого значения, раньше или позже для него было использовано имя Бог или Божество. Возникновение чисел из Единого или вещей из Бога происходит, как я уже говорил, в силу этой противоположности. Но поскольку она сама по себе понимается самым различным образом и поскольку в ранние времена было зафиксировано десять различных ее версий, очень легко примириться с тем, что, по мнению одних, пифагорейцы выводили все из числа, а по мнению других – из десяти противоположностей. Последние, если верить более поздним сообщениям, являются вторичными принципами, а не первоэлементом; это только один из них. Противопоставление четного и нечетного, которое также встречается среди этих десяти, было, вероятно, первым, что поразило пифагорейцев, рассуждавших о числах, и, возможно, только через обратную абстракцию они пришли к предположению, что зародыш этого противопоставления среди чисел находится в общем корне всех. Нечетное, как соответствующее предельному, принимается за высшее, и достоинство нечетных чисел основано на силе, которую они проявляют в том, что, добавляясь к другому, они изменяют его природу, далее на том, что только они имеют начало, конец и центр, наконец, на том, что все они являются разностью квадратных чисел и, таким образом, пространственно понятые, всеобъемлющие, постигающие гномоны. Если единица, поскольку она стоит над всем, то есть также над этой противоположностью, называется ἆρτιοπὲριττον, то это слово не следует понимать в том смысле, в каком его обычно употребляют математики. На то, что нечетные числа располагаются выше четных, указывал Гладиш в своем параллелизме пифагорейского учения с китайским, и опять же тот факт, что среди противоположностей есть также противоположность между светом и тьмой, добром и злом, побудил многих в древние и современные времена принять заимствования из парсизма.
Если среди различных выражений этого противопоставления встречается и He ἓν καὶ πλῆθος, то это, с одной стороны, показывает предпочтение, отдаваемое одной стороне, а с другой стороны, имеет следствием возможность недоразумений относительно того, означает ли ἓν сам принцип или только момент. Различие, которое позднейшие авторы проводили между μονας и ἓν, осталось неплодотворным из-за того, что именно то, что один человек называет ἓν, другой называет μονάς; различие между первым и вторым, которое также имеет место, в любом случае более ясно. Момент множественности, противоположный (второму) Единому, иногда также называется δυάς, а позднее, чтобы отличить его от числа два, δύας ἀοριστος. Геометрически эта противоположность мыслится как противоположность между прямоугольником и квадратом, логически – как противоположность между движущимся и неподвижным, физиологически – как противоположность между женским и мужским, левым и правым, всегда таким образом, что первый член пары представляет ἄπειρον, второй – περαίνοντα.
4. Поскольку противоположности, находящиеся в абсолютном едином, встречаются за его пределами, возникает система чисел или вещей. Поскольку арифметическая концепция еще не отделена от геометрической, как это было позднее, не только числа, но и моменты числа сразу же представляются пространственными, и поэтому понятие неопределенного совпадает с понятием пустого, как неопределенная пространственность, которая затем, вероятно, также представляется как дышащая (определяемая). Затем она противопоставляется предельной как пространственности, заполняющей пустоту, которая часто обобщается в слове небо (т. е. Все). Отсюда и выражение, на первый взгляд поразительное, что, втягивая или вдыхая в себя пустоту, небо тем самым создает διαστήματα и тем самым множественность, которую наш абстрактный способ говорить, не меняя мысли, заменил бы: единство заменяется противоположностью и тем самым возникает множественность; вся множественность, следовательно, и множественность моментов, следующих друг за другом, и тем самым время. Чем больше продвигается пространственный взгляд, тем ближе эта метафизика к физической теории. Возможно, именно поэтому Аристотель обвинял пифагорейцев в том, что их числа не μοναδικοι, то есть непространственны, и почему более молодой пифагореец Экфантос осмыслил их настолько физически, что вплотную подошел к атомистической теории пустоты и полноты. Если числа – это вещи и в то же время образуют систему, то понятно, что только у пифагорейцев вселенная была понята и описана как порядок (κόσμος). Но если невыразимое число или Единое было тождественно Божеству, то не может быть странным ни выражение, что миром управляет относительное, ни то, что его называют развертыванием (ένέργεια) Бога. Из этого выражения и изречения пифагорейца, что не первое есть совершеннейшее, а последующее, заключить вместе с Риттером, что мир стоит в эволюционном отношении к Богу, кажется тем более смелым, что это изречение, пожалуй, применимо только к отношению меньших и больших чисел. Оно соответствует действительности, если мир понимается здесь как коррелят Божества, а значит, как вечный и нетленный.
5. Что касается особенности производной, то первое совпадение ἐν и πλήθος, т. е. первое умножение единицы (или первое объединение множества) порождает двойственное число δυάς (не δυὰς ἀόριστος), которое в то же время является линией или первым измерением, подобно тому как точка совпадает с единицей, от которой она отличается только θέσις, т. е. пространственностью. Оба вместе дают τριάς, первое полное число, которое в то же время является числом площади, как и διχῆ, διαστατον. Самым совершенным числом, однако, является число четыре (τεῑρακιύς), не только потому, что оно есть число полной (τριχῆ διαστατόν) пространственности, но и потому, что в числовом ряду 1:2:3:4 даны существенные гармонические соотношения, αρμονία или διὰ πασῶν, διὰ πέντε или δι οξειών, δια τεσσάρων или συλλαβᾰ. Но если четверица – это пространство, содержащее все гармонические отношения, то поклонение ей, т. е. гармонически упорядоченной вселенной, вполне объяснимо. Поскольку 1+2+3+4=10, то δεκας – это лишь развитая тетрактида, и, таким образом, не только символ, но и наиболее точное выражение мира. По крайней мере, в позднейшем развитии учения мир предстает как десять божественных кругов, крайний из которых – круг огня или неподвижного звездного неба, внутри которого вокруг очага Зевса движутся семь планетарных кругов (включая солнце и луну), круг земной орбиты и, наконец, круг противоположной земли, скрывающий от нас прямой вид центрального огня, который мы видим только как отраженный (солнечный и лунный) свет. В прежние времена, когда Земля считалась неподвижным центром, идея о том, что семь движущихся и, следовательно, вибрирующих планет образуют гептахорд, была вполне объяснимой. Она несовместима с десятью движущимися кругами; вот почему Филолай больше ничего не знает о музыке сфер, которую мы не замечаем только потому, что всегда ее слышим. Как мировое тело, Земля, как и весь космос, подчиняется закону необходимости, но, с другой стороны, она образует центр подлунного мира, ονρανος или мира переменного, где случай также проявляет свою силу. Здесь, в Теллуре, совершенно иной характер пифагорейской физики по сравнению с ионийской сразу же становится очевидным в учении о стихиях. Земля и огонь восходят не к физическому противопоставлению холода и тепла, а к арифметическому противопоставлению первых четных и нечетных, а вода, как содержащая и то, и другое, описывается как первая четная-нечетная (в смысле математиков). Другие рассуждают геометрически, приписывая каждому элементу одну из пяти правильных твердых тел в качестве первоначальной формы (его атомов), где тетраэдр приписывается огню, куб – земле, икосаэдр – воде, октаэдр – воздуху и, наконец, додекаэдр – всеохватывающему (эфиру). Они также хотели доказать, что число четыре имеет физиологические функции, а Экстритойс, ученик Пкилолаоса, как говорят, настолько углубился в детали, что пытался присвоить каждой вещи число, выражающее ее сущность.
6. Физика пифагорейцев также включает в себя то, что они говорят о душе, т. е. принципе жизни. Они приписывают такой принцип самому миру; считается, что он пронизывает все из центра Вселенной как всепобеждающая гармония. Поэтому его, а иногда и центр тяжести вселенной, называют Единым, а не Объединителем. Следует ли понимать его как субстанцию отдельных душ, как их архетип, как, наконец, как целое, в котором они содержатся как части, – насколько вообще поднимались подобные вопросы, нельзя решить по описи наших источников. То, что душа человека – это число и гармония, согласуется с другими учениями пифагорейцев. Однако весьма сомнительно, что идея о том, что она есть гармония человеческого тела, может быть приписана пифагорейцам. Скорее, этот зародыш позднейшего учения о микрокосме и макрокосме принадлежит платонической мысли. Более того, утверждение о том, что тело – это темница души, как и связанная с ним теория переселения душ, имеет более экзотический привкус. Оба утверждения, а также учение о демонах и воздушных духах, казалось бы, не имеют никакой связи с учением о числах. Тем более не имеет отношения к их теории познания. Возможно, что различие между неразумной и разумной частью души является психологической основой этой теории, которая сама по себе представляется физиологически обоснованной тем, что отдельные функции души закреплены за конкретными органами тела. Более сомнительными представляются представления, в которых θυμὸς выступает в качестве посредника между ними. Само собой разумеется, что познание индексируется рациональной частью. Познание опосредовано числом, которое недоступно трюге; то, что ускользает от математического определения, непознаваемо, потому что оно ниже познания. Четыре степени познания выделяются, вероятно, только в более поздние времена и сопоставляются с первыми четырьмя числами: νους равномерно применяется к своему объекту, наука должна соответствовать числу два, мнение – числу три, восприятие – числу четыре. Нравственный дух, которым дышит все существо, а также учение Пифагора, заставил некоторых утверждать, что его философия – это, по большей части, этика. Это неверно, поскольку делаются лишь слабые попытки не только предложить моральное поведение, но и понять его суть. То, что Аристотель критикует в пифагорейцах, – то, что они установили математическую формулу для справедливости, – скорее заслуживает похвалы как последовательность; даже то, что они называли одно и то же ἀριθμὸς ἰσάκις ἴσος, если учесть, что они считают справедливость только возмездием. Неправдоподобно и то, что они определяли добродетель как здоровье души, в котором ἄπειρον (чувственное) подведено под меру, несмотря на приближение к платоновским и аристотелевским формулам. Это тем более очевидно, что они рассматривали справедливость, особенно в государственной жизни, и здесь сравнивали законодательную и судейскую функцию с гигиенической (гимнастической) и медицинской, с чем буквально соглашается платоновский Горгий. В аристократическом смысле они презирали πλῆθος, массы, и описывали анархию как величайшее зло. Даже отвращение к бобам рассматривалось, возможно, небезосновательно, как политическая демонстрация против демократического заполнения должностей по жребию, в дополнение к другим отношениям. Тот факт, что вся практика ограничивается сферой переменных, вероятно, был одной из причин, почему они ставили ее гораздо ниже теории и называли последнюю, особенно занятие научной теорией чисел, то есть тео– и космологией, истинным блаженством.









































