Читать книгу "Разговоры с Гете"
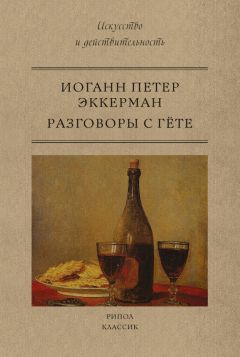
Автор книги: Иоганн Петер Эккерман
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Иоганн Петер Эккерман
Разговоры с Гёте

Десятилетие заката: Гёте в разговорах с Эккерманом
Томас Манн в романе «Лотта в Веймаре», наверное, самой известной прозе о великом Гёте, замечает, что почитатель свойств цвета, создатель «Учения о цвете», любил черные силуэты. Такое увлечение чужим увлечением, как изображает Манн, не было простым капризом гения: в силуэтах Гёте ценил «всю прелесть искусства ножниц», иначе говоря, ту стремительность рук, которая позволяет надолго запечатлеть образ человека как неминуемый след его присутствия.
Таким пространным силуэтом и стала книга «Разговоры с Гёте» И.-П. Эккермана. Понадобилось лишь заменить мелькание ножниц бойким пером молодого литератора, а монотонный след обернулся плотным сгущением духа целых эпох, вдруг счастливо встретившихся в 1823 г. Гёте был старцем, уже помышлявшим о смерти, и во всяком смысле, избравший уже смерть одной из мер своего творчества, и конечно, он честно думал о завещании. Но если для завещания имущества достаточно нотариуса, то чтобы завещать свои идеи, требуется живое участие множества острых умов. Эккерман, может быть, и не был слишком остроумен, но он всегда торопился показывать свои произведения мастеру, рассказывать свои мысли и даже делиться сокровенным, – но благодаря природной добросовестности он не раздражал такой спешностью, а наоборот, легче всех завоевывал собеседников. Поэтому его книга – это победы над лучшими свидетелями жизни Гёте, пусть даже эти свидетели – не живые люди, а книги и спектакли.
Неполное десятилетие до кончины поэта, которое Эккерман вел свои записи, возвращаясь к ним, обрабатывая и вписывая в литературное хозяйство, которым он занимался как секретарь и редактор, было не просто «непростым» для Европы – ни годами раньше, ни позже явно не было проще. Это было то самое время, в котором железные дороги вышли из Англии на континент, одно за другим создавались государства Латинской Америки, были найдены останки первого динозавра. Столь разные события объединены одним – будущей непременностью: одна построенная дорога или одна находка повлечет за собой другие. Время дворцовых коллекций и дворцовых телеграфов прошло, и в раскатах революций и контрреволюций рождалось производство знания, приумножающего себя не только технологиями, но и изобретениями и находками. Книга Эккермана – ответ на этот вызов: знание, которое приумножает себя только величием.
Иоганн Петер Эккерман, несмотря на всю свою пламенность, довольно поздно вошел в литературный и научный мир, что необычно для эпохи ранних карьер и нескрываемых юношеских амбиций. Геттингенский университет, тот самый, где за год-два до него должен был учиться пушкинский Ленский, Эккерман закончил только в 30 лет, в 1822 г., да и то не получив диплома, слишком увлекла его литературная жизнь и горизонты, внезапно перед ним открывшиеся. Столь позднее созревание обязано скорее внешним обстоятельствам, чем внутренней потребности: Эккерман воевал добровольцем против Наполеона, но и после демобилизации остался для заработка трудиться в военной канцелярии Ганновера. Сам он желал стать живописцем и даже брал уроки живописи, но в Германии после наполеоновских войн слово ценилось больше холста. Когда выяснилось, что слово, устное, рукописное и тем более печатное, потрясает престолы и движет армиями, то мастерство в слове и стало означать принадлежность эпохе обновления.
Знакомство с Гёте, как часто это бывает, состоялось случайно: начинающий писатель показал мастеру свои опыты. Обычно такие встречи оборачиваются удачами и неудачами без всякого закона: мастера могут равнодушно пройти мимо значительных явлений в мировой литературе – и вовсе не потому, что они остались в своем времени. Просто ближе к старости писатель переосмысляет многие свои ранние труды и заботы, болезненно передумывает задуманное и уже выполненное много лет назад; и ни внимания, ни сил не хватает на необычное, оказавшееся рядом. Но Гёте не был равнодушен к известиям из мира молодых: во-первых, он считал себя законодателем и судьей, а плох судья, который не знает, чем живут люди, а во-вторых, молодые писатели готовы были извлечь для себя пользу из самого внимания к ним старших, даже мимолетного. Так поступил и Эккерман: доброжелательство Гёте стало для него поводом к расспросам и долгим беседам о том, как вообще искусство может расположить к себе и расположить нас к миру.
Сам Эккерман признавался в начале книги, что с детства пасший коров, он мечтал о призвании художника затем, чтобы несколькими верными штрихами передать живые впечатления сердца. Но встреча с Гёте его переменила: верность стала означать не решительность усилий, а открытое внимание, восприимчивое и в час труда, и в час досуга, а живые впечатления оказались не так важны в сравнении с жизненностью мыслей Гёте, требовавшего непосредственности воображения не только при решении текущих задач, но и при обращении с тяжелым и зачастую малоприятным наследием прошлого, которое приходится сознавать за собой и держать при себе.
Эккерман стал и первым признанным специалистом по Гёте. Специалист в литературоведении – это издатель сочинений, собиратель архива, при этом дотошный интерпретатор текстов. Эккерман, хотя и не принадлежал к братству филологов, обладал всеми надлежащими качествами. Он собрал от знакомых Гёте множество сведений о жизни поэта, десять лет издавал посмертные работы Гёте и в конце концов в 1840 г. выпустил полное собрание сочинений Гёте в 40 томах. Поэтому «Разговоры с Гёте» – это не только собрание мыслей великого человека, но и филологическая школа: Гёте всякий раз объяснял, куда движется литература, как замысел превращается в текст и какие обстоятельства мешают тексту состояться таким, каким он должен быть. Не спорьте, это не худшая, а лучшая филологическая школа, чем простой библиотечный разбор рукописей.
В предисловии к изданию «Разговоров», написанном через три с половиной года после кончины великого человека, Эккерман заметил, что предмет его рассказов – «мой Гёте». Это притяжательное выражение мы больше знаем по книге Цветаевой «Мой Пушкин», но при всем почтении Цветаевой к Гёте и Эккерману здесь вспыхивает различие. Для Цветаевой «мой» означает переживаемый с самого детства как необходимый, которого знаешь прежде, чем узнаешь, что ты поэт и что он поэт. Для Эккермана «мой Гёте» означает тот, кто хотя бы отчасти помог освободиться от индивидуальности, разрешил не привносить свои размышления, свои страсти и интересы в рассказ. Даже портретисты, давая верный образ поэта, добавляли свой темперамент к выражению своих полотен; что уж говорить о писателе, перо которого, медленно оно или торопливо, всегда заявит собственный характер. Но Эккерман научился тому, чему не научится живописец: писать не впечатления, а силу слов поэта. Силу не в смысле простой убедительности и выразительности, но в смысле готовности обсудить прямо сейчас вопрос, который и через много лет будет казаться насущнее всех прочих.
Период работы Эккермана у Гёте, а именно разбор писем и подготовка к печати «Поэзии и правды», для самого великого поэта был прежде всего эпохой создания второй части «Фауста»: в 1826 г. поэт заканчивает «Елену», в 1830 г. – «Классическую Вальпургиеву ночь» и, наконец, в 1831 г. венчает все здание идиллической и более чем горестной историей Филемона и Бавкиды. Любовь Фауста к Елене – это не просто символ жизни, посвященной прекрасному, как это обычно понимают. Елена – призрак, стоящий за каждой женщиной, и душа каждой женщины, Елена везде и нигде, Елена несется быстрее ветра навстречу собственной судьбе, но не терпит крушения, она посвящена богам и посвящена самой себе как полубогиня. Поэтому она – не красота и не искусство, а жизнь в искусстве, – и роман Фауста и Елены – это попытка ума уже не просто завладеть всем миром, а покорить саму жизнь, присутствовать в ней, распоряжаясь ею же. Гёте вскрыл здесь главную проблему всей культуры и всего творчества: не получается ли, что, ловя мир в ловушку своих образов, мы ставим жизнь перед ложным выбором: быть пленницей нашего искусства или же постоянно преследоваться нами; просто потому что ее неотразимость нас будет все время влечь. Да, как сказал русский поэт, «вот моя клетка – стальная, тяжелая», и в ней умирает птица, которой воспрещена даже стыдливость. Но Гёте умел говорить не только от лица своего я, и потому смог спасти Фауста, в конце концов на границе с небом разделившего для Бога, себя и нас созидание и насилие.
Вот почему второй заботой Гёте в этот последний период творчества было «Учение о цвете». Гёте хотел доказать, что цвет может созидать материю, попутно благословляя наши чувства, не учиняя над ней постыдного насилия. В механике и оптике Ньютона для Гёте веял дух властной диктатуры, прямого приказа, безжалостного допроса природы. Конечно, он не винил Ньютона в этом, но считал, что физику не хватило той беспечности, каковая только и позволяет, забыв, где ты оставил свои призмы и линзы, смотреть на беготню солнечных зайчиков и переживать всю гамму эмоций вместе с появившейся на соседней стене тенью.
«Разговоры с Гёте» вряд ли могут быть отнесены к какому-то одному жанру: это и не вполне мемуары, и не вполне дневник, и не вполне рабочая записная книжка, и не то, что потом стало называться интервью. Хотя, конечно, записные книжки писателей как самостоятельная ценность были признаны во многом благодаря этой книге и таким приводимым в ней примерам, как Вольтер и Байрон – умению Гёте следовать мыслью не только за делами и словами этих людей, но даже за слухами о них, при этом отделяя от действительного содержания всякую наносную репутацию. В этом уникальность Гёте: он сурово оценивал не только поступки, но и жесты писателей, и круг их чтения, и их образцы, при этом зная что-то из вторых или третьих рук, хотя при любой возможности и обращаясь к первоисточнику. Но он никогда не говорил ни одной банальности, которая тащилась бы за героем разговора тяжким грузом осуждения.
Ближе всего по жанру к «Разговорам», с одной стороны – жизнеописания великих людей, вроде «Знаменитых мужей» Иеронима Стридонского, «Знаменитых женщин» Боккаччо, «Живописцев» Вазари или «Трубадуров» Жана де Нострадама, брата известного астролога, а с другой стороны – нынешние еженедельные «лонгриды», долгие аналитические репортажи. Жизнеописания были не рассказами о мотивах к творчеству, а меткими замечаниями об уже состоявшейся мотивированности, об уже полученных благословениях и блеске даров. Только Гёте сам и автор таких же кратких «жизнеописаний» своих предшественников и современников (его замечания о творчестве суть часто настоящие небольшие биографии в нескольких фразах), и герой своего же жизнеописания, – и ни о чем он не говорит Эккерману так увлеченно, как о том, что можно быть не только создателем эпохи, но и просто ее участником. Также и «лонгрид» Эккермана своеобразный: это не пристальность корреспондента, находящего главные пружины происшедших неприятных событий, но вдумчивость того, кто предпочитает приятные события, относительно которых мысль только и может взять правильный размах, измеренный лишь свободой. Гёте, любивший благословлять солнцеворот и новый год, радовавшийся подлинному драматизму и неизбывному жизнеподобию настоящего искусства, мог не просто слезами облиться над вымыслом, но и прийти в себя над ним. Исток такого жанра слишком далек – «Застольные беседы» Мартина Лютера, записанные со всевозможным тщанием Иоанном Матезием. Возможным более близким по времени образцом для «Разговоров» Эккермана была классическая «Жизнь Сэмюэла Джонсона» Джеймса Босуэлла (1791). Босуэлл, двадцатидвухлетний секретарь, также записывал во всех подробностях разговоры с великим лексикографом в своем дневнике и обильно включил их в жизнеописание. Но есть одно важное различие. Босуэлл создавал идеального героя и всячески доказывал, что только его биография дает все необходимые сведения о Джонсоне: все остальные биографы знают лишь отдельные стороны его общественной жизни, и потому их рассказы неправдоподобны. Босуэлл, таким образом, пытается обернуть в свою пользу классицистское сближение правды и правдоподобия: он будет рассказывать только факты, поэтому образ Джонсона получится правдоподобным, тогда как не знающие фактов не знают и Джонсона. Но «Жизнь Джонсона», стоящая как жанровая форма в начале всей романистики о конкистадорах и полярниках, не свободна от неточностей и натяжек, а поспешность Босуэлла в напечатании этой книги потом вызывала многочисленные насмешки. Тогда как Эккерман вовсе не настаивает на том, что он расскажет о Гёте все, что нужно знать, наоборот, он постоянно замечает, как Гёте сбивал его с толку, переходя легко от примеров из искусства к примерам из жизни, от темперамента к манере и от гармонии к характеру. В его книге важно не то, насколько Гёте получился похожим, а насколько эта похожесть непохожа на все наши ожидания.
Предметы бесед Эккермана и Гёте самые различные. Прежде всего это то, что мы назвали бы событиями в мире искусства: выдающиеся книги, театральные постановки или живописные произведения. Гёте обсуждает их не как критик, а как социолог вечности: для него это все публикации, явление замысла публике так, что замысел не успевает осознать, насколько он воплотился. Оценивать осуществление замысла – кружащий путь во времени, а посмотреть, как замысел уже успел раскрыться прежде того, как мы о нем подумали, – попадание в вечность. Вечность Гёте – конечно, это не холодная вечность без свойств, но скорее импровизация, как, скажем, разыграв товарища, мы заставляем и себя, и других одинаково относиться к смыслу этого розыгрыша и тем самым помещаем его в вечность. Вроде бы почтеннейшему старцу и государственному деятелю меньше всего подходит шутка, но без этого мы не поймем его сложный спор с историческим христианством – для Гёте так важно было, чтобы луч света воскрес в теории цветов, а звук лиры воскрес в общественных движениях; и это воскрешение-импровизация было для него не менее убедительно, чем затянувшаяся проповедь пастора.
Другая важнейшая тема разговоров – осуществление природой самой себя и те промахи, которые допускает человек или искусство, не вполне разделив с природой ее счастье. Гёте возвышается и над классицистами, для которых человек сам должен справиться со своими промахами, и над романтиками, для которых эти промахи – лишь симптомы вечного разлада между человеком и природой. Гёте видел, что пока природа сама загляделась на свое совершенство, какие-то явления ее не выдержат света этого совершенства, равно как и человек не вполне увлечется этим взглядом природы на себя. Грехопадение человека для Гёте – только один из множества эпизодов таких отпадений вещей от изначального благословения, назначенного превратить природу в сплошной счастливый дар.
Наконец, последняя тема – это обучение, необходимость постоянной учебы. Но мир Гёте меньше всего похож на мир классов; скорее, он очень хорошо видит, сколь часто произведения искусства оказываются недостаточно поучительными, жизнь человека тоже оказывается недостаточно поучительной, размышления даже многих людей недостаточно поучительные. Такое длительное сопротивление учебе, такая косность другим бы автором была описана как свойство эпох, не пожелавших развиваться. Но у Гёте это просто мирская история, наставляющая ценить всякое настоящее поучение: именно способность картины, человека, героя или речи из далекого прошлого стать поучительными. И где начинается учеба, там начинается новая священная история, в буквальном смысле: история, напряжение которой измеришь только пророчествами, а не какими-то соображениями выгоды или интереса. История Рафаэля или Наполеона, мир Дафниса и Хлои, удивление Данте и перевоплощения Шекспира (а любой разговор Гёте о Шекспире уже напоминает то, как будет описывать жизнь природы Дарвин, как адаптацию сюжетов, не стесняющуюся рисковать – только у Шекспира это литературные сюжеты Плутарха или новеллистов, а у Дарвина – сюжеты органических уровней бытия) – все это священная история, в которой Рафаэль строит храм учтивости, Наполеон создает закон чести для всех, Данте напоминает о том, что влюбленность – не преддверие, а сердцевина любви, а Шекспир показывает, что гром речи героев потрясает века, пока автор общается с вечностью.
Подражаний этим разговорам было немало, в том числе и в нашей культуре: разговоры Альтмана с Вячеславом Ивановым, многочисленные воспоминания об Ахматовой и Пастернаке, диалоги с Бродским – везде тень книги Эккермана есть. Но при всей почтенности авторов этих записок, мемуаров и интервью им не хватает того, что было у добродушного художника, в детстве гнавшего хворостиной коров. А именно Эккерман умел обходиться без того любопытства, которое делает вопросы и наблюдения плоскими, провоцируя поэта на интересный ответ или, напротив, иногда невпопад поддерживая его. Эккерман разговаривал с Гёте только потому, что Гёте им заинтересовался, что он привлекал Эккермана на сторону своих суждений прежде, чем Эккерман решал, что по этому вопросу нужно суждение Гёте. Эккерман нужен был Гёте не как собеседник и не как единомышленник, а как тот, кому всегда есть дело до мыслей Гёте больше, чем до его настроений.
В Германии подражаниями книге Эккермана следует назвать не книги бесед, а скорее, автобиографии писателей, в которых они не просто рассказывают о своем пути к писательству, а о том, как писательство делает их другими людьми, не теми, какими они сами ожидали. Эти автобиографы не просто открывают себя, а открывают о себе ранее неведомую истину. Прежде всего таковы «Ecce homo» Фридриха Ницше и «Роман одного романа» Томаса Манна. Оба эти автора очень чтили блистательный образец: Ницше называл книгу «Разговоров» лучшим произведением на немецком языке, а Манн знал многие беседы почти наизусть и считал Эккермана идеальным хранителем архива Гёте.
Во Франции книгу Эккермана хорошо изучил Шарль Сент-Бев, стремившийся поощрять многообразие в литературе и увидевший в биографическом методе главный инструмент такого буйства. Но Сент-Бев, назвавший эккермановского Гёте «государем критики», не учел главного: ни Гёте, ни Эккерман не признавали биографический метод ключом к произведениям, наоборот, они мыслили, что произведения производят попутно и обстоятельства их существования, включая и многие биографические перипетии автора. Единственное, в чем автор значим для произведения, – в умении не промахнуться, хоть один раз заметить что-то важное, – иначе книга окажется никуда не годной продукцией. Сент-Бев понимал, что, конечно, писатели внимательны, раз их увлечение переросло в профессию, но в результате вся французская литература XX века от Пруста до постмодернистов спорила с Сент-Бевом, доказывая, что увлечение – это не только порыв писать, но и способность не писать, очаровываясь тем, что сказали соседи; и что профессия писателя держится обоих увлечений. Во Франции свои Эккерманы тоже появились, например, Жан Бофре, автор «Диалога с Хайдеггером», в которых был дан и перевод, и очное обсуждение мысли выдающегося философа.
Имя Эккермана не стало вполне нарицательным, в отличие от имен Зоила, Цицерона или Мецената. Эккерман и остался вроде бы фигурой, отступающей перед величием собеседника, и живым человеком, который только и может подхватить нить разговора. Об одном лишь приходится просить: не считать Эккермана малым литератором, который едва осознавал величие Гёте. На самом деле, только Эккерман мог, производя широкие обобщения, по одной постановке пьесы диагностируя состояние театра, по слухам о войнах реконструируя политические расклады, а по любимым героям какого-то писателя предсказывая дальнейшие повороты его творчества, – и сбыться истинным собеседником Гёте. Более того, именно Эккерман постоянно отмечал, как у него на глазах развертываются драмы: как собеседники Гёте переступают через привычки своего языка, своего народа или собственных убеждений. Он был свидетелем этих драм и катастроф, и без этого свидетельства мы и не сможем сказать, почему Гёте велик.
Эккерман присутствовал при завершении самых прекрасных замыслов Гёте. Он мог говорить более или менее весомые вещи, но не сказал ничего поспешно, ничего для красного словца, ничего, чтобы клеймило предмет или столь же бессмысленно его превозносило. Напротив, он всегда выяснял, с чем пришел к Гёте этот очередной гость в виде философской мысли или поэтического произведения и как он может помочь мастеру организовать этому умозрительному гостю лучший прием. Одним словом, Эккерман знал, что он делает так долго в доме Гёте.
Как с небывалой точностью писал сам Эккерман в одном из восьмистиший, воздавая благодарность Учителю:
То, что понял, то стараюсь
Благодарно удержать я,
Ты меня среди волнений
Одарил рукопожатьем
И на верный путь направил,
Подружил со мной пространство,
От нетвердости избавил,
Сообщая постоянство.
Как и принято в карманных изданиях на разных языках, перед нами тематическая выборка ключевых позиций и аргументов Гёте. Такой подход превращает сложную для восприятия летопись многих лет общения в лучший способ представить Гёте нашим современникам. Для удобства читателя мы тематически озаглавили все фрагменты, и уже по оглавлению читатель сможет найти те темы, которые его или ее заинтересуют больше всего, и затем увлечься и соседними вопросами, проведя свой, запоминающийся на всю жизнь Разговор с Гёте.
Александр МарковПрофессор РГГУ и ВлГУ, в.н.с. МГУ имени М. В. Ломоносова6 апреля 2018 г.









































