Текст книги "Мимолетное чудо…"
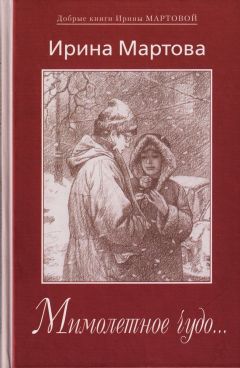
Автор книги: Ирина Мартова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
* * *
Санаторный автобус увозил меня в аэропорт.
Нина Петровна вышла проводить. Ничего не говорила, не поучала, не охала сочувственно. Молчала. Обняла крепко на прощание:
– Я тебе позвоню.
И перекрестила меня, махнув пухленькой ручкой вслед отъезжающему автобусу. Все-таки она, что ни говори, – Премудрая.
Автобус тронулся. Я все же надеялась на чудо.
Резко обернулась.
Санаторий быстро удалялся и удалялся, уходя в небытие…
Все закончилось.
Ну что ж… И такое бывает.
Я вздохнула.
…………………………………………………….
А может быть, это все приснилось мне?
Федька
Дождь уже закончился.
Солнышко как-то лениво, нехотя выглянуло было из-за низких туч, но, словно испугавшись царивших повсюду слякоти и сырости, быстренько убралось восвояси.
Их городишко, и без того не больно-то чистый и опрятный, теперь, после проливного дождя, выглядел и вовсе плачевно. То тут, то там образовались широченные лужи, размытые дорожки потеряли свои очертания, песок из песочницы растекся вместе с выливавшейся через край водой, заборы и лавки почернели от сырости. Редкие прохожие поеживались от попадающих за шиворот капель, срывающихся с промокших насквозь деревьев, и, поскальзываясь на размытых тропинках, громко ругались, не стесняясь в выражениях.
Федька, распахнув дверь подъезда ногой, медленно вышел на крыльцо и, смачно сплюнув, покачал головой:
– Ну и погодка… Не везет.
Почему не везет, он и сам не знал, но чувствовал, что дождь этот совсем не к добру. Придется отложить кучу дел. Каких? Да кто ж его знает каких, но в том, что дела всегда найдутся, Федька не сомневался ни на секунду. Вон, того и гляди, Колька на своем доживающем век велосипеде примчится, потом Петька заявится, малышня всякая подвалит… Вот уж веселье пойдет, пацаны соберутся, в картишки перекинутся, анекдоты свеженькие расскажут… А тут! Федька поежился, опять смачно сплюнул и вразвалочку двинулся к длинной, насквозь промокшей скамейке.
– Надо же! Вот дождь дурацкий! Не везет…
Он вздохнул. Все. Вечер испорчен.
Федька взглянул на древнюю скамейку:
– Ишь, раскисла вся. Точно размазня. Да ладно, наплевать…
Он плюхнулся на мокрые холодные доски и с отвращением почувствовал, как сырость скамейки, проникнув сквозь ветхое нижнее бельишко, добралась до его худого тела. Но деваться уже было некуда, да и все эти «бабские» тонкости и штучки не очень волновали Федьку, ему, настоящему мужику, все эти мелочи казались нелепыми и смешными.
Сидя на скамейке, парнишка огляделся:
– Да, скукота… Хоть бы пацаны скорей выходили.
К подъезду, прихрамывая, подошла тетка с пятого этажа.
Недовольно взглянув на парнишку, азартно жующего жвачку, она сердито дернула на себя входную дверь, но не выдержала и, чтоб самой не захлебнуться, плеснула-таки ему в лицо своей злобой:
– Эй ты, отморозок! Чего расселся здесь, шантрапа? Шел бы уроки учил… Вот шпана! Ты смотри, так и околачивается здесь, так и шныряет глазами, так и шныряет! Бить тебя некому!
Федька, не ожидавший, в общем-то, ничего хорошего и уже привыкший к тумакам и оскорблениям, все же сейчас не выдержал:
– Отвали ты, жирная скотина…
Соседка же, очень довольная своим удачным, на ее взгляд, выпадом, уже спокойно, не обращая внимания на его ответ, вошла в подъезд, горделиво улыбаясь, а Федька, сморщившись, тоскливо вздохнул:
– Эх… Не жизнь, а дрянь какая-то!
Хотелось как-то поразвлечься. Потешиться, как говаривала когда-то баба Стеша. Да, жаль ее, померла почитай, уж как года три. Жаль… Любила она Федьку, жалела, подкармливала, на праздники денежку давала. Немного, конечно, но все же… Федор, вспомнив ее, еще больше загрустил. Смахнув скатившуюся по грязной щеке слезу, он хлюпнул носом, сжал ладони в кулаки и посмотрел куда-то в сторону, словно хотел где-то там, в сырой, серой дали, увидеть ее, бабу Стешу, сутулую, седую, ласковую.
…Федька родился в нормальной, как поначалу казалось докучливым соседям, семье. А что? Все как у всех: мамка – санитарка в городской больнице, отец – слесарь на заводе. Жили, как говорится, слава богу, не тужили… Мамка им попалась такая веселая, сноровистая, легкая – все везде успевала: и гладила, и пекла, и шила по ночам. И все с песней! А какая она была красавица! А как улыбалась! Федька изо всех сил зажмурился и попытался представить себе мамину улыбку. Выходило плохо, память отчего-то прятала что-то самое важное, оставляя парнишке только светлое ощущение чего-то теплого, доброго и очень любимого. Он открыл глаза и отчаянно сглотнул ком, вставший в горле. «Мужики не плачут», – пробормотал он и крепко сцепил зубы.
Отец все время работал. Высокий, сильный, чернявый, он приходил по вечерам, и с его появлением мамин смех звучал громче, а улыбка ее сияла еще ярче, освещая их небольшую квартирку. Сколько длилось их беззаботное счастье, Федор теперь не помнил, да и какая разница? Горе оно и есть горе, когда бы ни пришло…
Все рухнуло в одну минуту.
Отец, ушедший утром на завод, вечером не вернулся. А днем все надсадно ревел и ревел заводской гудок, оповещая окрестности и обывателей о страшном несчастье.
Побросав все дела, люди, с искаженными от страха лицами, со всех ног бежали к заводскому главному входу, и страшась, и галдя одновременно. Бабы, толпясь у главного входа, всполошенно оглядывались, взволнованно перешептывались. Но от горя не скрыться, не загородиться, не убежать… Авария унесла тогда много жизней. Федь-кин отец погиб сразу, спасая заводское добро. Станки остались, а отца не спасли. Мамка, как узнала, повалилась без чувств, соседки, воя и толпясь у ее ног, отливали мамку водой. Голосили над ней, причитали как над покойницей. А она как очнулась, так и стала вроде покойницы: все понимала, все по-прежнему умела, но жить не хотела. Какие уж тут песни? Даже на работу ходить не могла поначалу, все лежала в постели, рыдала до судорог, все звала отца да жаловалась кому-то неизвестному на свою горькую судьбинушку. А дальше – еще хуже… Все пошло кувырком. Мамка работу бросила, стала подъезд мыть, начала горе свое вином заливать. Сперва то рюмку, то две, украдкой, исподтишка, чтоб сын не видел, а уж потом по полбутылки сразу выпивать стала, пристрастилась… Прятаться перестала, до целой бутылки добралась.
– Эх, – Федька всей пятерней почесал давно не мытую голову. Взъерошив спутанные волосы, он даже и не пытался их пригладить. Подумаешь! Что он девчонка, чтобы красоту наводить, и так сойдет!
Парнишка вздохнул и сплюнул. Так они и живут теперь.
Мамка пьет, буянит, иногда плачет, горько и безутешно. А Федька… Он, жалея ее, горемычную, сам иногда выходит в холодный и грязный подъезд и моет стертые ступеньки лестницы. Иногда, проспавшись, мать прижимает его к себе и, покрывая поцелуями голову и лицо сына, все просит и просит у него прощения. За что? Федька не понимал, да и не хотел понимать… В такие минуты они просто крепко обнимались и плакали.
Федька школу уже два раза бросал. А чего там делать? Только и слышишь: «Лентяй да олух! Пороть тебя некому… Лоботряс!»
В общем, хотел убежать куда-нибудь, например на Северный полюс, да мамку жалко. Ведь совсем сопьется без него! Пропадет!
Федор засопел и мечтательно прикрыл глаза:
«Эх, если б можно было мамку вернуть… Ну, чтоб она стала такой, какой раньше была! Смеялась, пироги пекла, песни пела…»
Робкая слезинка выкатилась из его глаза и, оставляя еле заметную прозрачную дорожку, несмело покатилась по детской щеке. Парнишка хлюпнул носом и проговорил вслух, словно убеждая самого себя:
– Ничего, вот подрасту и вылечу мамку! Обязательно вылечу!
Вечерело.
Сырой и прохладный воздух делал свое дело. Федька замерз и, чуть поежившись, решил идти домой: надо картошки начистить да поставить варить, а то мамка проснется – кричать станет.
Федор встал и уже было собрался войти в подъезд, как его внимание привлекла сгорбленная низенькая фигурка, осторожно двигающаяся по размытому тротуару. Невысокая, одетая в темное бабулечка медленно перебирала ногами, чуть покачиваясь при каждом шажке и наклоняясь вперед. Парнишка, сдвинув брови, взлохматил и без того всклокоченные волосы:
– И куда идет в такую погоду?! Ведь грохнется! Как пить дать – упадет…
Он еще постоял, недовольно покачивая головой, а потом решительно махнул рукой и зашагал прямо через огромные лужи к крохотной старушонке, неуверенно шагающей по скользкой дорожке.
– Эй, стой! Стой, тебе говорю!
Старушка испуганно подняла глаза на него:
– Чего тебе? Иди своей дорогой.
– «Иди-иди», – сердито передразнил ее Федька. – Куда прешь-то? Упадешь ведь в лужу.
Бабушка, тяжело дыша, удивленно взглянула на него:
– Что ж делать-то? Жить-то надо… Вот за хлебом ходила.
Федька задумался, постоял мгновение и резко протянул ей руку:
– Держись за меня… переведу тебя через грязь. А то давай до дома тебя провожу, ты где живешь?
Бабушка, еще не веря своим ушам, изумленно всплеснула крохотными ручонками, изъеденными безжалостными морщинами:
– Боже праведный! Неужто теперь такое бывает? Ах ты, детка моя!
Она чуть выпрямилась, подалась вперед и, вытянув дрожащую руку, погладила Федора по давно не мытой голове:
– Ах ты, внучок… Золотой мой! Душа у тебя чистая…
Он смущенно отвернулся, нахмурился, чтобы спрятать счастливую улыбку, и взял у нее пакет с хлебом.
Они осторожно двигались по залитой дождем улице.
Лучисто улыбаясь, спокойно и умиротворенно шагала старушка, держась, как маленькая, за руку Федора.
А Федька…
Шел по лужам и улыбался миру настоящий человек. Чистая душа. Федька.
И счастье будет…
День начинался бурно и суетливо.
С утра хлестал холодный, колючий и очень надоедливый дождь. Он бездушно и как-то тоскливо-обреченно барабанил по стеклам, собираясь на почерневшем от влаги асфальте в огромные бесформенные лужи.
Осень, вместо давно привычной – солнечной, золотобагряной поры, в этом году вдруг оказалась плачущей, капризной и бездушной. И то сказать, почти ежедневно моросил противный бесконечный дождь, заливающийся за воротники и делающий обувь сырой и неуютной. По улицам нескончаемым потоком плыли разноцветные зонты, хоть как-то разнообразившие ужасающую серость дождливого дня.
Гришка сидел дома за столом и бесцельно водил простым карандашом по листочку в клетку, выдранному из обычной школьной тетрадки. Ему было скучно и тоскливо. А чего, собственно, радоваться? Отец уехал в командировку, мама все время на работе, Танька, старшая сестра, вечно болтающая по телефону, зубрит историю, у нее, видишь ли, завтра то ли контрольная, то ли зачет!
Гришка вздохнул: «Эх, скорее бы вечер…»
Что случится вечером, он и сам не знал, но отчего-то был уверен, что вечером непременно станет веселее.
Мама вернулась внезапно.
Так всегда бывает: ты ждешь-ждешь чего-нибудь, но именно в самый важный момент вдруг отвлечешься на что-то незначительное и пропустишь то, чего так нетерпеливо ждал весь день с самого утра.
Услышав, как в прихожей хлопнула дверь, Гришка опрометью кинулся туда, сшибая на пути стулья. Мама, промокшая и отчего-то пахнущая жухлой травой, аккуратно снимала сырые туфли, стараясь не наследить на чистом полу. Гришка, увидев ее, широко раскинул руки и ринулся к ней, закрыв глаза. Ему вдруг показалось, что он не видел маму целую вечность или даже больше. Однако мама его порыв не оценила:
– Эй-эй! Милый, постой, постой… Я вся промокла! Испачкаешься!
Она осторожно отстранила его, раскрыла зонтик и, поставив его сушиться на пол, подошла, улыбаясь, к сыну:
– Ну, вот теперь – здравствуй, сынок! Как дела?
Гришка пожал плечами и засопел носом:
– Никак… Скучно.
– Вот тебе раз, – мама опять светло улыбнулась и развела руками, – что ж, милый, тебе и заняться нечем?
– Нечем! – Гришка сердито насупился. – Танька все по телефону болтает, все время «алло да алло!», ты на работе, папа уехал… Тоска!
Мама весело рассмеялась:
– А ты знаешь что? Ты найди себе дело по сердцу, вот тебе и счастье будет! Вот увидишь, ты попробуй!
– Счастье? – Гришка озадаченно нахмурился. – Как это? Как это, счастье будет?
Мама развела руками и пожала плечами:
– Счастье? Так, сынок, бывает…
Она на мгновение задумалась, словно подбирая нужные слова:
– Понимаешь, если очень-очень долго чего-то ждешь, то, когда получаешь, счастье и наступает.
Гришка удивился:
– Точно?
– Ах ты, Фома неверующий… – усмехнулась мама. – Хотя кто его знает, может быть, не совсем так, но мне так кажется. Счастье – это здорово!
Гриша посерьезнел:
– Да? А какое оно, это твое счастье?
Мама ласково потрепала сына по кудрявой голове:
– Счастье? Мне кажется, что каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал это чувство… Трудно сказать, какое оно! Знаешь, как будто душа поет, сердце выскакивает из груди, хочется прыгать от радости, орать что-то во все горло…
– Да? – Гришка удивленно хмыкнул. – Ничего себе! Это всегда так?
– Нет, – мама покачала головой и обняла его. – Не всегда, милый. Счастье – оно разное, потому и описать его трудно. Иногда оно тихое… Хочется спрятаться куда-нибудь и помолчать, прислушаться к себе, своему сердцу. А иногда плакать хочется от счастья – так переполняют тебя эмоции, что слезы льются ручьем. И это тоже счастье… Понятно?
– Угу, – мальчишка замолчал на минутку, словно переваривая только что услышанное, а потом нетерпеливо поднял голову и придирчиво взглянул на мать, которая, уже отправилась на кухню готовить ужин. – А когда?
– Что когда? – мама рассмеялась. – Это о чем ты спрашиваешь, а?
– А чего сразу смеешься? – рассердился Гришка. – Сама же сказала, что «счастье будет», вот и хочу понять, где и когда его искать.
Мама не успела ответить, потому что на кухню вошла дочь Татьяна. Гришка, увидев ее, насупился: «Вот противная, вечно не вовремя, сейчас воспитывать начнет, корчит из себя взрослую!»
И точно, заметив младшего братишку, Татьяна насмешливо хмыкнула:
– Ой, и он здесь… Мамуль, ну чего ты разрешаешь ему здесь болтаться? Он же мальчишка! Пусть пойдет порисует или полепит, пластилин же новый вчера купили.
– Ну вот, опять! – Гришка даже расстроился. – Отстань ты, Танька!
Не выдержав ее вечных придирок, он грозно замахнулся на сестру кулаком.
Мама, увидев это, замерла на секунду и, пораженная злым выражением его лица, сурово взглянула на сына:
– Ого! Так вот какой ты герой?! Это что, сынок? Где ж ты научился на девочку руку поднимать?!
Гриша, огорченный донельзя и маминым замечанием, и своей несдержанностью, и хихиканьем противной Таньки, нахмурился и отчаянно шмыгнул носом:
– А чего она? Пристает и пристает… Вот так всегда!
Мама грустно покачала головой, удивленно приподняв брови:
– Ой-ой-ой… Да ты что? Как же так, Гришенька? Не верю своим глазам! А может быть, все же что-то случилось? А, сынок?
Гришка опустил голову, расстроено засопел и поспешно выскочил из кухни. Он вошел в свою темную комнату и, не включая свет, плюхнулся на диван вниз лицом, бормоча то ли самому себе, то ли еще кому-то:
– Ну и пусть… Подумаешь! А сама? Ну и ладно…
На кого он обижался и за что, мальчишка, честно говоря, не думал в тот момент, ему просто стало обидно, горько, жалко себя и еще что-то, чему он пока не знал названия. Хотелось лечь, закрыть глаза и лежать, лежать, никого не видя, ничего не говоря, не делая, упорно противясь всему, всему, всему…
Сколько времени Гришка так пролежал, он не знал. Ему показалось, что он даже задремал, устав бороться со злостью на сестренку, недовольством собой и беспокойнотревожными мыслями о маминых словах.
Уже совсем стемнело.
Противный дождь по-прежнему колотил в окна. Из соседних комнат доносились то звук телевизора, то звонки телефона, то обрывки разговоров. Никто не входил к нему. Даже эта вредина Танька не зашла навестить брата. Гришка, вспомнив о ней, опять сжал кулачки:
– Ну и ладно… Подумаешь!! Зануда!
Еще через какое-то время послышался негромкий щелчок, и дверь его комнаты осторожно приоткрылась. Гришка, услышав этот звук, почему-то упрямо поджал губы и крепко-крепко зажмурился, отвернувшись к стене. Кто-то тихонько вошел и направился к нему. Мягкие, почти неслышные шаги остановились возле его дивана, и ласковый мамин голос негромко произнес:
– Ну как дела? Где тут мой беглец?
Она присела на краешек рядом с ним и нежно тронула сына за плечо, произнеся при этом:
– Гришенька… Что с тобой, дорогой мой?
Этих простых маминых слов было достаточно, чтобы мир перевернулся и все стало на свои места.
Что случилось с ним в ту минуту, Гришка не понимал, да и некогда ему было тогда думать об этом. Он лишь почувствовал, как внутри него вдруг поднялась огромная, все сметающая волна любви и нежности к маме, ее голосу, ее запаху. Он приподнялся и всем телом подался к ней, обхватил ее, такую родную и милую, за шею и, задыхаясь от ласки, неги и разлившейся в душе теплоты, уткнулся холодным носом ей в плечо…
– Мамочка, – только и смог прошептать он, захлебнувшись от нахлынувших эмоций.
И внезапно, словно вспыхнувшей молнией, пронеслась в его детской голове одна лишь мысль, оставшаяся потом в душе его на всю долгую-долгую жизнь: «И будет тебе счастье… Вот оно! Вот оно, счастье! Мамочка… Мое самое большое счастье!»
Вразуми, Господи…
Нюрка стояла за оградой древнего, еще дореволюционной постройки, храма, привычно опираясь сгорбленной спиной о уже нагревшуюся на солнце старую кирпичную кладку.
Солнце сегодня не скупилось на тепло и, несмотря на еще ранний час, ласково пощипывало морщинистые щеки и обнаженные руки.
Служба в храме пока не началась.
Огромные колокола на все лады звонко, призывно пели, разнося по округе малиновый звон, заставляющий спешивших к литургии прихожан истово креститься, замирая и благостно закатывая кверху глаза.
Народ в храме, смиренно дожидаясь начала заутренней, терпеливо переминался с ноги на ногу, кланялся святым иконам да чинно ставил свечи, что-то степенно нашептывая.
Люди, входя в давно знакомые стены, неторопливо оглядывались, подбирая удобное местечко, приветливо кивали знакомым и родственникам, чуть слышно откашливались, собираясь подпевать уже собравшимся на хорах певчим.
Воскресная служба, готовая вот-вот начаться, как-то привычно волновала и детей, и взрослых, заставляя и тех, и других настраиваться на что-то такое знакомое и трепетное, что совершенно не укладывалось в рамки обыденной жизни, протекающей за крепкими стенами старинного храма.
На паперти, поближе к главному входу, толпились нищие, известные всей округе. У них здесь была своя иерархия. Те, кто покрепче да посмелей, довольно бесцеремонно оттесняли сгорбленных старушек и тщедушных стариков, с надеждой и каким-то вожделением глядящих на подъезжающих к службе богатых горожан.
Самые несмелые, беззащитные и жалкие устроились чуть поодаль, у храмовых ворот. Они, стыдясь своей участи, стыдливо кланялись до земли тем, кто жалости ради изредка клал им в руки крошечные желтые монетки.
Нюрка, покрыв седую голову белоснежным платочком, надеваемым только на воскресные службы, стояла чуть поодаль, держа в руках видавшую виды железную кружку, на дне которой темнели несколько монеток. Она, склонившись в благодарном поклоне, голову почти не поднимала, то ли стесняясь чего-то, то ли выражая этим бесконечную покорность судьбе.
Не торопясь, вполне осознавая все возложенное на него величие, к храму подплыл, словно огромный корабль, отец Гавриил. Он окинул суровым взглядом стоявших на паперти бездомных, важно осенил их крестом и хотел было идти внутрь, как вдруг заметил склонившуюся в низком поклоне старушку.
– Здравствуй, Анна, – поздоровался отец Гавриил. – Ну что? Ты опять тут?
Нюрка, сразу заволновавшись, засуетившись, прошептала:
– Да, батюшка мой, стою вот… Куда ж деваться?
Гавриил задумался, поглаживая окладистую бороду:
– А что ж сын твой? Так и не появлялся?
Она ответила не сразу, пытаясь сдержать вдруг подкатившиеся жестким комком горькие слезы, но все-таки пересилив свою беду, тихонечко проговорила:
– Нет, батюшка, не появлялся…
Гавриил еще раз сочувственно качнул головой:
– Зайди после службы к дьякону. Я ему скажу… Что-нибудь придумаем.
Он еще постоял мгновение, а затем, качнувшись, будто большой корабль, плавно поплыл в храм, откуда уже слышался негромкий волнующий речитатив: певчие распевались…
…Нюрка жила хорошо. Звалась с детства Анной. Правда, давно это было. Будто сто лет прошло… Целая жизнь.
Мать с отцом ее холили, лелеяли, звали Аннушкой, да и муж под стать им попался. Все Анюта да Анюта… Ох и заботливый был мужик! А какой хозяин – загляденье, все в руках так и горело, так и спорилось. А главное – не пил! Ни-ни! Ни капельки! В их городишке о таких просто легенды сочиняли: кто клялся, что он – больной, кто уверял, что он – иноверец… В общем, болтали всякое, кто от злости, кто от зависти. Детей, правда, Бог им долго не давал. Анна все по церквям да монастырям ездила, поклоны била, воду святую пила, службы выстаивала. Так ребеночка ей хотелось, что все готова была отдать. Молилась с утра до ночи: «Помоги, Господи! Вразуми меня, неразумную… Наставь, помоги!» Муж, понимая ее женское стремление, не запрещал, только сильно жалел ее, когда, просыпаясь по ночам, слышал в темноте отчаянное: «Вразуми… Вразуми, Господи…»
Господь, однако, милостив.
Через десять лет Анна родила сына. Натерпевшись, настрадавшись, она так любила долгожданного наследника, что с головой ушла в его воспитание. Все его заботы и обязанности на себя взяла, поощряла всякую разумную и неразумную прихоть, пылинки сдувала. Муж, радуясь появлению сына, поначалу не мешал Анне тешить свой материнский инстинкт, а когда заметил, что она в своей безумной родительской любви преступает непреложные житейские законы, было уже поздно. Потакая своей единственной отраде, Анна вырастила сына заносчивым, хамоватым, завистливым и жадным. Как и в какую минуту нежный и ласковый мальчик стал расчетливым и жестким, Анна даже и не заметила. Только по привычке, крестя сына на ночь, все повторяла свое привычное:
– Помоги ему, Господи! Вразуми дитя неразумное…
Сын закончил школу неплохо. В армию его не взяли, а в институт не поступил. Муж помер внезапно. Сын, помыкавшись без денег да работы, решил свою судьбу по-своему – женился на женщине сильно старше его. Анна, узнав об этом, явилась к ним домой в надежде уговорить сына одуматься. Да напрасно, видно, ехала: невестка, полная да белолицая, и в дом свекровь не пустила:
– Чего тебе?
Анна растерялась:
– Да как же? Сын ведь мой…
Невестка оскалилась в улыбке:
– Теперь я ему и мать, и отец, и Бог, и царь… Поняла? Езжай, Нюрка, домой…
Так Анна стала Нюркой. А что поделаешь? Невестка сказала, как отрезала. Ехала домой и, глотая слезы, все шептала, глядя куда-то в пространство:
– Прости ее, неразумную… Вразуми, Господи!
Жизнь покатилась под уклон.
Все быстрее, быстрее и быстрее…
Нюрка постарела, седые волосы поредели, щеки избороздили глубокие морщины, руки стали трястись. Работы для нее не находилось. Профессию свою она давно потеряла, – пока жил муж, занималась домом да огородом, а после его смерти пыталась ходить по домам: то полы помоет, то огород прополет, то детишек посмотрит… Так и перебивалась. Обходилась самым необходимым.
Все ничего, только по сыну сильно скучала.
А он, поправившийся, раздобревший на жениных харчах, пошел в гору. Сначала магазинчик свой открыл, потом еще один… Машину купил, дом новый. Нюрка, зная, что невестка ее не любит, в гости и не просилась, боясь сыну навредить. Только иногда, как стемнеет, подходила к воротам их нового дома, становилась на цыпочки, пытаясь заглянуть в освещенные окна и хоть издали, одним глазком, взглянуть на свою кровиночку. Стояла, трясясь от холода и волнения, и тихо шептала, истово крестясь:
– Вразуми его, Господи! Вразуми…
Потом стало совсем худо. Нюрка работать уже не могла. Давление мучило, кровь из носа часто шла, глаза слезились. Набралась однажды смелости, пошла к сыну на работу. Шла пешком, денег на автобус не нашлось. Устала, несколько раз падала от слабости, юбку праздничную разорвала об торчащую ветку.
Сын ее узнал. Но не встал. Не подошел. Не обнял. Поглядел сурово из-под отцовских нависших бровей:
– Чего пришла?
Нюрка, как ни крепилась, не выдержала, зарыдала как ребенок:
– Сыночек! Родной ты мой…
Но тот и глазом не моргнул:
– Чего нюни распустила? Зачем приперлась?
Обмирая от страха и волнения, Нюрка не осмелилась попросить у него ни денег, ни внимания.
– Ничего. Просто мимо шла, думаю – зайду…
Он облегченно выдохнул:
– Ну? Так иди куда шла.
Она, спотыкаясь, ничего не видя от слез, повернулась и побрела к выходу. Он, словно опомнившись, вдруг позвал ее:
– Эй, стой…
Нюрка, не веря своим ушам, боясь дышать, обернулась. Сын, не глядя в глаза, подошел к ней и сунул в ее испачканную ладошку помятую бумажку Десять рублей…
Она подняла глаза. Слезы катились по ее морщинистой впалой щеке. Губы задрожали, но она нашла в себе силы улыбнуться и прошептать:
– Не надо, сыночек… Не трудись. Люди подадут.
Нюрка отвернулась и пошла, чувствуя, что силы вот-вот покинут ее немощное тело.
Как шла обратно, сколько брела, то падая, то поднимаясь, – она не помнила. Только шептала всю дорогу спасительное:
– Помоги, Господи! Вразуми его! Вразуми и сохрани…
…Служба началась.
Стройно запели певчие, затрепетали свечи перед святыми иконами, волной пронесся по храму зычный басовитый голос отца Гавриила. Нюрка, убрав свою железную кружку в тряпичную сумочку, вошла под старинные своды. Купила на поданные только что деньги свечку, подошла к любимой иконе и, вглядываясь в мудрые, глубокие, все понимающие глаза, тихонечко прошептала:
– Помоги ему, Господи! Вразуми…
Материнская молитва самая сильная. Нюрка молилась о сыне.
Вразуми нас, Господи…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































