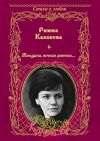Текст книги "Ты мой ненаглядный! (сборник)"
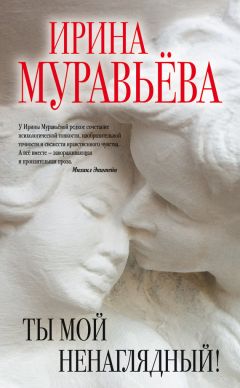
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Тебя там все ищут, – сказал он с усилием.
– И больше всех Дора, – с издевкой сказала она. – Я вся обморозилась здесь. Я шагу не сделаю больше.
Тогда он взял ее на руки и понес.
* * *
Ты мой ненаглядный. У тебя были глаза такой голубизны, что даже когда мы с тобой умирали, нам осталось два дня до минуты, когда лоб твой стал ледяным, ты вдруг посмотрел на меня тем вернувшимся, совсем молодым и совсем голубым, – таким голубым, что сейчас его чувствую, – сквозь всю нашу жизнь и сквозь все мое детство, – внезапно вернувшимся взглядом. Я помню.
* * *
В конце февраля Анечка, покусывая нижнюю губу, сказала матери, что ее все время тошнит. Весь этот месяц Иаков, наблюдая за своей любимой младшей дочерью, строптивой, упрямой, с лицом как у куклы, но с очень решительным, жгучим характером, чувствовал, что сердце его готово выскочить из груди от боли. Но, кроме боли, у Иакова, – Якова Палыча, всеми уважаемого бухгалтера совхоза «Сибирские выси», – была еще гордость, и именно гордость не позволяла ему схватить приблудившегося к ним красавчика Лазаря за его темно-русые кудрявые виски, притиснуть к стене и спросить:
– Ты, Лазарь, о чем себе думаешь?
А Лазарь не думал. Он приходил к ним в дом почти ежедневно, его там кормили и потихоньку вытягивали из его недозревшей испуганной души все, что она накопила за жизнь. Они уже знали про маму и Зиги, про Грету и Лию, Наума, про доктора Унгара и про гимназию. Скрывал он от них только Сюсю. Дора страдала от неразделенной страсти и так безутешно плакала по ночам, что к утру наволочка ее была насквозь мокрой. Анечка смотрела мимо Доры, мимо Сони и только, встречаясь взглядом с отцовскими настороженными и огорченными глазами, слегка поджималась, как будто робела. С Лазарем она стала женщиной. Это случилось через два дня после того, как он отыскал ее в дымящейся вьюге и на себе приволок домой. Случилось внезапно, каким-то порывом, и Лазарь хотел даже встать на колени, когда она вся искривилась от боли.
– Прости меня, Анечка, я…
– Дурачок, – сказала она. – Ты ведь любишь меня?
Началась новая жизнь. Невыносимо острые, не до конца понятные ей самой ощущения, которые Анечка теперь испытывала всякий раз, когда они оставались наедине, наполняли ее каким-то странным, раздраженным сознанием власти над ним, как будто бы он был рабом, а она – госпожою. И то, что он ярко краснел и стеснялся, смотрел так, как будто сейчас убежит, – все именно это ведь и подтверждало! А Лазарь страдал от стыда, от неловкости, казалось, что он виноват перед нею, хотя было видно, что оба нуждались в здоровой телесной любви. Когда Анечка уводила его за занавеску, где стояла ее кровать, накрытая связанным Соней одеялом, и требовательно смотрела на него своими очень лучистыми глазами, уверенная, что его нерешительность вызвана опасением, как бы не вернулся кто-нибудь из домашних, Лазарю всякий раз хотелось сказать ей, что у него есть Сюся, и поэтому даже если он никогда не ляжет с Анечкой на эту кровать и никогда не закричит от чисто физической, сладостной муки, во время которой мужчина не помнит, ни где он, ни кто с ним, то он очень скоро забудет и Анечку, и запах ее очень белого тела, и то, как она часто-часто моргает и не произносит ни слова во время их быстрых, пугливых, неловких сближений.
Через полтора месяца она сказала маме, что ее тошнит, и мама вместе с Соней – обе закутанные в пуховые деревенские платки и перепуганные насмерть – выпросили у Иакова лошадь с подводой, чтобы отвезти Анечку в больницу. Иаков низко опустил голову, и видно было, как у него задрожала левая щека.
– Что с Мириам? – спросил он глухим рваным голосом.
– Она нездорова, – сказала жена. – Пусть доктор посмотрит.
– Пусть доктор посмотрит. – Он побагровел. – А мы с тобой разве без глаз? Мы слепые?
В областной больнице высокая, похожая на мужчину, с мелкой, кудрявой растительностью над верхней губой и вдоль щек, фельдшерица обнаружила, что Анечка беременна. Выслушав эту новость, немые от ужаса мама и Соня дрожащими руками напялили на Анечку шубку, всунули в валенки ее крохотные ноги и, плача навзрыд все втроем, вернулись домой. Иаков в железных очках и в ермолке сидел за столом, на котором лежала раскрытая Тора. Он сразу все понял.
– Иди сюда, Мириам. Садись и не бойся.
Лицо его словно подернулось пеплом. Стараясь не задевать взглядом ее тела, как будто бы в теле ее было что-то, чего он боялся, Иаков спросил, как же это случилось. Она промолчала.
– Тебе нужно замуж, – сказал он спокойно. – Где Лазарь?
– Но я не хочу еще замуж! Зачем мне? – И Анечка вспыхнула. – Я не хочу!
– Теперь уже поздно хотеть или нет.
Надел рукавицы, тулуп, волчью шапку. Ермолку сложил, завернул в кусок шелка. Прошел мимо Сони и мимо жены, как будто бы их вовсе не было в комнате. Через несколько минут, тяжело ступая валенками по скрипящему снегу, подвел уставшую лошадь к водовозке, и пока она бархатными, коричневыми губами пила из кадки, на которой разбила тонкий лед, ударив по нему мордой, обдумывал то, что ему предстоит. Было совсем темно, за снежной долиной, под которой стыла река, мертвым и неприкаянным светом блестел тонкий месяц.
Лазарь выскочил на крыльцо босым, в одной рубахе.
– Она ждет ребенка. Ты знаешь об этом?
– Я – нет! Она мне ничего не сказала! – И Лазарь закашлялся хрипло и громко.
– Убил бы тебя, но ребенка мне жалко. Хоть толку с тебя, как с козла молока.
– Но мы с ней распишемся! Я ведь согласен!
– Сначала меня бы спросил: я согласен?
В проеме двери показалась Анисья с лучиной, горевшей кровавым огнем.
– Здоровья вам, – громко сказала она. – Зайдите в избу, заметет.
– Здоровья и вам, – поклонился Иаков. – Мы поговорили уже. До свиданья.
Их расписали в областном центре Юзгино. На Анечке было красивое платье, и Соня связала ей белую розу, которую Анечка вдела в пучок. Туфельки, купленные еще в Москве, она надела прямо в санях, поэтому Лазарь, причесанный на косой пробор и ставший похожим на Зиги, нес Анечку, словно ребенка, до самых дверей неказистой конторы. В конторе стоял крепкий запах махорки и талого снега. Вечером состоялась свадьба. Дом Иакова жарко протопили, посреди его устроили хупу: натянули ярко-белую простыню на четырех высоких столбиках, и под эту простыню встали смущенные молодожены. Слепая от слез, пропитавших лицо и сделавших красными тени подглазий, сестра новобрачной держала свечу.
«Барух Ата Адонай, Элохейну Мелех ха-олам ашер бара сасон ве-симха, хатан ве-хала…» – серьезным, торжественным голосом нараспев произнес Иаков. – Благославен Ты, Господь наш Бог, Царь Мироздания, сотворивший веселье и радость, жениха и невесту…»
Лазарь смотрел на свою жену, у которой ярко горели щеки, а в лучистых глазах стояло диковатое удивление, потом переводил зрачки на ее отца, который мог бы, наверное, убить его за то, что он, не любя, сделал его дочке ребенка, и думал, что эти вот тихие люди спасли ему жизнь, и что, если бы Зиги увидел сейчас эту скромную свадьбу среди неподвижных алтайских сугробов, он был бы, наверное, рад за него.
* * *
На следующий день Яков Палыч, всеми уважаемый бухгалтер совхоза «Сибирские выси», начал хлопотать, чтобы мужу его младшей дочери разрешили перебраться к ним в барак и жить с ними общей семьей. Пришлось дать хорошую взятку одноногому коменданту, но и от коменданта не много зависело. За взятку в военные их времена могли расстрелять и того и другого. В конце концов, случай помог: в школе умер директор, хороший мужик, на себе все тащивший. Он преподавал и немецкий, и химию. Вот тут Яков Палыч подсунул зятька.
– Уж кто-кто, а Лазарь сумеет! Научит!
Никто ему не возражал. Одноногий, скрепя пьяное сердце, подписывал справки.
Анисья, прямая, в платке по глаза, стояла на верхней ступеньке крыльца.
– Иди суда, Леша, хоть перекрещу. Ты лук у меня воровал по ночам, – сказала она. – Думал, бабка-то спит. А я не спала, я жалела тобя. Пускай, – говору, – хоть лучком поживится, а то ведь помрот. Когда старики помирают, не жалко, а ты молодой.
* * *
Он больше не убивал деревья, предсмертный скрип которых наматывался на голову, как бинт, и не отпускал его ни днем, ни ночью, он преподавал теперь в школе, где строгие, с большими руками, уральские девушки всегда опускали глаза, отвечая. И спал он теперь не один, а с женой. Она заплетала кудрявые волосы, ложась с ним в постель, в очень толстую косу, конец у которой он ей перевязывал большой белой лентой с конфетной коробки, еще довоенной и очень нарядной.
Ночью Лазарь просыпался от того, что сердце его дико билось в груди. Ему это напоминало, как бились на рынке в родном его городе куры, которым особенно ловко и быстро, специальным топориком, резали головы. Анечка спала рядом, и ее лицо с размашистыми, как листья папоротника, ресницами во сне становилось задумчиво-детским. Лоскутное одеяло бугорком приподнималось на животе: до родов осталось чуть больше недели.
Чего он боялся? Того, что ребенок умрет. Того, что придут и его арестуют. Того, что нет мамы, нет Лии, нет Зиги, Наума и Греты, Арона и Сюси. Есть только война. И война – это жизнь.
Ребенок родился в четверг. Хрупкий мальчик. Глаза как у матери, но голубые. Октябрь был теплым. Когда они возвращались из больницы, подул свежий ветер, и белую гриву их лошади вдруг позолотило слепящим закатом. Приблизив ребенка к лицу, Лазарь начал его согревать осторожным дыханьем. Ребенок поморщился, но не проснулся.
Ты – мой ненаглядный. Теперь, в том пространстве, где все – только свет и куда не смогу пробиться до срока, – ты помнишь все это? А помнишь, как ты мне сказал «моя доченька», когда уходил, оставлял меня здесь?
Дед
Закрываю глаза и вижу этот переулок. Первый Тружеников. Двухэтажный деревянный дом, в котором я прожила первые десять лет своей жизни, и маленькую церковь на той же, правой, стороне улицы, где Чехов венчался с Ольгой Книппер, и угловой дом, на втором этаже которого жила моя одноклассница Алка Воронина, и у ее мамы, работающей в ГУМе продавщицей, часто бывали гости.
Я никогда не представляю себе его летом, всегда только зимой. Странная вещь – воображение: вижу не только снег, от которого бела и пушиста мостовая, но чувствую его запах, слизываю его со своей горячей ладони, только что больно ударив ее на ледяной дорожке, которые мы называли «ледянками» и на которых всегда звонко падали, особенно лихо разбежавшись. Когда я родилась, парового отопления в нашем доме еще не было, отапливали дровами, и особым наслаждением было ходить с дедом на дровяной склад – по раннему розовому морозцу – выбирать дрова. Так чудесно пахло лесом, застывшей на бревнах янтарной смолою, что жалко было уходить из этого мерцающего снегом и хвоей царства, где свежие дрова лежали высокими поленницами и покупатели похлопывали по ним своими рукавицами, прислушивались к звуку и даже, бывало, принюхивались.
Дед умер, когда мне было семь лет, и самое яркое воспоминание о нем связано с тем, как последней перед школой зимой меня решили поглубже окунуть в детский коллектив, покончить с моею застенчивостью, но в сад отдать все-таки не захотели, а выбрали для этой цели «группу». «Группами» называли детей, гуляющих в сквере с интеллигентной дамой, а чаще старушкой из «бывших», которая играла с этими (тоже обычно интеллигентными!) детьми, водила с ними хороводы и заодно пыталась заронить в их беспечные головы несколько иностранных слов, обычно немецких и реже – французских. Таким образом здоровая прогулка на свежем воздухе совмещалась с образованием. Сначала меня записали к Светлане Михайловне, женщине румяной, круглоглазой и очень крикливой, но вскоре выяснилось, что ни одного иностранного языка Светлана Михайловна не знает, и меня перевели в другую группу, поменьше, где худенькая старушка Вера Николаевна с каким-то хрустальным пришептыванием легко переходила с одного иностранного языка на другой, но главное: только увидев меня, сейчас же вскричала: «Мальвина!» Чем очень понравилась бабушке.
Меня привели в сквер, как и полагалось, к десяти. Привел дед и, оглядев всех детей, а особенно Веру Николаевну, зоркими и умными глазами, пошел было к главной аллее (мы гуляли в маленькой, боковой!), чтоб выйти из сквера на улицу.
Я зарыдала и бросилась его догонять. Вера Николаевна бросилась за мной, интеллигентные дети, побросав свои лопатки, бросились за Верой Михайловной, и, хрустя по чистому, еще не исхоженному снегу своими валенками, мы все догнали деда и окружили его. Я, не переставая рыдать, уткнулась в карман его тяжелого добротного пальто, где лежали ключи. Дед растерялся. Меня необходимо было заставить остаться в этом хорошем детском коллективе, потому что иначе как же я пойду в сентябре в школу – такая вот дикая, странная девочка? Но при этом звук не то что моих рыданий, но даже легкого всхлипывания действовал на деда так неотразимо тяжело, что лучше уж было забрать меня сразу домой, пойти со мной вместе на склад, в военторг, где круглый год продавались елочные игрушки, и даже пойти в гастроном на углу и позволить мне выпить стакан томатного сока из общего, слегка ополоснутого стакана, что было строжайше запрещено бабушкой. И соли туда положить тоже общей, кривой и обугленной ложкой.
Умная и, думаю, всякого повидавшая на своем веку Вера Николаевна, хрустально пришептывая, предложила деду гениальное решение: сесть на одну из массивных лавочек с ажурными, утопающими в снегу лапами, спиной к нам, резвящимся на иностранном языке в маленькой боковой аллее, и так просидеть три часа. И я успокоюсь, поскольку дед рядом, и буду с детьми, как о том и мечтали.
И он послушался её, вернее меня, моих этих слез, и капризов, и криков. Он сел на лавочку, стоящую на центральной аллее, а я с остальными детьми вернулась к тому столетнему дереву с дуплом, под которым полагалось водить хороводы. И заигралась, конечно, забыла о нем, увлеклась своей новой и полною жизнью. Но каждые десять-пятнадцать минут я спохватывалась, бросала лопатку, бросала «куличик», слегка кривобокий от формы ведерка, и переводила глаза на эту лавочку, над которой возвышалась прямая спина моего деда, посеребренная мягко и медленно идущим с небес снегом. Один раз я не увидела его на этой лавочке и уже приготовилась зарыдать, но тут же успокоилась: дед никуда не ушел, он просто окоченел и потому подпрыгивал рядом, похлопывая себя по бокам и растирая щеки варежками. Ровно в час дня культурная и оздоровительная прогулка закончилась, и мы, взявшись за руку, пошли домой.
– Не замерзла? – спросил меня дед.
Я отрицательно покачала головой: новые впечатления переполняли меня.
И так продолжалось до самой весны: он сидел на лавочке, я играла с детьми. Он мерз, я сияла от счастья. Откуда мне, шестилетней, было догадаться, что значит сидеть три часа на морозе во имя любви?
Как мой дед взял Зимний
Оле
Я пошла в первый класс. Жизнь наступила ужасная. На одном уроке учительница Вера Васильна, рыжая и огромная, с ярко начерненными бровями, ударила меня кулаком по руке, и на ней осталось большое красное пятно. На другом я тихо описалась, но звук оказался таким беспощадным, как будто скатился какой-нибудь Терек. Это было не в самый первый день, то есть не первого сентября, а, может быть, пятого или шестого, но ужасная жизнь началась сразу же, как только дети сложили свои астры и георгины, завернутые в газеты, на стол посреди вестибюля. Меня оторвало от бабули, прижало лицом в чей-то круглый затылок, и, ставши вдруг частью испуганной гусеницы из маленьких ног и бантов, я взобралась на второй этаж, где очень приятно пахло масляной краской, которая напомнила то, как в начале лета красили пол на даче. Я обрадовалась этому запаху, как, наверное, какие-нибудь узники в своих крепостях радуются, если на их зарешеченное окошко вспорхнет вдруг случайная птичка.
Тогда я, впрочем, ничего не знала ни о крепостях, ни об узниках. Я, если честно признаться, мало что знала о жизни, кроме того, что есть зима, когда волокнисто вздымается снег и каждая снежинка вспыхивает под светом уличного фонаря, и есть еще лето, когда мы гуляем в лесу и рвем в нем ромашки. В моей прежней жизни тоже были, конечно, сильные переживания и громкие восторги, но меня не били кулаками по руке, и я ни разу не слышала слова «строимся». Тем более я знать не знала о том, что была революция. О царе я, правда, слышала, но только из сказок, и не успела обратить на него должного внимания, потому что женственное с самого младенчества сознание мое было целиком поглощено царицами и царевнами. Первого сентября выяснилось, что был царь, который так издевался над простыми людьми, что все эти люди собрались вместе, схватили в руки красные флаги (и ружья, конечно, схватили!) и свергли царя. Что такое «свергли», я сразу поняла: он спал на перине, и тут его «свергли».
К ноябрьским праздникам моя беспечная душа окончательно омрачилась. Каждая вспыхивающая под светом уличного фонаря снежинка покраснела, потому что в школе постоянно говорили о крови. Кровь эта, как выяснилось, бурлила буквально повсюду: солдаты проливали кровь за Родину, революционеры боролись до последней капли крови, буржуи и помещики пили кровь из народа, и все, что я по своей наивности прежде принимала за летние цветы и ягоды, было результатом все той же невиданной крови: «не зря мы кровью нашей окрасили поля: цветет – что день, то краше – Советская земля!»
То, что дома от меня скрывали самую главную правду и я ничего не знала о том, что царя «свергли», а целых семь лет все каталась на санках да в темном лесу собирала букеты, вызвало во мне испуг. Нужно было срочно исправлять жизнь. Менять ее так, как теченье реки меняют строительством грозной плотины. Мы жили в деревянном доме. Квартира была коммунальной. У нас было две смежных комнаты, а в двух других, тоже смежных, жила очень высокая, с огромною грудью и темным венком из косы тетя Катя, «отбившая», как говорили, себе дядю Сашу, который ей был по плечо и к тому же татарин. Я тогда не знала, что есть разные народы и национальности, а думала, что «татарин» – это то же самое, что дворник. Дядя Саша был дворником и, пока тетя Катя не «отбила» его, скреб своей лопатой наш тихий переулок. Потом она его «отбила», и он стал работать на заводе. В доме напротив, тоже деревянном, жила моя подруга Алка Воронина. У Алки Ворониной была мать, работник торговли, и бабушка-пьяница. До школы мы не очень знали друг друга, потому что меня растили неправильно и, как говорила учительница Вера Васильна, «не готовили к жизни», но теперь, оказавшись в одном и том же первом «А», мы с Алкой сдружились, и она торчала у нас до самого вечера. К тому же и к маме ее ходил «хахаль», которому Алка мешала. Я думала, что «хахаль» – это клоун с рыжими волосами, и не понимала, зачем он к ней ходит, но Алка сказала, что «хахаль» – мужик, и я успокоилась. Перед самыми каникулами Вера Васильна наконец подробно объяснила, как было дело: царь и его слуги спрятались в Зимнем, огромном дворце в Ленинграде, где их охраняла вся царская армия, но, как только с крейсера «Аврора» раздался залп, революционные солдаты и матросы ворвались в огромный дворец, и Зимний был «взят». В доказательство того, что в ее словах – все правда, Вера Васильна, смаргивая ресницами слезы, показала нам картину «Штурм Зимнего». Картина произвела на меня оглушительное впечатление. Люди с винтовками бежали прямо в огонь. Орали при этом так громко, что даже и мне было слышно. Картина дымилась, сверкала: на ней брали Зимний.
Ночью я проснулась. Мирный ноябрьский снежок шелушился на крыше высокого каменного дома, который было хорошо видно из моего окна. Свет ночника мягко золотил старинную акварель, где в нежных кудрях молодая красотка смеялась смущенно, лукаво, испуганно. Еще был ковер над кроватью: лиса, несущая в горы какую-то курицу. А если бы Зимний не взяли так вовремя, то нас никого бы здесь не было. Слезы подступили к моему горлу, и горячая соленая вода залила лицо. Я с трудом удержалась от рыданий, но что-то сверкнуло в моей голове. Такое прекрасное, светлое, сильное, что я моментально заснула от счастья.
Назавтра наступили каникулы. Алка Воронина пришла к нам обедать и с гордостью сообщила, что у них гости: к хахалю приехали брат с женой и друг, с которым хахаль служил в армии. Теперь все «гуляют». У нас было тихо. Красотка в кудрях, тетя Катя в переднике. Тетя Катя была строга, «гулять» не любила сама и дяде Саше не позволяла. Однако пекла пироги и варила холодец, поглядывая на портрет Сталина, украсивший общую кухню. Мы с Алкой сидели на подоконнике, поджав под себя ноги, и смотрели на улицу. Внутри ослепительно ясного снега шатались какие-то пьяные.
– Мне главное, чтобы мать снова пить не начала, – рассуждала Алка. – Тетя Таня говорит: «Если мать снова пить начнет, я тебя к себе заберу, не дам тебе помереть».
Алкина жизнь была полна опасностей, дни ее, в отличие от моих, были яркими и свежими: то хахаль, то гости, то пьют, то гуляют. Теперь: «помереть не дадут».
Тогда я решилась.
– Пойдем, – прошептала я Алке, спрыгивая с подоконника. – Я тебе одну вещь расскажу.
В маленькой комнате спала домработница, в большой лежала на диване бабуля и читала. Папы дома не было. Фотографии умерших мамы и деда висели на стенах.
– Куда пойдем?
– Пойдем на кухню, – приказала я. – Здесь не могу.
На кухне сидел дядя Саша и парил в ведре ярко-красные ноги. Обычно он делал это по вечерам, но сегодня по случаю наступившего праздника, начал прямо днем, не дождавшись, пока закатится солнце. В руках у дяди Саши была газета, которую он громко читал вслух по слогам. Мы с Алкой попили воды из-под крана.
– Пошли в уборную, – сказала я. – Там никого нет.
Уборная была самым теплым в квартире и очень уютным местом. Стены ее, выкрашенные в темно-зеленую краску, располагали к задумчивости.
– Алка! – прошептала я. – Мой дедушка взял Зимний дворец!
Алка открыла рот и ахнула.
– Когда?
– Как когда? В октябре!
– Откуда ты знаешь?
– Он сам мне сказал. Перед смертью.
Алка горячо заплакала и обняла меня. Я тоже заплакала.
– Чего ж ты молчала? Сказала бы Вере Васильне!
Я всей душой верила, что мой дед взял Зимний, и это его я узнала в одном из бегущих вчера на картине. Конечно, тот, слева. А может быть, справа.
– Он был героем-революционером, – дрожащими губами уточнила я, и сердце ударило в самое горло. – Он жизнь свою отдал борьбе.
Мощная ладонь тети Кати хлопнула по двери.
– Чего там заперлись?
– Сейчас! Погодите! – и я отмахнулась.
– Гони их, Катюша! – солидно сказал дядя Саша. – Они уже час там сидят.
– Перед самой смертью, – задыхаясь и торопливо сглатывая слезы, продолжала я, – он подозвал меня к себе и сказал, что взял тогда Зимний дворец.
– А бабушка знает?
– Наверное, нет. Он сказал: «никому».
– Да что вы там? Ай обоссались? – спросила сквозь дверь тетя Катя.
Она любила меня и терпеть не могла Алку, которая, будучи дочкой «гулящей», могла научить меня ужас чему.
– Катюша, я тоже хочу в туалет, – сказал дядя Саша, любивший слова покрасивей. – Гони их оттуда взашей.
Мы вышли. Тетя Катя всплеснула голыми руками в муке.
– Так что ж вы тут делали?
Ночью я не могла заснуть. Тело пылало под одеялом, а память восстанавливала минуту, как дед (тут перед глазами возникала некоторая путаница между моим настоящим дедом, высоким, худым, серебристо-небритым, и этим матросом, который был слева!) подозвал меня к своей кровати и повторил все, что вчера рассказала чернобровая Вера Васильна, тыкая указкой в картину. Утром оказалось, что у меня температура, и я проболела не только каникулы, но целых три дня после этих каникул.
Когда я за руку с бабулей вошла в школьный вестибюль, оба наших класса «А» и «Б» были уже построены и развернуты лицами к лестнице. Бабуля приготовилась извиняться, но Вера Васильевна, вся разрумянившись, шагнула навстречу, как будто бы мы принесли ей подарки.
– Иди скорей, стройся! – сказала она и расправила брови.
На перемене Вера Васильна подошла ко мне:
– Панкратова!
Мы с Алкой гуляли по коридору.
– Воронина, погуляй одна! – сказала Вера Васильна. – Панкратова, иди за мной!
В пустом классе были открыты форточки: помещение проветривали, и пахло немного бензином и снегом.
– Твой дедушка был революционером? – волнуясь, спросила она.
Я покраснела так, что школьное платье прилипло к спине.
– Да, был. Он взял Зимний дворец.
Большое лицо Веры Васильны пошло пятнами, похожими на гроздья рябины.
– Панкратова! Что же ты раньше молчала? Твой дед был героем. Теперь весь наш класс будет этим гордиться.
Глаза ее увлажнились, и она быстро погладила меня по голове.
После уроков Вера Васильна, расталкивая учеников и родителей, протиснулась к бабуле, ждущей на лавочке в вестибюле с моей шубой и валенками на коленях. Бабуля испуганно приподнялась.
– Мы узнали, что ваш муж принимал участие в штурме Зимнего дворца, – сказала Вера Васильна, схватив сильными пальцами ее руку.
Бабуля выронила валенки.
– Ваша внучка рассказала об этом своей подруге Ворониной, а Воронина рассказала мне.
Тот страх, который сковал бабулю, был вряд ли подвластен словам. Но опыт всей прожитой жизни был равен наставшему страху. Она усмехнулась:
– Болтушка какая! Вот хвастаться любит!
– Какое же тут хвастовство? Ведь этим же нужно гордиться!
– А мы ей всегда говорим, – не чувствуя губ, языка, неба, рук и мелко дрожа, отвечала бабуля, – что каждый лишь сам за себя отвечает и нужно своими заслугами жить. За спину другого не прятаться.
– Но если в семье есть герой?
– Ах, что тут такого? У нас вокруг много героев.
– Так я расскажу на линейке ребятам? – полувопросительно сказала Вера Васильна.
– Вы знаете, лучше не нужно! Когда это было! Воды утекло! – Бабуля махнула рукой. – А ей привыкать к хвастовству! Она вон и так ни уроки не учит, ни книг не читает. Скажу ей: «посуду помой» – не желает! А тут и вообще ведь от рук отобьется! Нет, очень прошу вас, не нужно!
Бабуля повела меня домой, ухватив за воротник и даже не взяв у меня портфеля, который волочился за нами по снегу. Дома она села на стул и расплакалась.
– Господи! – заговорила она сквозь слезы, глядя на висевшие по стенам фотографии. – Господи! Ты меня слышишь! Набитая дура растет! Взяли Зимний!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?