Текст книги "Холод черемухи"
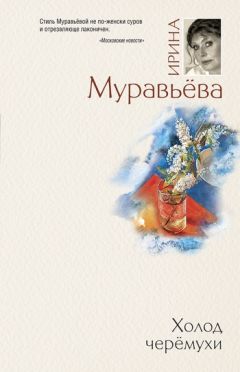
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Николай Михайлович согласился помочь мне в благородном старании сделать из вас драматических актрис, – так, словно она кого-то передразнивает, произнесла Одетта Алексеевна, и болезненная краска выступила на её щеках. – Он будет развивать в вас умение владеть своим телом на сцене, пластику движений и… – Она запнулась. – Да он вам и сам объяснит…
– Посмотрите на меня, – мягким и глубоким голосом попросил Николай Михайлович. – Кого вы видите? Вы видите пожилого и уставшего человека весьма некрасивой наружности, не так ли?
Ученицы покраснели и переглянулись.
– Да, так, – твёрдо и весело сказал Николай Михайлович. – А теперь я хочу обмануть вас. Я не хочу, чтобы вы видели некрасивого старика. Хочу, чтобы вы видели прекрасного, полного сил молодца.
Будущие драматические актрисы хихикнули. Николай Михайлович сделал какое-то резкое акробатическое движение, как будто бы снял с себя кожу, и ученицы увидели перед собою другого человека. Этот человек безжизненно опустил руки, полузакрыл глаза и принялся легко, почти не касаясь пола, отбивать чечётку. Лицо его становилось всё моложе и моложе, движения всё быстрее. Волосы упали на большой и широкий лоб, глаза стали ярко-зелёными, как у кошки. Одетта Алексеевна махнула рукой и вышла из комнаты. Чечётка остановилась.
– Бывали ли вы на Украйне? – слегка задыхаясь, спросил Николай Михайлович. – Хотите увидеть, как парубки пляшут? Глядите.
Он сбросил пиджак, оставшись в одной белой рубашке, упёр руки в боки, присел на корточки и быстро прошёлся вприсядку. Девушки ещё больше смутились и захлопали в ладоши. Им было неловко, что такой солидный господин разыгрывает перед ними целое представление.
– В каждом из нас, – надевая пиджак, тем же мягким и глубоким голосом сказал Николай Михайлович, – живёт по крайней мере шесть-семь разных человек. Академический театр в силу омертвелости своих форм не в состоянии вытащить из актера всё богатство его перевоплощений. Наше тело не догадывается о своих возможностях и оттого является своего рода клеткой, в которой томятся неизвестные звери. Вы догадываетесь, о чём я говорю?
– О чём? – вдруг громко спросила его Дина Зандер. – Какие звери?
– Это метафора, – улыбнулся Николай Михайлович и пристально посмотрел на неё. – Вы знаете, что такое метафора?
Дина ярко покраснела.
– У нас в гимназии русскую словесность преподавал Александр Данилыч Алфёров, – с вызовом сказала она.
– Тогда всё понятно, – кивнул он. – Не имею чести знать господина Алфёрова, но, судя по вашей горячности, вам этот предмет хорошо знаком.
Дина опустила голову и исподлобья посмотрела на него.
– Пантера, – сквозь зубы пробормотал Николай Михайлович, словно бы и не беспокоясь, что его могут услышать. – Итак, мои милые барышни, с завтрашнего дня мы с вами начинаем познавать истинный театр. Театр, возникший в глубокой древности, в пещерах первобытных людей, не боящихся обнажать свои инстинкты и передвигающихся по земле, как передвигаются животные, которым не мешает никакая одежда.
Глаза его опять остановились на Дине Зандер.
– И посему наши репетиции будут проходить в таких вот трико, – просто сказал Николай Михайлович и достал из портфеля чёрное подобие женского купальника. – Работать мы будем под музыку.
Одетта Алексеевна дожидалась его в своём кабинете, где топилась большая кафельная печь, хотя на улице было совсем не холодно.
– Я зябну всё время, – протянула Одетта Алексеевна, одной рукой снимая очки, а другую прикладывая к печным изразцам. – Никак не согреюсь.
– У вас холодные глаза, Оня, – низко и значительно произнёс Николай Михайлович. – От ваших глаз мне становится холодно.
– Не называйте меня Оней! – яростно прошипела Одетта Алексеевна. – У вас давным-давно нет на это никакого права!
– Привычка, – усмехнулся он. – Простите, не буду.
– Как вы легко согласились! – вспыхнула она. – Как вам это всё безразлично!
– Что – всё? – прищурился он.
– Всё, – прошептала Одетта Алексеевна, и слёзы полились по её лицу. – Всё!
– Ну, будет тебе, – устало сказал Николай Михайлович и большой, красиво вылепленной ладонью погладил её по щеке. – У нас был красивый чудесный роман, от которого остались великолепные воспоминания. Что Бога гневить? Ты, слава Богу, не одна, мальчик этот, говорят, тебя обожает, денег хватает. Вот школу открыла. На что тебе жаловаться?
– Николенька, – всхлипнула Одетта Алексеевна и, схватив его руку, вдруг поцеловала её. – Всё верно, что вы говорите, и всё неверно! Отчего же так душа болит, если всё хорошо? Я сегодня тебя чуть не ударила. Ей-богу, еле сдержалась, когда ты эту девицу так и раздел глазами! Ах, как ты подло устроен, как низко! Ну, признайся – ведь ты её уже из своих лап не выпустишь? Я, кстати, не знаю – теперь-то у тебя кто? Свято место пусто не бывает.
– Да никого… – отмахнулся Николай Михайлович. – Всё то же: сначала пылаю, а день, два и – пусто. Сглазили меня, Оня.
Одетта Алексеевна прижалась виском к его плечу и всхлипнула.
– Вот ты всё – театр, театр, новые формы… А я с тобой такому театру научилась!
– Иронии, Оня, побольше иронии! – весело оборвал её Николай Михайлович и осторожно высвободил своё плечо. – Пока люди не научатся пародировать самих себя, они так и будут несчастны. А вся наша жизнь – буффонада!
– Я никогда этого не пойму! – прошептала Одетта Алексеевна, закрыв глаза. – Почему же буффонада? Ведь если есть боль, если смерть? Что уж тут пародировать?
– Давай заключим с тобой, Оня, пари. На эту девицу. Ну, как её? Зандер? Ты утверждаешь, что красивая молодая женщина непременно должна глубоко переживать свои любовные отношения, платить, так сказать, сполна, так? А я тебе докажу, что если правильно повести дело, то и самая чувствительная из этих совсем ещё юных и свежих цыпляток сумеет, воспользовавшись тем запасом здорового цинизма, который есть в каждом из нас, пережить любой, самый бурный, роман как театральный спектакль.
– Но только не Зандер! – перебила его Одетта Алексеевна. – Там бешеный норов!
– Тем лучше, тем лучше, – присвистнул Николай Михайлович. – На что мы поспорим?
Одетта Алексеевна прищурила свои холодные близорукие глаза:
– На что? На «Абрау Дюрсо»! Ведь вы за здоровый цинизм?
– Да где же я шампанского раздобуду в военное время? Ты меня, Оня, просто под монастырь подводишь!
– Зачем вам шампанское? Ведь вы же уверены, что не проиграете? – насмешливо спросила она.
– Я, Оня, как наше Отечество: пру напролом, а что будет, не знаю!
Няня говорила, что у матери «тоска», а Дина совсем «взбеленилась». Алиса Юльевна плакала по ночам, боялась революции. Отец возвращался из госпиталя под утро и сразу валился спать. Иногда до Тани доносились обрывки родительских разговоров: мать была раздражена, отец терпелив, но измучен. Брат Оли Волчаниновой допился до белой горячки, и его чудом спасли, вынув из петли в чулане. На столе была обнаружена записка: «Больше не могу без света».
Зима внезапно закончилась, и облака, похожие на кудрявые овечьи головы, края у которых то были оранжево закрашены весенним солнцем, то, словно только что извлечённые из парного молока и неотжатые, тепло и волнисто светились, проплывали над Москвой, стараясь не задерживаться, боясь зацепиться за колокола, спешили, летели, как будто страшились, что этих родившихся в небе овечек убьют и замучают.
Весной начались перебои с продуктами. В усадебной оранжерее Кузьминок, которая кормила весь военный госпиталь огурцами и зелёным луком, отцу, как самому уважаемому из врачей, каждую неделю давали с собой в город большой пакет оранжерейной зелени и маленьких, кривых, пупырчатых огурцов. Алиса Юльевна, повязанная платком поверх шляпки, в чёрных очках, прячущих весенние ячмени на глазах, ездила за город на извозчике и возвращалась с купленной втридорога банкой сметаны. С ребёнка Илюши сдували пылинки.
Что-то совершалось в мире вокруг, вырастало прямо из-под земли с такою безжалостной чувственной силой, что город, казалось, дрожит от напора, и люди заметно бледнели, в их лицах появилось заносчивое и одновременно растерянное выражение, словно они понимали, что с каждой секундой приближаются к какому-то не ими принятому решению, что их уже крутит, ломает, корёжит, но делали вид, что ничуть не боятся.
Такого одиночества, как сейчас, Таня никогда не испытывала. Мама была дальше, чем даже тогда, когда Таня подрастала тут, на Плющихе, а мама со своим Иваном Андреевичем и новенькой дочкою Диной лежала в германских целительных ваннах, о Тане нисколько не думая. Теперь мама сидела в своей спальне, читала там что-то и, кажется, плакала. Почти каждый раз, проходя на кухню, Таня слышала доносящиеся из спальни тихие всхлипывания. Ей хотелось войти без всякого стука, обнять свою маму и тоже заплакать. Тогда она учащала шаги, чтобы не сделать этого. Отец, который, казалось, ни на что в доме почти не обращал внимания, однажды сказал между делом:
– Ты, может быть, думаешь, что гордость – это такая замечательная и редкая вещь? Совсем наоборот, совершенно! Это вещь – глупая, продиктованная раздутым представлением о собственной персоне, и больше ничего! Учти, пожалуйста: нельзя обидеть того, кто не хочет быть обиженным. Точно так же: нельзя и унизить, если человек знает, что его нельзя унизить. И унижение, и обида живут только внутри нас, а не привносятся извне, ты это запомни.
Таня, нагнув голову и краснея, посмотрела на него:
– Чем же это я гордая?
– Как – чем? Ты отлично знаешь, что оскорбила маму. Сорвалась на ней. И тебе уже самой не по себе, потому что душа у тебя хорошая. Я тебя вырастил, я знаю. Не спорь! Ты хорошая, добрая. Незлопамятная. Теперь ты бы и хотела помириться, но гордость мешает. Вот я тебе и попытался объяснить… И Дина такая же, только похуже.
– Гордая? – краснея, уточнила Таня.
– О да! До стервозности, – спокойно ответил отец. – Про таких людей говорят, что они ребёнка вместе с водой из корыта выплёскивают.
Форгерер Николай Михайлович признавал, что он человек больших страстей. Театр был одной из них, но не главной. Главной страстью были женщины и музыка, которые странно сплетались в его сознании, потому что, вспоминая прошлые привязанности, Николай Михайлович вспоминал не тела, не голоса, не даже лица любимых и разлюбленных женщин, он вспоминал ту особую, никогда не повторяющуюся музыку, которая сопровождала каждую из них и звучала в нём, пока он был с этой женщиной и думал, что любит её. Самая бездарная и скучная полоса отношений наступала тогда, когда музыка вдруг обрывалась. Он не мог объяснить себе, как и отчего это происходило. Была, скажем, ночь, или, скажем, был вечер. Блистание снега, луна, шелест листьев. Была неповторимая, как казалось ему в эту минуту, сладость женского тела, вкус губ, глаз, волос. Страшное содрогание любви, блаженство усталости, сон, поцелуи. Он возвращался домой, наполненный пережитым. Особую остроту придавало то, что почти все его пассии были замужем, и он ломал голову, как вырвать очередную из рук рогача, соединить с нею жизнь и каждую ночь наслаждаться вот этим – о, только вот этим! – вакхическим телом. При этом музыки в душе было так много, что Николай Михайлович шёл к себе в спальню на цыпочках, полузакрывши глаза, чтобы ни один посторонний звук не мешал ему.
Утром он просыпался и чувствовал пустоту. Ни сама женщина, ни то, что ещё несколько часов назад было связано с нею, не трогали и не волновали. Вместо музыки он слышал всё то, что одновременно с ним слышали остальные люди: шорох догорающих поленьев в печи, шуршание газеты, шаги прислуги, звяканье чайных ложек. Горячий туман, застилавший зрение, рассеивался, и Николай Михайлович видел в зеркале своё небритое и невыспавшееся лицо, складки на шее, тёмные круги под припухшими глазами. Сознание возвращало ему возлюбленную во всей вожделенной её красоте, и тут же что-то начинало скрести внутри с такой силой и равномерностью, с которою дворник скребёт снег лопатой. Без устали, шибко, размашисто. Вчерашнее драгоценное лицо бледнело, тускнело, рассыпалось, и воображение Николая Михайловича поспешно сгребало подробности в кучу: вот губы, вот волосы, вот милый запах. Одно оставалось: желание вырваться.
О, сколько было слёз, которые он и не пытался осушить! Сколько раздавленных болью голосов в телефонной трубке и сколько угроз, сколько жгучих проклятий! Он каменел. Объяснить, что, как и почему, он всё равно бы не смог.
– Какая-то странная у вас физиология, – сказал ему однажды знакомый студент-медик, которого убили, к сожалению, в самом начале войны. – Вы неизлечимы.
Николая Михайловича лечил театр. Он стал приверженцем биотанца, особого вида физического и духовного самовыражения, которому обучился в Индии. Оттуда же, из далёкой и сказочной этой страны, Николай Михайлович привёз себе друга – Шриму Гападрахату, женственного, оливково-смуглого, молодого по виду, а на самом деле семидесятилетнего человека, отца, если верить, двухсот сыновей, который при содействии Николая Михайловича открыл в Москве курсы восточного биотанца. Курсы поначалу пошли очень хорошо. Шрима Гападрахата, весь в белом и лёгком, сквозящем, как воздух, с полузакрытыми выпуклыми глазами, с плывущею из-под коричнево-голубоватых век таинственной, мудрой и вечной истомой, подражал леопардам, извивался, как змея, вставал на кончики больших пальцев ног и вдруг, как подкошенный, падал на пол, где даже и тонкого коврика не было. Музыка звучала при этом однообразно-сладкая, немного плаксивая, как тонкий и жалобный дождь, который вот-вот перестанет идти, а нет, всё идёт, всё струится, всё плачет.
На курсы записывались дамы средних лет и даже постарше, чем средних, немного совсем гимназистов, которых просвещённые родители желали как можно быстрее и основательнее раскрепостить, трое замученных собственными жизненными ошибками, которых уже не исправишь, государственных служащих и несколько просто случайных людей, которые тоже чего-то искали. К сожалению, это прекрасное, хотя и несколько чуждое для северного города учреждение пришлось закрыть, поскольку один гимназист, научившийся так перевоплощаться в леопарда, что и родная мать, вернувшись из джунглей с охоты, не могла бы с уверенностью определить, где гибкий пятнистый зверёныш, а где человеческий мальчик, до обморока напугал свою старую родственницу, ворвавшись к ней в комнату с рыком и воем. Бедная увядающая дама, пролежавши несколько часов в беспамятстве, очнулась и с прыгающими губами, в измятом халате и войлочных туфлях бегом побежала в полицию.
Курсы закрылись, и Шрима Гападрахата вернулся обратно в далёкую Индию. Оставшись без друга, а также наставника, Николай Михайлович решил, что найдёт способ применить прекрасное начинание в театре, и Одетта Алексеевна с её предложением поучаствовать в деле драматического преподавания пришлась как нельзя более кстати.
Вчера эта девочка с дикими сиреневыми глазами поразила его. В душе зазвучала жаркая, ни на что не похожая музыка, и сердце начало тихо, но отчётливо разрываться от приближения знакомого восторга. Эту девочку нужно было немедленно прижать к груди и поцеловать в губы. А руки при этом продеть в её волосы. И дальше всё так, как обычно.
На следующий день смущённые ученицы театральной школы Матвеевой, облачённые в одинаковые чёрные костюмы, которые вытягивали и удлиняли их и без того хрупкие, удлинённые фигуры, с опущенными руками стояли перед Николаем Михайловичем и ждали начала урока. Дина Зандер, перекинув через плечо туго заплетённую, бронзового цвета косу, смотрела на него исподлобья. Николай Михайлович завёл граммофон, который, слегка пошипев для порядка, заладил липучее, сладкое: «и-и-и…»
– Мы змеи, – негромко сказал Николай Михайлович. – Мы все – ядовитые хищные змеи. Сейчас мы ползём по горячей пустыне.
Он лёг на пол и пополз, слегка вздрагивая, как будто бесшумное пламя ему обжигало живот и колени. Будущие актрисы увидели довольно крупную и очень подвижную змею, которая в любую минуту могла выбросить изо рта ядовитое жало. Они испуганно переглянулись.
– Прошу вас: за мной, – сильным мужским голосом Николая Михайловича сказала змея. – Ползите за мной, не стесняйтесь.
Ученицы театральной школы осторожно легли на пол и поползли.
– О нет! Всё не то, – поморщился Николай Михайлович и встал во весь рост. – Ползите быстрей, извивайтесь! Вы змеи!
Дина Зандер, которая одна из всех продолжала стоять, издала какой-то пискнувший звук, как будто подавила в горле то ли смех, то ли слёзы. Николай Михайлович быстро оглянулся на неё.
– Что с вами? – спросил он, понижая голос, словно между ними существовала какая-то тайна. – Вам разве не интересно перевоплощение? Оно есть основа театра.
– Основа театра – талант, – вспыхнув, ответила Дина и тоже немного понизила голос. – А здесь… Это просто какая-то глупость.
Николай Михайлович близко подошёл к ней. От девушки пахло черёмухой. Музыка, которую он слышал сейчас внутри своего разгорячённого тела, стала настолько громкой, что на секунду он удивился этому и даже слегка испугался. Такого оркестра ещё не случалось.
– Я очень хотел бы доказать вам, что талант в нашем деле зависит исключительно от умения перевоплощаться, – слегка задыхаясь, сказал Николай Михайлович. – И та радость, то счастье, которое мы испытываем, то ни с чем не сравнимое счастье целиком зависит только от того, насколько мы способны преодолеть границы своего природного «я»… И слиться с другим существом. Взять и – слиться.
Опять она посмотрела на него исподлобья своими дикими сиреневыми глазами. Николай Михайлович с трудом удержался от того, чтобы не подойти ещё ближе.
– Зачем мне ползти, как змея, если мы Островского сейчас репетируем? – спросила Дина Зандер и кончик бронзового цвета косы прикусила вишнёвыми губами.
– Островский ни при чём, – бледнея, как тающий снег на бульваре, прошептал Николай Михайлович. – Когда вы сегодня закончите классы?
Она удивлённо сверкнула на него фиолетовым огнём. Он больше не видел её, только запах черёмухи…
– Сегодня в четыре, – сказал её голос.
– Тогда подождите меня здесь, в классе, – поспешно попросил он. – И я объясню вам основы театра. А то вам и впрямь будет трудно в этюдах… Вернее… Ну, вы всё поймёте…
И он отошёл. Так стремительно, что чуть было не наступил на одну из ползущих и судорожно извивающихся, совершенно перевоплотившихся учениц.
Этот день, восьмое марта, был серым, но тёплым, и солнце, которое сначала осветило снег, и он заблестел тускловатым опалом, сокрылось за тучу. И начало капать с сосулек, с крыш, с белёсого неба. Кто-то словно оплакивал угрюмую землю с её куполами, с её стариками, которым придётся вот-вот уходить, но только, куда уходить, неизвестно…
Таня, Алиса Юльевна, мама и няня сошлись, как обычно, в столовой к обеду. Алиса Юльевна разлила суп по тарелкам и, покраснев, сказала, что картошка была очень мелкая и даже частично гнилая, поэтому суп, может быть, не удался. Как раз в эту минуту раздался звонок в дверь, и, вся мокрая, стряхивая капли с волос, в столовую вошла Оля Волчанинова, сказала, что она на минутку, обедать не хочет, а хочет поговорить с Таней.
В детской она опустилась на стул и зарыдала.
– Да тише! Илюшу разбудишь! – зашикала Таня.
– Ну, так пойдём отсюда! На кухню пойдём. Там ведь никого нету? – давясь слезами, прошептала Волчанинова.
На кухне хорошо пахло свежезаваренным чаем, который в доме Лотосовых ещё не научились экономить.
– Татка, он всех нас уморит! – широко раскрывая глаза, застонала Волчанинова. – Он маму совсем добивает!
– Кто? Петя?
– А кто же ещё? Сегодня утром ввалился ко мне в комнату, пьяный опять, опухший и – бух на колени! «Застрели меня, – говорит, – сестрёнка! Сделай такую милость! Боюсь: не попаду!» Я плачу, обнимаю его, он весь так трясётся, трясётся, горячий, как будто у него жар, а худой какой! Я ему говорю: «Петруша, но ты пойми, ведь война, ведь ты сам говорил, что тот не мужчина, кто во время войны не Отечество защищает, а на диване отлёживается! Ведь ты сам на эту проклятую войну записался! И слава Богу, – говорю, – что ты только зрения лишился! Других и совсем убили!» – «Ах, – кричит, – да если бы меня убили! Да я бы того человека озолотил!» – «Что ты, – говорю, – мелешь! Слушать тошно! Озолотил бы он! Жизнь – это же чудо такое! Ведь если Бог тебе жизнь дал, как же ты её отнять у самого себя хочешь?»
Волчанинова не могла продолжать: слёзы душили её.
– А он что? – не поднимая на неё глаз, пробормотала Таня.
– Мама сейчас в Алексеевскую больницу поехала за доктором, пусть ему хоть лекарство дадут! Ведь сил у нас нету смотреть на него!
– В Алексеевскую? – И Таня темно покраснела.
– Там доктор какой-то, его очень хвалят. Мы звонили, звонили, а у них телефон то ли отключён, то ли вообще не работает! И поэтому мама поехала сама, будет просить доктора к нам. Петька ни за что туда не пойдёт, не силой же его тащить!
– Ты его одного сейчас оставила?
Оля Волчанинова громко всхлипнула:
– Татка, ну хоть бы ты меня пожалела! Я с ним боюсь одна дома сидеть! А вдруг он руки на себя наложит?
– Немедленно пойдём к нему! – решительно сказала Таня и сразу пошла в коридор одеваться. – Мама! Последи за Илюшей! Я быстро. Мне нужно по делу.
Она сама услышала власть в своём голосе, и её обожгло: ни с кем на свете она не чувствовала себя так дерзко и уверенно, как с матерью.
До Второго Вражского переулка они почти бежали. Снег таял, расползался под ногами, и такое тоскливое, такое безнадёжное марево из пустого, едва заметного неба, которое словно стремилось упасть на все эти крыши и ветки деревьев и тихо, и мягко звенело не то очень ранним дождём, не то очень поздним, безрадостным снегом – такое пустое, такое тоскливое что-то висело над миром, как будто уже и не будет ни лета, ни светлой весны, ни прекрасного пенья, а будет одно: этот снег, этот дождь и спившийся, ослепший Петруша, который зачем-то пошёл на войну, а там, на войне, его и ослепили…
У самого дома Волчаниновых Таня вдруг остановилась:
– Мне нехорошо. Голова кружится!
Оля Волчанинова посмотрела на неё умоляющими глазами. Она потянула на себя дверь, они вошли в парадное, и Таня услышала сверху его голос.
– Если вы не перестанете пить, вы и так очень скоро умрёте! – сердито говорил Александр Сергеевич. – Не стоит даже и беспокоиться!
Таня поднялась по лестнице следом за Олей. В гостиной всё выглядело так, как обычно, и так же мерно и громко стучали настенные часы с кудрявым, пузатым, весёлым Амуром. Бледный как смерть Петя Волчанинов, в котором было не узнать спокойного, слегка меланхоличного и очень добродушного мальчика, так знакомого Тане по детству, что даже само имя Петя всегда приводило то к ёлке с огнями, то к заиндевевшим прогулкам по скверу, то к запаху вишен, ссутулившись и плача, сидел на диване и обеими дрожащими руками прижимал к голове мокрое полотенце. Спиной к вошедшим, не обернувшись даже на звук их шагов, стоял Александр Сергеевич Веденяпин, которого Таня не видела ровно восемь месяцев и четыре дня и которого она любила так сильно, что любое, даже мысленное прикосновение к этой любви вызывало боль, останавливающую дыхание.
– Я бы забрал вас к себе в клинику и продержал бы там месяц-другой, – сердито продолжал Александр Сергеевич, – но сейчас не то время, чтобы возиться с распущенными, никого, кроме себя, не жалеющими субъектами! Мне стыдно за вас. Вы храбрый военный человек, прошли через страшные вещи, видели перед собою смерть, теряли товарищей, вы, слава Богу, выжили, вернулись, у вас мать, которая не чает в вас души, у вас сестра-девушка…
Он обернулся. Таня прислонилась к двери. Та доля секунды, которая соединила их взгляды, плеснула в зрачки кипятком.
Потом Волчанинов сказал:
– Всё верно, что вы говорите, а страшно…
– Да, страшно, – хрипло повторил Александр Сергеевич. – Вы правы, голубчик. Всё страшно…
Он наклонился над Волчаниновым, отвёл его дрожащие руки, снял и бросил на пол мокрое полотенце.
– Вы всё же не плачьте, – совсем другим, тонким, молодым и прояснившимся голосом сказал Александр Сергеевич и сделал такое движение, как будто он хочет обнять этого пьяного Петрушу. – Я дам вам лекарство, и вам станет легче. И сам навещу через несколько дней.
Волчанинов обеими руками вцепился в его локоть и зарыдал. Его мать, бывшая тут же в комнате, громко всхлипнула.
– Мама! – сквозь рыдание прокричал Волчанинов. – Не буду я вешаться! Слово даю вам!
Когда Таня вышла на улицу, уже темнело, и снег шёл почти как зимой: густо, влажно. Александр Сергеевич стоял, прислонившись к дереву. Он был весь в снегу. Она знала, что он будет ждать до тех пор, когда ей удастся вырваться от Волчаниновых, и не удивилась.
– Люблю тебя, – негромко сказал Александр Сергеевич, не делая ни шагу ей навстречу. – Безрадостно и бесконечно люблю. Ну, что будем делать?
Она вспомнила, как поклялась Илюшиной жизнью, и страх, какого она никогда не испытывала, заколотил её. Ей вдруг показалось, что даже если она просто дотронется сейчас до Александра Сергеевича, просто положит руку на его плечо, там, дома, немедленно что-то случится.
– Не бойся меня, – так, как будто он читал её мысли, сказал он. – Ничего я тебе не сделаю. Того, чего ты сама не захочешь.
– Зачем вам всё это? – прошептала она.
– Что – это? – усмехнулся он и обеими руками стряхнул снег с её шапочки. – Ты знаешь, что написал этот парень в своей предсмертной записке? «Не могу без света». Дурак дураком, а сумел сформулировать! Его же не спросят, зачем ему свет!
– Ничего не нужно делать, потому что…
Нельзя было объяснить ему, почему. Он не должен был этого знать.
– Я пробовал, – просто сказал он. – Я даже и думать себе запрещал. Ничего не помогает. Зависимость. Знаешь, бывает от морфия.
– Но я же не морфий! – вскричала она. – Даю тебе слово, что я никогда больше… Ни за что…
– Да я тебе верю, – кротко усмехнулся он. – Ты только ведь кажешься мягкой, а все вы железные…
Сквозь снег она видела, как меняется его лицо. Оно менялось так, как это бывало и раньше, когда он близко подходил к ней или обнимал её, и лицо его тут же сильно бледнело, а выражение его становилось таким, как будто он теряет сознание.
– Саша! – шёпотом выдохнула она. – Отпусти меня сейчас! Я должна быть дома.
Александр Сергеевич открыл глаза.
– Иди, – сказал он. – Я знал, что ничего не получится. Я и сам понимал, что ты не вернёшься. Наверное, я тогда слишком сильно отпугнул тебя этой своей историей… Не нужно было тебя посвящать во все эти подробности…
– Какие подробности? – вздрогнула она.
– Да вся эта наша с ней жизнь. Сначала я рассказал тебе, как сходил по ней с ума, потом этот фарс с мнимой смертью, потом возвращение… Любого стошнит от таких откровений. Вон Васька писать перестал…
Он слегка, одними губами, улыбнулся ей и побледнел ещё больше.
– Он больше не пишет домой? – ахнула Таня.
– Она ему сама написала, когда вернулась. Я сказал, что не хочу и не буду. Пусть сама с ним объясняется. Не знаю, что она придумала, но знаю, что письмо было отправлено и Васька его получил. Но ответил он не ей, а мне, и ответил не на её письмо, а на моё, которое я послал ему за неделю до этого. В самом конце он сделал одну маленькую приписку: «Мне гадко от всех ваших игр. Я каждый день вижу, как умирают люди, а ваша жизнь, на мой взгляд, не жизнь, а театр. И подлый театр. Скажи это маме».
– Вы вместе живёте? – вдруг быстро спросила она и тут же прикусила язык.
– Ревнуешь? – усмехнулся он. – Да, вместе.
Она отчаянно затрясла головой.
– Не ревнуй. Она давно выпила из меня всю кровь, высосала мозг и выпотрошила внутренности. Я в ней не женщину вижу, а…
– А кого?
– Неважно.
Он наклонился, схватил пригоршню снега и вытер лицо.
– Илюша твой как?
Таня отшатнулась от него.
– Он жив!
– А он что, болел?
Она быстро кивнула.
– Прошу тебя, – сдавленно сказал он. – Я очень прошу: вернись ко мне. Если бы ты могла хоть на секунду представить себе, что у меня в голове! Какая тоска, Боже мой!
Он опять наклонился, опять зачерпнул снега, с размаху положил его себе на лицо и зажмурился. Она боялась этого человека и любила его. Сейчас, когда он стоял перед ней с закрытыми глазами и она видела, как дрожат его губы, жалость, и нежность, и страх – да, страх сильнее всего! – так раздирали её изнутри, словно бы там, в животе, в груди, в горле, корчилось от боли какое-то живое, отдельное от неё существо, которому она не могла помочь, настолько независима от неё и её поступков была его жизнь. Она положила руки на воротник Александра Сергеевича и тоже закрыла глаза. Они стояли, прижавшись друг к другу лицами, и ни один из них не произносил ни слова.
– Тебе было плохо без меня? – спросил он.
Она кивнула и тут же увидела, как из-под его закрытых век потекли слёзы.
– Я тебя измучил. – Он обеими руками прижал её к себе так крепко, что она задохнулась. – Измучил, а плачу, как баба… Все пьяницы плачут…
– Ты – радость моя, – восторженно забормотала она в его воротник. – Всё будет, как скажешь. Не плачь, успокойся…
Ни одна душа не знает, что её ждет. Душе только кажется, что она чувствует всё, и в этом её сокровенная сила. Потом оказывается, что то, что она чувствовала, было случайностью, а то, что действительно важно, прошло незамеченным.
Весною 1917 года огромное число русских людей отлучили себя от Бога, и кончилось главное: Божия помощь.
Деревья просили дождя или талого снега, но снег очень быстро сошёл, не успев напоить, а дождь словно вовсе забыл о своём назначении. Звери и насекомые, не будучи даже голодными, съедали друг друга с таким безразличьем, которое им от природы не свойственно. Но люди пошли дальше всех. Они плотоядно признали, что смерть лучше жизни, и выше её, и гораздо значительней. Короче: настала игра, а игра – вещь опасная. Вот даже и в жмурки. Завяжешь глаза и – слепой. Откуда ты знаешь, что будет, когда с тебя снимут повязку? Не можешь ты этого знать. А горелки?
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Стой подоле.
Погляди на поле,
Едут в поле трубачи,
Доедают калачи.
Погляди на небо,
В небе звёзды горят,
Журавли кричат.
Гу, гу! Убегу!
Гу, гу! Не воронь,
Убегай, как огонь!
Откуда на поле взялись трубачи? Куда убегать? От кого и кому? Не знаем, не знаем! Раз сказано – значит, беги.
Весною 1917 года в горелки уже не играли. Бежать – не бежали. Да и некуда было. Со смертью шутили, ей строили глазки, хватали её за бескровные пальцы и всё повторяли, что это – не страшно. А что тогда страшно?
Дина Зандер хотела открыться сестре, но какая-то странная сила словно мешала ей. И это понятно. Люди почувствовали независимость друг от друга, как будто бы вдруг осознали душой, что всем умирать по отдельности. А раз это так, то и жить по отдельности. И все – как ослепли, и все заспешили.









































