Текст книги "Портрет Алтовити"
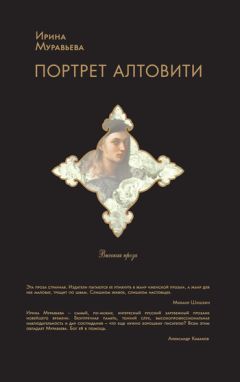
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
У доктора Груберта удивленно поползли брови.
– Папа, подожди! Никому и в голову не могло прийти, что я и этот раздавленный бельчонок, – что мы появимся не просто в одно и то же время здесь, но что нас вот так перекрутит! Что он будет видеть именно меня в самый последний час этой своей беличьей жизни, и именно я буду видеть, как он умирает, как у него распухает глаз! Я не знаю, ты, наверное, не понимаешь меня, но я правда тогда ощутил, что мы все происходим из одного чего-то! Мы все: люди, белки, дети, насекомые – все, без исключений!
Доктор Груберт еле удержал себя от того, чтобы не схватиться за голову.
– Ты понимаешь, – вдруг прошептал Майкл, – что такое болезнь? От чего они здесь лечат? От того, что в одном человеке живет несколько разных людей, и они по-разному чувствуют, и ведут себя тоже по-разному! Но от этого меня не нужно лечить! Это я и без них знаю! Мне и без них важнее всего найти себя самого!
– Но у человека, – робко произнес доктор Груберт, – должен же быть стержень…
– Да что стержень! Люди думают, что у них есть стержень, а потом идут и делают черт знает что! И уверены, что это потому, что у них есть стержень! Или вообще забывают о нем! И так бывает, и наоборот! Мы все – ты чувствуешь? – раздроблены, разобраны на куски! Но нужно же как-то собрать это все!
– Ты что, знаешь как?
– Я? – начал было Майкл и тут же оборвал себя. – Ну, я не знаю, как это сказать, мне трудно словами…
* * *
В гостинице доктор Груберт сразу лег и попытался заснуть.
«Один его дед, – вдруг с отвращением перед тем, что само лезет в голову, подумал он, – сжег другого его деда в печке. А он заботится о судьбе бельчонка!»
За стеной то смеялись, то стонали, то вскрикивали женским распаренным голосом.
«Любовью занимаются, – сморщился доктор Груберт, представив, как два потных, неуклюжих человека занимаются любовью. – Так и не заснешь…»
Он вспомнил о дневнике, зажег свет и принялся за чтение.
«9 января. Ужасно холодно, мороз – минус двадцать два градуса по Цельсию.
Вчера я ходила к папе, его, кажется, собираются выписывать. Но мне показалось, что я знаю того человека, который навстречу мне выскочил из вестибюля больницы. Мы почти столкнулись носами, он был без шапки, шапку держал в руках, очень высокий, худой, лицо красное и страшно взволнованное, даже что-то бормотал на ходу.
Я еще оглянулась и посмотрела через стеклянную дверь, как он понесся по аллее, а шапку так и не надел на голову, и волосы – редкие и седые – поднялись по обе стороны его лысины. Мне почему-то стало его жалко, и тут же я увидела маму, она поднялась с диванчика в вестибюле и пошла ко мне. Я не знаю, может, я и ошибаюсь, но вдруг это – он?
Хотя – неужели он осмелится прийти в больницу, где мой папа чуть было не умер из-за него?
12 января, утро. Папу сегодня выпишут, они с мамой приедут домой на такси. Каникулы кончились, но я не пошла в школу, сил нет. Все время кажется, что что-то произойдет. Я не могу больше жить с такими мыслями! Словно мне внутрь все время льют кипяток!
12 января, час дня. Вот я и дождалась!
Позвонила эта женщина и сказала: «Ева, это вы? Говорит Лена, жена Томаса».
У нас с мамой очень похожи голоса. Я сказала, что это не Ева, а ее дочь Катя. Тогда она спросила, сколько мне лет, и я сказала, что скоро семнадцать.
Она сказала, что ее дочери Лизе тоже скоро будет семнадцать. Потом она спросила: «Катя, ты знаешь, что у вас в семье происходит?»
У меня стало кисло во рту, и я сказала, что да.
Тогда она сказала каким-то другим, пьяным даже немного голосом: «Твоя мать отняла у меня мужа, а у моей дочки – отца».
И зарыдала.
Мне стало так жалко ее, что я тоже чуть не расплакалась. Я молчала, а она все рыдала, и я не могла положить трубку, хотя в любой момент могли прийти мама с папой из больницы! Потом она перестала рыдать и сказала, что хуже моей матери нет никого на свете, и у меня сразу высохли слезы.
Но я почему-то не попросила ее замолчать, а сказала: «У вас нет никаких доказательств». «Ладно, – сказала она, – я понимаю, что тебе неприятно это слушать! Скажи мне лучше другое: ну, пусть у них любовь, пусть им море по колено, но разве можно быть счастливыми за счет других?»
Я не знала, что на это сказать, да и сейчас не знаю. Я чувствовала только, что именно так и бывает: если тебе хорошо, кому-то обязательно плохо, и наоборот.
«Я не понимаю, – сказала она тем же пьяным голосом, и я подумала, что, может быть, она выпила. – Зачем он ей? Старый, больной! Ты его никогда не видела?»
Я сказала, что нет, но тут же поняла, что я видела его тогда, в больнице, что это точно был он!
«И очень хорошо, что не видела! – Она опять всхлипнула, и мне опять стало ее жалко. – Смотреть не на что! Ну, я не понимаю: она же богачка, у нее миллионы, бриллианты, а у него – что? Порок сердца да язва желудка! Он ее и трахать-то скоро перестанет!»
Меня как кипятком обожгло – ведь это она о маме!
Но я не знаю, почему – меня словно парализовало, – почему я не могла, не могла бросить трубку!
«Что, – сказала она, – неужели у вас в Америке никто трахаться не умеет, что она сюда пожаловала? Ну, заплатила бы там как следует, ну, пригласила бы к себе какого-нибудь! За деньги-то чего не сделаешь?»
Она говорила невозможные вещи! Но мне все-таки было ее жалко!
Я чувствовала, как она мучается и поэтому так гадко говорит, хочет, чтобы ей стало хоть немного легче, а не становится, что бы она ни говорила! Я не знаю, может быть, она выпила, а может быть, дошла до ручки, а может быть, и то, и другое, но она говорила о моей матери такие слова – а я как замороженная стояла и слушала!
Потом она спросила: «Катя, чтобы ты сделала, если бы была на месте моей дочки?»
И я сказала: «Не знаю».
И тут вошли мои мама с папой. Я сразу бросила трубку. Папа пошел к себе в комнату и тут же лег, а мама как прибитая пошла было за ним, но он сказал, что хочет спать, и так резко, так нехорошо, громко сказал, что меня опять словно обварило! Мама вышла было в столовую, но тут же открыла к нему дверь и крикнула: «Не разговаривай со мной таким тоном! Больной ты или не больной, но я тебе не прислуга!»
А папа ничего не ответил. Я чувствую в нашем доме все то же самое! Ненависть, такую ненависть! Я знаю, почему это: папа не может ей простить и никогда не простит, но он испугался, наверное, того приступа, который с ним случился десять дней назад, и не хочет сейчас ругаться, потому что боится, что умрет от этого.
А мама ненавидит его за то, что он больной и она теперь связана по рукам и ногам.
А тот, который пришел даже к папе в больницу, чтобы только ее увидеть, тот, наверное, совсем с ума сошел и, может быть, в самом деле ничего не соображает!
И его жена пьет, наверное, от горя – с нее что спрашивать? Вот как это все.
Что делать, как мне выпутаться? Не знаю.
За окном идет снег, сильный, тяжелый.
И темно, и дымно от него. Все попрятались.
13 января. Так больно! Сегодня утром папа сказал, что мы уезжаем. Что мы возвращаемся домой, в Нью-Йорк. Вчера вечером я разговаривала с Костей по телефону – он хмурый, говорит, что соскучился и – если я разрешу – сразу придет. Или поедем в Барвиху. Я чувствую, что ничего мне не надо, кроме того, чтобы поехать с ним хоть в Барвиху, хоть на Луну, лишь бы нас никто не трогал.
Но разве я могла вчера уехать из дому?
А сегодня утром, когда я встала, чтобы поспеть хоть ко второму уроку, папа высунулся из своей комнаты (мама, оказывается, спала в маленькой, там, где компьютер!), папа высунулся и сказал, чтобы я шла спать, потому что в школу ходить больше незачем, мы уезжаем, он заказывает билеты.
И все.
Я не знаю, что делать. Костя мне ближе всех на свете. Никого я никогда не буду любить так, как его. Я знаю, что мы и родились, чтобы жить вместе, я это знаю точно. Значит, ничего, кроме него и без него, мне не нужно.
Что мне делать? Я пытаюсь сосредоточиться и специально все записываю, чтобы голова яснее работала. Я перечитываю все, что записала, чтобы не сойти с ума. Он сейчас в школе, и я не могу с ним посоветоваться. Если он одобрит, я сбегу. Все равно, как жить и где.
Лишь бы с ним.
Сейчас заходил папа. Он очень изменился за это время, постарел и стал какой-то желтоватый, ходит согнувшись. Он сказал, что зарезервировал билеты на тридцатое января.
Значит, мне осталось – сколько? – семнадцать дней!
Никуда они меня не увезут!
14 января, ночь. Я побежала в школу, дождалась, пока закончится третий урок, и ворвалась прямо в класс. Он стоял и разговаривал с Лидой и чему-то, кажется, смеялся, а может быть, мне показалось.
Я крикнула: «Костя!» Он увидел меня и сразу понял, что что-то случилось. На нас все смотрели. Но он подошел близко, и я сказала по-английски: «Пойдем отсюда». Он взял в раздевалке свою куртку, и мы пошли, спустились в метро, где было тепло, сели на лавочку, а я все не могла начать говорить, словно у меня во рту тряпка.
Мы сели на лавочку, и он обнял меня за плечи, а я была как деревянная, потом сказала, что папа зарезервировал билеты. Я боялась на него смотреть. Он молчал. Когда я взглянула на него, у него лицо было совсем другое – как у ребенка, такое растерянное, такое беспомощное! И я заплакала.
«Никуда я тебя не отпущу», – сказал он. И мы, не сговариваясь, вошли в вагон, потом доехали до вокзала, сели в электричку и приехали к нам в Барвиху, к нашей старухе. Было очень холодно и почти темно, на соседнем дворе выла собака и еще слышался звук пилы, пилили дрова, а в некоторых окнах уже горел свет.
И такая тоска была у меня на сердце, такая тяжесть!
«У меня нет денег, – сказал Костя. – У тебя есть?»
Я отдала старухе почти все, что у меня было, и мы закрыли, наконец, дверь и остались в нашей комнате с этой нашей высокой кроватью.
Костя – мой любимый, любимый!
Потом мы начали разговаривать, но сначала он спросил у меня: «Ты не боишься залететь?» Я поняла, что он имеет в виду «забеременеть», хотя он сказал такое русское слово, которое я не знала в этом значении, и ответила, что еще не успела об этом подумать.
«Нам надо так крепко быть связанными друг с другом, – сказал он, – чтобы нас нельзя было разлучить. Если бы ты залетела, нужно было бы оставить ребенка». «А если – нет, – спросила я, – тогда что?» «Я тебя люблю, – сказал он, хотя никогда раньше ничего такого мне не говорил. – Я не могу тебя отпустить». «Я скажу им, – сказала я, – что никуда не могу ехать, потому что я с тобой». «Так они тебя и послушали! Нет, это не пойдет! Нужно что-то другое! Что-то другое!» «Что? – спросила я. – Что другое?» Но он ничего не мог придумать, только повторял: «Мы должны придумать что-то другое, что-то другое…» Потом он вскочил, посмотрел на меня и сказал: «Я знаю что!» – «Что?» – «Вы с мамой не должны возвращаться в Америку, пусть твой отец едет один. Пусть они разводятся. Нам нужно протянуть время. Когда тебе исполнится восемнадцать, нас распишут».
Я даже не сразу поняла, что это он такое говорит. «Как едет один? – сказала я. – Как это: разводятся?» – «Очень просто, не они первые, не они последние! И это будет только честно, если они разведутся! Она же любит другого человека! Что же они, тоже должны расставаться? Что же: мы должны расстаться с тобой, а твоя мать с этим мужиком, только потому, что твоему отцу так лучше? Но нас же четверо, а он один?»
«Костя, – сказала я, – это не арифметика! При чем здесь – сколько нас?» Но он вдруг посмотрел на меня подозрительно: «Ты не хочешь, не хочешь, да? Так и скажи! Может, ты жить не можешь без своей прекрасной Америки?» «Я не без Америки не могу жить, – ответила я, но на секунду все же подумала, смогла ли бы я остаться здесь навсегда или мне рано или поздно захочется домой. – Я не об Америке говорю, а о том, что нельзя, чтобы папа ехал один! Он не переживет этого!» «А так, – сказал он и жутко весь побледнел, – а так, может, мы все не переживем…»
И мы еще долго говорили об этом. Он просто как сумасшедший! Ему кажется, что только так и нужно поступить! Что ничего другого нам не остается! Но это же нелепость!
Мы с ним так намучили друг друга, так наспорились и накричались, что – когда снова легли в кровать и прижались друг к другу, – мне показалось, что уже глубокая ночь, но было только восемь вечера.
Мы целый день ничего не ели, мне и не хотелось, но Костя, когда мы наконец встали, сказал, что хочет есть, а меня отпускать не хочет, и вообще, сейчас мы не должны быть ни секунды друг без друга. Он оделся, взял у меня из кармана деньги, которые там остались, и ушел. А я заснула и во сне почувствовала, что за окном с таким шумом, как будто это машины, идет снег.
Костя вернулся – весь в снегу – и принес сыру, коробку сардин, черный хлеб и бутылку водки. Мы начали есть, он налил себе и мне, я сказала, что не пью водку, но он сказал, что это самый здоровый алкоголь, все остальное – гадость, и начал пить. Я испугалась, что он один выпьет всю бутылку, и тоже выпила, и мне стало сначала жутко весело и смешно, а потом затошнило. Да еще как!
Я сунула ноги в ботинки, натянула куртку и успела – слава Богу – выскочить на крыльцо, где меня начало так выворачивать, что я подумала: сейчас умру.
Я вернулась домой часов в двенадцать ночи, мельком взглянула на себя в зеркале в коридоре и испугалась: так плохо я не выглядела ни разу в жизни.
Ни мама, ни папа не спали, и, конечно, они сразу все поняли, и папа сказал: «Ложись спать, поговорим завтра». А мама сказала: «Прими, пожалуйста, душ и выпей чаю».
И была со мной очень заботлива и внимательна, хотя, когда я увидела ее глаза, то они были просто сумасшедшими.
Но мне – все равно. Утром Костя позвонил мне и сказал, что вчера метро уже закрылось, так что он всю дорогу от моего дома до своего прошел пешком – и в такой мороз! Но он сказал, что никакого мороза не чувствовал и что пьяные люди вообще холода не чувствуют, вчера он в этом убедился.
Как только я положила трубку, мои родители подсели с двух сторон и начали со мной разговаривать. Я решила, что буду очень односложно отвечать, потому что мы ведь с Костей вчера так ни до чего и не договорились. Папа сказал, что он надеется, что я и так все понимаю и что это больше никогда не повторится, и нужно делать скидку на мой тяжелый возраст.
А мама вдруг заплакала и сказала: «Катя, прости меня!»
Мы говорили по-английски, и я сказала очень так издевательски: «Вау!»
А потом тоже очень издевательски спросила: «За что?»
Папа сказал, что он очень рад, что мы улетаем, потому что московское влияние стало мне вредным и нужно побыстрее пойти в школу в Америке.
И тут я сказала, что никуда не поеду, и пусть он вообще едет один в Америку, раз его тут ничего не держит. Они вылупились на меня во все глаза, и я прямо под этими их взглядами сказала, что Костя мне ближе всех на свете. Они, наверное, не ожидали, что я так открыто заговорю, да я и сама этого не ожидала, но, наверное, это потому, что я и впрямь хотела – да, я хотела, – чтобы мама поддержала меня и подтвердила, что и она хочет остаться в Москве.
Значит, я все-таки приняла Костину точку зрения, что папа один, а нас – четверо?!
Но я ведь так сильно любила папу? Нет, уже нет.
Никого я не люблю, кроме Кости, никто мне не нужен так.
Они мне дали высказаться, и папа сказал, что ему очень жаль, что нам все-таки придется (он так и сказал: жаль, что придется!) уехать. Но он не считает, что для наших с Костей отношений наступит конец с моим отъездом. Наоборот: это поможет нам проверить наши чувства, и если окажется, что мы действительно любим друг друга, как Ромео и Джульетта (меня всю передернуло: не может без литературы!), если действительно, то тогда…
«Что такого, – сказал он, – он может приехать в Штаты учиться, и ты тоже сможешь поехать в Россию…» Но я не дала ему закончить. «Учиться? – закричала я. – Это что, через три года?»
Я рыдала и уже не слушала их, хотя они еще что-то долго говорили мне и уговаривали, но я почти не различала их слова, как сквозь вату.
28 января. Я ничего не записывала почти две недели. Сейчас осталось два дня. Я знаю, что жить без него не могу и он без меня не может. Мы все это время почти не расставались. Каждый день с утра уезжали в Барвиху, ложились в кровать, и все. Спали потом до глубокого вечера.
Старуха нас начала подкармливать. Вчера дала какой-то каши, позавчера – суп из лесных грибов. Здесь собирают грибы и варят. Мне все равно, что я ем, что я пью, во что одеваюсь. Морозы не стали меньше, деревья в лесу скрипят от холода, темнеет очень рано.
Когда он со мной – я могу все в жизни пережить. Я ничего не боюсь. Но без него оставаться нельзя. Мы с ним – один организм, одно тело, и все, что у нас есть – сердце, легкие, почки, мозг, – все поделено пополам. У меня низко-низко на животе, там, где почти и не видно, есть маленькая родинка. Он мне сказал вчера, что есть такое русское выражение: «Женщина с изюминкой».
Я спросила, с чего это он об этом? А он поцеловал меня прямо в родинку и говорит: «Вот с чего. Это про мою женщину сказано».
И у меня так заколотилось сердце от его слов.
Я его женщина.
С родителями почти не разговариваю. Да мне и некогда. Что у них происходит, тоже не знаю. Вчера в метро – поздно – видела маму. Она меня не заметила, сидела на лавочке и кого-то ждала. Мы с Костей отошли купить мороженого, и, когда я оглянулась, тот уже приближался к маме. Все, как я и думала: высокий и седой. Да, это он был в больнице. Мне это все безразлично.
Наш самолет послезавтра в четыре сорок. Что делать, не знаю.
29 января. Утро. Вчера Костя разговаривал с моей мамой. Он все, оказывается, ждал, что я это сделаю, но я не сделала, и он решил сам. Мы не поехали в Барвиху – да мне и некогда было, я ничего не собрала, ничего не приготовила – он позвонил утром, я была как пьяная, еле разговаривала, еле двигалась, такая слабость, и голова разламывалась, – и он сказал, что сейчас ко мне приедет.
Он приехал, папы не было, но мама была, и он сказал, что хотел бы с ней поговорить. Мама насторожилась, и он ей вдруг прямо в лицо все выпалил: «Послушайте, вы же тоже не хотите уезжать! Катя мне все про вас рассказала!» У мамы вытянулось лицо, а глаза широко раскрылись.
И – какая же она хитрая! – она его обняла, как будто это ее сын, и сказала: «Успокойся!»
Я никогда не буду такой, как она, – она все умеет делать с людьми, она как дрессировщица! Умеет их гладить, слушать, успокаивать, и они ей подчиняются, каждый из них думает, что она только с ним такая нежная, такая откровенная, а у нее просто такие руки, и такой голос, и такое со всеми очарование!
Они сидели с Костей на кухне, и мама махнула мне рукой, чтобы я вышла, но я была в своей комнате при открытой двери и все слышала, что она ему говорит! Она не стала сердиться или удивляться, что он ей такое бабахнул, а, наоборот, сказала: «Мы можем сейчас понять друг друга, потому что нам всем одинаково плохо. Но жизнь так устроена, что нужно уметь подчиняться. Если мы не подчинимся, будет еще хуже». Он что-то бурчал, я не расслышала, а мама сказала: «Главное, чтобы все были живы. Мы ничего не можем изменить там, где смерть. Пока жизнь, мы можем надеяться, можем ждать, можем пытаться. Сейчас мы должны вернуться в Нью-Йорк. Ричард, Катя и я. Но вы молоды, у вас обоих есть время, вы не должны чувствовать, что этот отъезд разлучает вас навсегда. Навсегда разлучает только смерть».
И она его – как заколдовала! Через пять минут – когда я вошла в кухню – они сидели и придумывали, как нам увидеться не позже чем летом, и она сказала, что я смогу приехать в Финляндию, и он тоже сможет, она готова купить ему билет, и вообще все будет хорошо, не надо отчаиваться, потому что мы молодые и у нас куча времени.
Я так и не знаю: до конца ли она была искренна?
29 января, вечер, 10.40. Костя ушел, завтра он будет нас провожать, поедет в аэропорт. Он сказал мне вчера, что мама права. Нельзя так отчаиваться, а надо надеяться и ждать. Главное, что мы встретились, нашли друг друга, все остальное в наших силах.
У него, сказал он, теперь будет стимул хорошо закончить школу, поступить в университет (он старше меня, ему семнадцать!), и он будет пытаться перевестись на учебу в Америку. Я сделала вид, что тоже так думаю (а это неправда!), стала собираться и случайно заснула.
А проснулась – и был уже глубокий вечер. Мне со сна показалось, что я только что пришла с похорон, но не могу вспомнить, кого сегодня хоронили!
Это был такой кошмар! Я лежала и пыталась вспомнить, кого же мы хоронили!
Так, наверное, сходят с ума.
Мне, конечно, только показалось, что я проснулась.
Это бывает во сне.
Мы улетаем в четыре сорок».
* * *
Доктор Груберт дочитал последнюю страницу и снял очки. Потом увидел, что несколько маленьких разрозненных листочков, вырванных, скорее всего, из записной книжки, скрепкой прикреплены к обложке. Он снова надел очки.
* * *
«…сначала я не верила, что он умер. Привыкаю к мысли, что его нет. Я только не понимаю: что это значит?
Как дико, что это так произошло.
Почему он попал в Чечню? Другие же не попадают. За что именно нам, ему? Он же хотел поступить в университет, потом перевестись сюда!
И другие так делают, у них получается.
* * *
…кто говорит, что я наркоманка? Чушь. Захочу – брошу. Если К. перестанет мне сниться каждую ночь и уйдет из меня, я вернусь и буду как все.
Но он не уходит, я опять проговорила с ним до утра.
* * *
…мама улетела в Москву. Папа молчит. Что он может? Она за себя не отвечает. Папе стыдно на меня смотреть. Мама говорит, что улетает по делам, и каждый раз называет новый город: то Прагу, то Берлин, то Париж. А мы знаем, что она улетает в Москву.
Но нам до этого уже нет дела. Мне, во всяком случае, никакого. Я даже представить себе не могу, что Москва действительно существует. Что это реальный город.
Москва без К.
* * *
Пусть будет Элизе. Вчера он остался у меня. С ним не страшно. Мы долго занимались любовью.
Совсем он не глуп.
Да и какая разница: глуп, умен?
Главное, что в нем нет ничего от К.
* * *
…мама, мама, мама. Если бы не мама, мы не уехали бы из Москвы. Если бы мы не уехали, я бы не рассталась с К. Если бы мы не расстались, он бы не умер. А мама живет в Москве уже три недели и, кажется, не торопится обратно. Я прогнала Элизе, двое суток никуда не выходила, попала в госпиталь с алкогольным отравлением. Стыдно, потому что папа узнал. Жалко папу. Надо завязывать.
* * *
Лучше, когда мы с Элизе вместе.
Выбор: родители или он.
Или еще – самое главное – К.
Я проводила Элизе и легла спать.
К. пришел и сел в ногах.
Я говорю: «Тебя же нет».
Он говорит: «Кому ты веришь? Вот я».
Я потрогала: да, вот он.
Что же мне говорили, что он умер?»
* * *
Доктор Груберт отложил тетрадь в сторону. Гул стоял в его ушах, словно внутри головы шумел лес и лил дождь. Он затряс головой, прогоняя это, но гул стал громче, и тут же запекло в самой середине груди.
Он встал.
Дверь ванной была напротив кровати. Он помнил, что в ванной у него должна была быть дорожная сумочка с лекарствами.
В зеркале появилось сначала лицо, потом кусок картины, висящей над кроватью (морская гладь с парусом вдалеке!), но – едва его взгляд успел остановиться на парусе, вернее, даже не на самом парусе, а на краешке его, ярко окрашенном то ли закатом, то ли восходом, – в самой середине груди рвануло так, будто там взорвалась мина, и доктор Груберт, пробормотавший извинение неизвестно кому, упал лицом на ковер и потерял сознание.
* * *
…Мальчику Саше было почти три года года.
Он любил отца, хотя видел его нечасто. Отец постоянно куда-то торопился. Торопясь, он забрасывал Сашу на заднее сиденье своей разбитой, ядовито пахнущей синей машины, подъезжал к маленькому деревянному дому, из дверей которого появлялась либо угольно-черная, с выбитым передним зубом толстуха, либо ее дочь, молодая, в джинсовой юбке, круто оттопыренной сзади, золотисто-шоколадная, волосатая, с зубами, большими, как у лошадки из мультфильма, – они подхватывали на руки Сашу, которого отец быстро целовал в рот и тут же убегал.
Иногда на неделю, чаще всего – на две, на три.
В деревянном доме было, кроме Саши, полным-полно детей, которых ежегодно производила на свет то сама толстуха с выбитым передним зубом, то ее дочь в круто оттопыренной сзади джинсовой юбке.
Сначала, когда он был совсем маленьким, он ползал по полу, и дети не обращали на него никакого внимания, но иногда большая, двенадцатилетняя девочка, дочка толстухи и младшая сестра волосатой, начинала возиться с ним, играть, будто с куклой, заплетая на голове косички, и один раз даже подкрасила его губы оранжевой, как апельсин, помадой.
Он привык к этим комнаткам, где было шумно и накурено, беспрерывно звонил телефон и работал телевизор, а когда толстуха готовила что-нибудь на плите – особенно если пекла оладьи, – сразу почему-то включалась сигнализация, и тогда становилось еще веселее, они высыпали на улицу, где уже толпились соседи, и сладко пахли их сигареты, от запаха которых маленькие дети тут же засыпали.
Иногда, правда, отец отвозил его в совсем другой дом и передавал на руки женщине с белым, как соль, лицом, которая – едва за отцом захлопывалась дверь – начинала плакать и целовать Сашу, а иногда на руках подносила его к фотографии, висящей на стене, и говорила именно то слово, которое у него лучше всего получалось: «Мама».
Он повторял это слово за ней.
На фотографии была какая-то девочка.
Всякий раз, когда отец подхватывал его и бросал на заднее сиденье своей машины, Саша хотел, чтобы они поехали не туда, где слезы, а туда, где оладьи и дым от них такой, что включается сигнализация.
Он не любил слез и сам почти никогда не плакал.
Вчера – отец сказал – был праздник, Рождество, поэтому они сначала ходили с отцом и дядей Фрэнком в белый дом со свечами, где очень большой, с блестящей головой человек влил ему в рот ложку со сладкой красной водой.
После этого он заснул, а проснулся на кровати, пахнущей так, как пахнет отцовский галстук. Рядом с ним была Ева, его бабка – так называл ее отец, – и она ждала, чтобы он проснулся, потому что, как только он раскрыл глаза, – подарила ему ярко-желтую машину, в которой он мог сидеть и рулить, куда ему вздумается.
Она не плакала сегодня.
Это хорошо, он не любил, когда плачут.
* * *
Главное было: решиться.
Прилететь в Москву, сделать так, чтобы он расстался с семьей, потом вместе вернуться в Нью-Йорк и вместе растить Сашу.
Саше нужен рядом нормальный человек, иначе он начнет курить марихуану в одиннадцать лет.
Главное, чтобы там, в Москве, Томас почувствовал ответственность за ее жизнь.
Ведь если бы не он, то:
Ричард не свалился бы с сердцем, не увез их из России, не разлучили бы Катю с этим мальчиком, мальчик не погиб бы в Чечне.
Катя не сошла бы с ума от горя.
Вот как он – там, в Москве, – должен сейчас чувствовать.
Как он чувствует на самом деле, она не знала.
* * *
…В последнее время ей часто снилось одно и то же: она бежит по длинному коридору, чувствуя, что ее вот-вот догонят, но когда, устав от бега, останавливается наконец и оборачивается, то видит, что там никого нет, кроме нее самой, бегущей по коридору.
* * *
Завтра с утра нужно будет получить билеты на себя и Сашу. Виза готова. В телефонном разговоре – она будет звонить ему после шести – сообщить, что Саша с ней и они прилетают.
Он обещал снять им квартиру. Денег хватит.
Чек Груберта выручил ее. Иначе – пока учебник не вышел – было бы трудно. Без денег Элизе все равно не отдал бы ей Сашу.
Встречаться с Грубертом до отъезда не нужно, нет-нет, ни за что.
Ничего не получилось. И не получится.
Вчера, когда он ушел, она это поняла.
* * *
…В день Катиных похорон – стоя рядом с Ричардом и держа его под руку – она думала только об одном: дождаться, пока все кончится, вернуться домой и открыть газ.
Один за другим Катины друзья подцепляли лопатой комья черно-красной земли, и земля со стуком падала на ящик с ее мертвым ребенком.
Через полгода Ричард умер от рака, который определили как следствие тяжелого нервного потрясения.
Она похоронила его рядом с Катей и сама словно бы окаменела.
У нее наступила бессонница, врач выписал таблетки, которые она начала принимать. Таблетки сначала не действовали, потом помогли, и она проспала восемнадцать часов подряд.
Элизе спросил, хочет ли она, чтобы он подкинул ей Сашу, его некуда деть, самому Элизе нужно отлучиться из города. Она согласилась, боясь, что и Саша ей не поможет.
Но жестами, мимикой, смехом Саша оказался точной копией маленькой Кати, даже спал так, как она, складывая ладони вместе под левой щекой.
Когда Элизе приехал забирать его, она спросила, когда можно будет опять увидеть ребенка. Что-то такое было в ее голосе, от чего Элизе быстро попросил у нее взаймы тысячу долларов.
Она без разговоров выписала чек и к концу недели получила Сашу на целых десять дней.
В издательстве хозяйничал партнер, заказы подходили к концу.
Саша вытаскивал ее. Ночью она прислушивалась к его дыханию, и ей казалось, что Катя находится здесь же, в комнате.
По утрам они с Сашей гуляли в Центральном парке. Со времени Катиного детства Центральный парк почти не изменился, и, когда Саша карабкался на ту же горку, с которой семнадцать лет назад – растопырив руки и хохоча – съезжала Катя, Еве начинало казаться, что ничего не исчезло, никто не умер, и розы на круглой клумбе настолько похожи на те, которые цвели здесь семнадцать лет назад, что она узнавала отдельно каждую розу.
* * *
…Когда он вдруг позвонил из Москвы и она услышала этот глубокий, хорошо поставленный актерский голос, слова, которые вырвались в ответ, вырвались против ее воли.
Она хотела сказать, чтобы он забыл о том, что она существует, хотела сказать, что, если бы не он, не эта их никому не нужная, подлая любовь, Катя была бы жива, – но вместо этого разрыдалась и начала лепетать в трубку бессмысленные нежности.
Они проговорили не больше пяти-шести минут, но, когда раздались гудки, она почувствовала себя деревом, на котором неожиданно лопнули все почки.
Свет жег ей глаза, хотя на улице шел дождь и на окнах были шторы. Проведя рукой по лицу, она обнаружила, что плачет, и тут же в зеркале увидела себя смеющейся.
На следующий день она проснулась с мыслью, что никогда не позвонит в Москву, и запретила себе думать о нем. Но в десять, вспомнив, что по московскому времени ни жены его, ни дочери не должно быть дома, набрала знакомый номер.
* * *
Так все это началось заново, словно ни Катина смерть, ни Ричард, ни маленький Саша – ничто не было ей уроком.
* * *
Самолет компании «British Airways», на борту которого находилась миссис Эвелина Мин, покинул аэропорт Кеннеди с опозданием, задержавшись с вылетом на сорок минут.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































