Читать книгу "Портрет Алтовити"
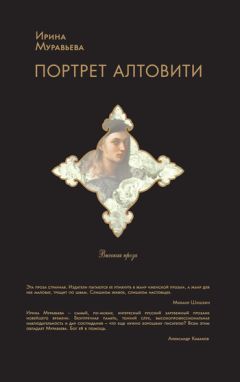
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Было все это уже.
Точно так, как сейчас, уже было.
Но когда и какая была я?
28 декабря. Если бы я не знала, что у мамы есть своя история, я бы рассказала ей, что со мной происходит.
Мы с Костей уже два дня как вместе. Все это оказалось гораздо проще, чем я думала. В пятницу мы не пошли в школу, а поехали в Барвиху на электричке. Там есть настоящие дворцы за заборами, их охраняют солдаты с ружьями, а есть просто деревня, называется Никольское, где топят печки и воздух пахнет, как у нас на Рождество, елками. И немного хрустит от холода.
Мы сошли с поезда, и я спросила у Кости, зачем он меня сюда привез. Он сказал: «Погулять», – и я подумала, что, может быть, и правда: он привез меня погулять. Мы пошли в лес, но гулять там почти невозможно, потому что снегу по колено, хотя светило очень яркое, просто летнее солнце, и эта путаница зимы с летом была такой, что все время хотелось смеяться.
Я прислонилась головой к стволу, и Костя тут же начал меня целовать так же, как тогда, в кино, а когда я хотела оторвать голову от ствола, оказалось, что она не отрывается, потому что там стекала смола, и мой затылок приклеился! Потом мы легли на снег, и снег забился везде – под одежду, и в волосы, и в рот, и в глаза, – но тут же начал таять, потому что мы были страшно горячими!
Я испугалась, что сейчас Костя начнет раздевать меня прямо здесь, в лесу, но он вскочил – весь в снегу, с красным лицом, – схватил меня за руку, и мы побежали обратно в деревню. Я увидела, что нам навстречу идет женщина от колодца, и это было как на картинке: высокая женщина в сером платке и в валенках, изо рта валит пар, а в каждой руке по ведру, и вода в ведрах ярко-голубая, как в океане.
Костя постучался в первую попавшуюся дверь, на нас залаяла собака, сидевшая на огромной ржавой цепи – жалко мне этих русских собак! – а потом вышла на крыльцо старуха без единого зуба, но в очках, настоящая ведьма из русской сказки. Костя сказал, что я – его сестра и нам нужно где-то остановиться на пару часов, потому что он вывихнул ногу и нужно полежать, чтобы потом ехать в город.
Старуха посмотрела очень подозрительно, но Костя тут же вытащил деньги и сунул ей в карман, так что она нас впустила в дом. Там были две крошечные комнатки со стенами, увешанными фотографиями, в основном черно-белыми и тусклыми, и было ужасно жарко, а пахло кислым, как будто испортилась какая-то еда. Старуха впустила нас в ту комнатку, где стояла высоченная – прямо до потолка – кровать, и много на кровати всяких подушек, которые старуха все собрала и унесла, как будто мы могли их украсть.
Она закрыла за собой дверь, мы услышали, как она завела телевизор, и по телевизору шли новости.
Он раздел меня, все-все с меня снял, и мне стало холодно в этой очень жаркой комнате. У него тоже руки стали просто ледяными. И тогда я сказала почему-то по-английски: «Please, don’t…»[2]2
Пожалуйста, не надо…
[Закрыть]
Мы стояли и смотрели друг на друга, и он ничего не делал, даже не дотрагивался до меня. Наверное, это выглядело дико: он стоял в куртке, а я перед ним – совершенно голая. Но мне совсем не было стыдно, наоборот! Только хотелось плакать. А потом он очень быстро все с себя стянул. Я ничего не боялась, потому что он был самый родной на свете, и то, что он так дрожал и боялся до меня дотронуться, делало его еще роднее. Мне было почти не больно, ну, совсем чуть-чуть. А говорили, что у некоторых это вызывает чуть ли не шок или отвращение. Мне вообще сейчас пришло в голову, что вся папина затея с Москвой и с тем, что он нас сюда потащил, и с этой школой, нужна только для того, чтобы был этот день, когда мы с Костей лежим вот так, на этой кровати, и крепко спим.
Мне показалось, что мы действительно спали, но, может, мы не спали, а просто провалились, и, когда я очнулась и посмотрела на чью-то руку, я не сразу поняла, чья это рука: моя или его.
Наступил уже вечер, и я перепугалась: что подумают мама с папой? Где я? Костя лежал рядом со мной и глубоко дышал, и он был такой милый! И тут из меня что-то полилось. Это была кровь. Слава Богу, что ничего не успела испачкать. Я сползла с высоченной кровати, оделась и вышла в другую комнату, где старуха смотрела телевизор.
Я извинилась и спросила, можно ли мне в уборную. Она кивнула головой за окно. Значит, уборная на улице! Такого я еще не пробовала, но делать было нечего, и я пошла на улицу. Я остановилась на протоптанной в снегу тропинке и изо всех сил вдохнула этого очень холодного елочного воздуха. Показалось, что я проглотила большой кусок немножко кислого, твердого, вкусного яблока.
Все было очень хорошо, и снег переливался вокруг, потому что на небе было много звезд. Главное – я нисколько не переживала, что, вот, я иностранка, совсем из другой жизни, заехала черт знает куда!
Наоборот – мне все было так просто и весело: даже то, что уборная– огромная яма в кривом, в человеческий рост скворечнике, а содержимое забросано чем-то белым, сильно пахнущим, и то, что я потом мыла руки ледяной водой из рукомойника, такой холодной, что пальцы заболели, а полотенца не было, так что я вытерла руки о свитер.
«Катя, куда ты ходила? – спросил Костя, как только я вошла обратно в эту нашу комнату. – У тебя болит что-нибудь?»
Я легла рядом с ним, не раздеваясь и совсем не стесняясь, и сказала ему, что со мной было. «Сильно?» – спросил он. «Нет, ничего», – сказала я и подумала, что два часа назад он мне был, честно говоря, никто, чужой человек, а теперь мы можем так разговаривать!
«Ты не сердишься на меня?» – спросил он. И я вместо ответа поцеловала его в губы и погладила по всему лицу.
«Катя, – сказал он, – я не хочу, чтобы ты думала, что у нас это просто так. У меня это было, честно говоря, с другими, но это все как небо и земля, понимаешь?»
Я знала, вернее, я, конечно, догадывалась, что я у него не первая, и, когда он это сказал, сначала было мне неприятно, а потом, когда я увидела, как он на меня смотрит – жалобно, и, как маленький, боится, что я обижусь, – мне стало просто безразлично. Ну, было и было. Это ведь совсем другое.
Я вернулась домой в четверть первого, у нас было темно в квартире, я сразу шмыгнула в душ, а когда вышла, увидела почему-то только папу, а мамы не было. Папа был очень грустным и старым.
Я что-то быстро соврала и спросила, где мама, и он ответил, что мама опять улетела (или уехала, я не поняла) в Петербург, потому что у нее там дела.
30 декабря. Завтра Новый год. Меня пригласили в компанию, где Костя тоже будет, в гости к одной девочке из класса, которая мне не очень нравится, но у нее большая квартира, она живет с матерью, и мать уезжает, так что все принесут еду и алкоголь и можно остаться до утра.
Я спросила у мамы, можно ли мне пойти, и мама сказала, что нет, нельзя. Я обиделась, стала кричать на нее, что я уже взрослая и что это у нас, в Америке, похищают подростков, а здесь никто никого не похищает, и мне надоело так жить, будто мне пять лет. Но мама была как стена.
И тогда я спросила: «Почему ты только себе разрешаешь личную жизнь, а мне запрещаешь? Может быть, у меня тоже любовь?»
Не знаю, не представляю, как это из меня вырвалось! Я увидела по ее лицу, по тому, как оно сначала стало ярко-белым, потом ярко-красным, что она все поняла. Наверное, она решила, что я ее где-то подкараулила или еще что-то. Но она умеет выкручиваться! Она сказала: «Мне сорок лет, а папе пятьдесят два. Тебе – шестнадцать. Разница все-таки, правда?»
То есть она сделала вид, что я это говорила о ней и о папе!
В общем, я никуда не пойду и буду дома, ну и черт с ними, лягу спать! А Костя сказал, что тогда он тоже никуда не пойдет и будет стоять под моими окнами. Но папа утром тридцать первого, когда я еще валялась в кровати, вошел ко мне и говорит: «К нам зайдут друзья в десять часов, и потом мы с ними пойдем на Красную площадь смотреть салют и, может быть, на часок в ресторанчик тут, неподалеку. Хочешь, пригласи к себе кого-нибудь».
Я обрадовалась и сразу позвонила Косте, там подошла его мама, которую я никогда в жизни не видела. У нее красивый голос, но по голосу слышно, что она много курит, она спросила, кто говорит, и я сказала, что это Катя Гланц из школы. И я слышала, как она крикнула Косте: «Иди, американка твоя!»
Откуда она знает? Может быть, у меня все-таки акцент? Ну и пусть. Мне совсем не хочется с ними знакомиться. Главное, что он придет и мы в Новый год будем вместе. Ведь вместе – главное».
* * *
Доктор Груберт снял очки и попытался представить себе эту девочку, но у него ничего не получилось. Вместо девочки выплыло лицо Евы, потом Николь, потом опять Евы.
* * *
«1 января. Сейчас ночь, первая ночь нового 1996 года, и я должна непременно записать все, что произошло, чего бы мне это ни стоило. Костя пришел в четверть двенадцатого, мои родители и их друзья только что ушли. Я думала, что мы сядем за стол, но он схватил меня на руки и спросил: «Которая твоя комната?» И понес прямо туда на кровать. Мне уже совсем не было больно, и такое счастье, что мы есть и мы вместе.
Он так нежен со мной, так ужасно ласков, сейчас я уже чуть-чуть больше соображала, чем тогда, в деревне, и разглядела, какое у него было лицо. Глаза закрыты, а все равно кажется, что они блестят. И, когда все кончилось, он закричал! Я прошептала ему: «Тихо!» Мы не встали с кровати даже тогда, когда начали бить часы, просто я сбегала в столовую и принесла шампанское, а потом опять легла, и мы выпили это шампанское, когда Костя уже был внутри меня.
Я, правда, почти весь свой бокал пролила.
«Желаю тебе, – сказал он, – чтобы каждый Новый год мы встречали только так. Слышишь?»
И я с ним согласилась. Потом мы приняли душ, оделись и сели за стол, и нам было жутко смешно. Мы все время умирали от смеха, просто не могли смотреть друг на друга. А потом зазвонил телефон, и я подошла.
Женский голос, довольно приятный, но, как я почувствовала, полный слез, сказал мне: «Позовите господина Гланца». «Его нет дома, – ответила я, – что-нибудь передать?»
И тут она – как завопит!
«Передать! Передать! Что его жена – проститутка и мразь, передай, пожалуйста! Что она приехала в нашу страну и ничего лучшего не придумала, как отбивать чужих мужиков! Что я ей желаю как можно скорее сдохнуть, и чтобы ни одна собака о ней не вспомнила!»
Я не успела даже бросить трубку, потому что там, на том конце провода, началась какая-то борьба, словно у этой женщины хотели вырвать трубку, а она не давала, пытаясь что-то еще мне прокричать, и наконец раздались гудки! Я опустилась на стул, как будто меня толкнули со всего размаху, и у меня было темно перед глазами.
Костя, кажется, перепугался, а я только думала, слышал ли он, что она там кричала, потому что, если слышал, я не буду врать (какой смысл?). А если все-таки не слышал? Тогда я должна быстро что-нибудь придумать: не рассказывать же такое! Даже ему! Но он, конечно, почти все слышал, потому что спросил: «Хочешь побыть одна? Я пойду». И я кивнула, не глядя на него, так мне было стыдно.
Мне было стыдно так, что я не могла пошевелиться. Так стыдно, что я не могла даже взглянуть на него, пока он одевался в коридоре, и, если бы можно было умереть в эту самую минуту – только чтобы никогда больше не вставать, не двигаться, ни с кем не разговаривать, – я бы тут же согласилась.
Он уже открыл дверь, но я – сама не знаю почему – бросилась ему на шею. И он меня очень крепко обнял. Слава Богу, что он ни о чем не спрашивал!
Слава Богу! Мы постояли в коридоре, обнявшись, потом он ушел, а я пошла в свою комнату, погасила свет, легла и стала думать, что мне теперь делать. То, что звонила жена маминого бойфренда, это ясно. То, что она еще будет звонить и непременно нарвется на папу, – тоже ясно. Значит, в моих руках сейчас вся наша судьба. Моя, мамина и папина. Я говорила себе, что надо успокоиться и принять самое правильное решение, но меня мучила почти ненависть к маме за то, что она такое с нами сделала. И за то, что Костя слышал весь этот кошмар! Что он теперь будет думать о нас? Обо мне? Я ненавидела и этого ее бойфренда тоже, потому что он, так же как и мама, заботился только о себе, о своем удовольствии и ни о ком не подумал!
Его жену, которая нам позвонила, я ненавидела потому, что она посмела назвать мою маму таким словом и вообще вела себя омерзительно, позвонив нам в новогоднюю ночь и наговорив мне всего этого!
Папу я ненавидела потому, что мама не любила его, а он делал вид, что все в порядке, хотя ничего у нас не было в порядке, и все это ложь, и, если мама не любила его, нужно было честно смотреть правде в глаза!
Но больше всего я ненавидела себя за то, что во мне столько злобы ко всем ним, и я, оказывается, никого не люблю, кроме Кости! Мне хотелось пойти в ванную и вымыться под горячим душем – так меня всю трясло от злобы! Я боялась, что Костя не захочет приближаться ко мне, услышав все это, или он решит, что я такая же, как мама, или еще что-то!
Господи! Как мне было плохо! Я, наверное, заснула, провалилась и проснулась потому, что они пришли. Я видела их сквозь щель в приоткрытой двери – как они вошли, румяные и веселые, и мама была в своей белой шапочке и длинной шубе, а папа без очков, в клетчатой курточке, толстый и довольный, и с ними пришла эта парочка их московских друзей, и они сразу сели за стол, и мама засуетилась и побежала в кухню, а папа завел негромкую музыку, но мама тут же вернулась и показала глазами на дверь моей комнаты, наверное, желая сказать, что он меня разбудит, но я почему-то вдруг громко крикнула: «Я не сплю, развлекайтесь!»
И тогда они вошли ко мне в комнату – мама и папа, со своими поздравлениями. Они поцеловали меня и ушли. А я записала все, что было. И решение мое вот какое: завтра я все скажу маме».
* * *
Доктор Груберт услышал, что Ева кому-то открывает дверь, и отложил тетрадку в сторону.
– Заснул, пока мы ехали, – сказал уже знакомый ему по телефону голос Элизе.
– Вот, держи.
Доктор Груберт догадался, что Ева отдала чек.
– Ну, я пошел, большое спасибо, – вежливо сказал Элизе.
Хлопнула дверь. Она вошла в комнату со спящим ребенком на руках. Доктор Груберт встал со своего кресла.
Мальчик был очень смуглым, почти чернокожим. На круглой голове его таял снег. Ресницы – густые и длинные – светлее волос.
Доктору Груберту бросилось в глаза то, как маленькая темная рука выделяется на белой коже ее плеча, с которого – от того, что Ева изо всей силы прижала ребенка к себе, – слегка съехала кофточка.
– Спит, – прошептала она. – Я отнесу его в спальню.
– Мне пора, – сказал вдруг доктор Груберт, – я хотел бы подскочить к Майклу. Завтра я не работаю.
– Ты прочитал?
– Не до конца.
– Возьми с собой и дочитай, – сказала она. – Мне это важно.
* * *
День догорал, снега почти не было – остались только его редкие, торопливые поблескивания, летящие с неба.
К домам подъезжали и отъезжали машины, из них выходили женщины с большими, накрытыми фольгой подносами, торопились в гости.
Другие женщины мелькали в проносящихся мимо машинах, накрашенные и разодетые, с напряженно-праздничными лицами.
В церкви было темно, двери закрыты.
Рождественская служба закончилась утром.
Доктору Груберту смертельно хотелось спать, но спать было некогда, нужно ехать к Майклу.
«Я заберу его оттуда, – неожиданно твердо подумал он, вспомнив, как Ева вошла в комнату, прижимая к себе ребенка, и вновь увидел перед собой ее ярко-белое плечо с темной детской рукой на нем. – Я не хочу, чтобы им управлял МакКэрот».
Признаться, что он ревнует Майкла к этому человеку, потому что тот пользуется большей доверенностью его сына, чем он сам, не хотелось.
В поезде он снова взялся за дневник.
«2января, 3 часа ночи. Я не спала совсем, вышла на кухню. Было, наверное, девять или десять. Мама была одна, пила кофе. Я почувствовала, что она нервничает. И я решилась. Хотя я не была уверена, сумею ли я произнести все это – у меня такой звон стоял в голове!
«Мама, – сказала я, – я все знаю про тебя».
Она стала красной и хотела что-то соврать, но я ей не дала и очень быстро рассказала о вчерашнем. На нее было жалко смотреть. Она просто вся уменьшилась на моих глазах, вся превратилась то ли в девочку, то ли в старушку.
«Катя, – сказала она и протянула ко мне руку. Хотела погладить, но я отдернулась, не далась. – Ты еще ребенок, ты не представляешь, что это такое: жить без любви».
«Так зачем же? – чуть было не закричала я, но тут же опомнилась: папа ведь мог услышать! – Зачем же было так поступать? Чтобы все были несчастны?»
«А все и так несчастны», – сказала она.
И опять протянула ко мне руку. Тут я не выдержала, разрыдалась. И это все было просто ужас какой-то! Мама пыталась меня обнять, прижать к себе и тоже плакала, а я не давалась, не хотела, чтобы она дотрагивалась до меня, выставляла вперед локти, и она, в конце концов, упала головой на стол и заплакала так громко, что папа, конечно, услышал и вышел из кабинета.
«Что у вас здесь?» – спросил он. «Ничего. Пожалуйста, уйди, пожалуйста!» – «Почему мама плачет? Ты ее обидела?» Мама сказала: «Уйди, мы сами разберемся, не вмешивайся», – но она даже не успела до конца договорить, как зазвонил телефон.
Я знала, что это опять его жена. И мама это знала. Но папа не знал и снял трубку. Там опять кто-то кричал (конечно, кто же еще!), и сначала папа не понял, а как-то даже шутливо отстранился, как он всегда делает, когда кто-кто слишком громко говорит в ухо. Я хотела нажать на рычаг, но не успела – она уже говорила, вернее, орала, а папа слушал, и у него становилось мертвым лицо.
– Sorry, you probably got the wrong number[3]3
Извините, вы, наверное, ошиблись номером (англ.).
[Закрыть], – вдруг сказал он и бросил трубку на стол рядом с телефоном, как будто она его обожгла.
И хлопнул дверью.
Час ночи. Папа не возвращается. Костя не позвонил вечером. Может быть, он решил меня бросить. От этой женщины тоже ничего. Мама лежит в спальне и делает вид, что спит. Я не хочу с ней ничего обсуждать.
А если мой папа умер на улице?
4 января, 8 часов вечера. Папа вернулся второго утром. Он был ужасно бледным и измученным. Не знаю, где он был. Вошел к маме. Она села на кровати. Я стояла и смотрела из коридора. Папа закрыл дверь. Я стояла и подслушивала. Первый раз в жизни я решила, что никуда не уйду и буду подслушивать, потому что все для меня решалось. Сначала они говорили очень тихо. Папа сказал: «Я не хочу с тобой жить. Можешь убираться, куда хочешь». «А Катя?» – спросила мама. «Катя поедет со мной», – ответил он. Я чуть не закричала.
Что значит «поедет»?
У меня же Костя?
Потом мама сказала: «Ты что, поверил всему этому? Тому, что какая-то идиотка наплела?» «Я не верю ни одному твоему слову», – сказал он. «Подожди! – закричала мама, и я прямо через дверь почувствовала, как она заломила руки над головой, – она всегда это делает – и подняла волосы с обеих сторон. – Ты что, не знаешь русских людей? Ты что, не знаешь, как они склонны к истерикам? Ты ведь читал Достоевского?» «Не лги мне, – сказал папа, – при чем тут Достоевский?» «Господи, – сказала мама, – при том! Я с самого начала знала, что какая-нибудь глупость должна будет с нами случиться! Тут ни с кем слова нельзя сказать, чтобы тут же не выскочила из-за угла какая-нибудь идиотка и не устроила скандала!»
Мне стало страшно, что она так врет. Хотя, может быть, она врет, чтобы спасти нашу семью? И все-таки это ужасно, ужасно!
И потом, она же любит того человека! Или это все иначе у них?!
«Тогда, – сказал папа, – ты мне сейчас все расскажешь. Все, начиная с прошлого марта! Каждый день! Ты мне дашь полный отчет! Иначе я…»
Вдруг что-то очень тяжелое покатилось, повалилось, я раскрыла дверь и увидела, как папа сползает с кровати, держась за грудь, и у него совсем сизые щеки! Я закричала, кажется, и мама тоже. Мы попытались его поднять, положить на кровать, но он был как каменный и только хрипел!
«Он умирает, умирает! – закричала мама. – Катя! „Скорую“!» Мы вызвали «Скорую», они приехали минут через двадцать, и папа все это время сидел на полу, держась за сердце, а мама стояла перед ним на коленях. Они забрали папу в больницу с подозрением на инфаркт.
Мама от него не отходит. Ему уже лучше.
Это так страшно было. Я знаю, что если бы что-то случилось с папой тогда ночью, то есть если бы он умер, мама бы никогда этого себе не простила, наверное.
Костя вчера у меня ночевал, я сама его попросила. Но теперь это все совсем другое – наш секс. Теперь я совсем другая с ним, будто мы вместе давным-давно. И не то что мне так привычно и наша близость стала рутиной – совсем нет! Но мне так хорошо, спокойно, и даже то, что по-прежнему хочется плакать, теперь значит совсем другое!
Мне хочется плакать оттого, что мы встретились и не потеряем друг друга. Это такое огромное счастье, и иначе как слезами я не могу ничего выразить! Вчера я сказала ему, что мы знали друг друга в прежней жизни и теперь снова встретились, поэтому нам так уютно. Нам не надо ничего начинать заново, вот что. У нас все уже есть.
Ночью мы говорили о моих родителях, и я вдруг все ему рассказала. Никогда в жизни я бы ничего такого никому не рассказала! Разве это не значит, что мы вместе давным-давно?
И еще я сказала ему: «Как я рада, что мне не надо тебе врать!»
И он меня понял».
* * *
Поезд приближался к Филадельфии, доктор Груберт торопился, читая. Он отчетливо видел перед собой все, что писала эта девочка, даже жест, которым ее мать подняла волосы с обеих сторон головы, и они застыли над ее белым фарфоровым лицом, как крылья.
«В ней, – вдруг пришло ему в голову, – в ней есть какая-то театральность. Это неприятно. Или, может быть, мне кажется, потому что она – при всей своей искренности – что-то недоговаривает. Зачем я ей вдруг понадобился? Она ведь меня штурмом берет! Я же чувствую, что это просто атака какая-то. Со всех сторон. Когда она спросила меня сегодня, хорошо ли мне, что было ответить?»
Неторопливая вдумчивость и обстоятельность, унаследованные от отца, подсказывали доктору Груберту, что нужно спокойно, как все, что он делал (если бы только ему постоянно не мешали, не сбивали его с толку!), прокрутить в памяти то, что Ева доверяет ему, и постараться понять, с какой целью она это делает, что именно стоит за ее открытостью.
«А может быть, я просто недостаточно знаю женщин? Может быть, я никогда так глубоко не „проваливался“… – Он усмехнулся. – В эту…»
Доктору Груберту стало неловко даже перед самим собой: не было слов, которые могут определить «эту», но раньше он вроде бы и не нуждался в подобных словах?
* * *
Поезд остановился на какой-то станции, несколько пассажиров выскочили на мокрую, черную платформу покурить. Струйки дыма не сразу расползались в воздухе, а останавливались над их головами в виде затейливых волокнистых облаков и только потом, не торопясь, исчезали.
Он вспомнил, как Айрис, закрутив любовь с Домокосом, лгала ему в глаза о том, где она была и что делала, хотя он не особенно и расспрашивал ее.
Он-то не расспрашивал, но ведь Майкл был там же, в том же доме, дышал всем этим!
«Почему, – подумал доктор Груберт, – почему именно тогда он заболел по-настоящему? Может быть, это мы с Айрис – тем, что так много лгали, – и подтолкнули его?»
Он опять потянулся к дневнику как к спасению от нахлынувших мыслей, но проводник, рысью пробежавший по вагону, сообщил, что следующая станция – Филадельфия.
* * *
Доктор Груберт видел своего сына два дня назад, но чувствовал себя так, будто не видел его несколько месяцев.
Теперь, когда появилась Ева, затягивающая его в водоворот своей не имеющей к Майклу никакого отношения жизни, сын – как со страхом показалось ему – перестал быть центром переживаний.
Острое физическое желание, которое доктор Груберт испытал к Еве, оказалось таким сильным и так подчинило его, что сейчас нужно было сделать почти что усилие, чтобы вновь развернуться всем существом своим в сторону сына.
В клинике ярко горели лампы, пахло свежей хвоей и тем особенным кисловатым запахом дезинфицирующего раствора, который используют для мытья полов в общественных местах и больницах. Для того чтобы попасть в седьмую палату психиатрического отделения, где лежал Майкл, доктору Груберту пришлось пройти через три двери, каждая из которых открывалась ключом, находящимся у дежурной медсестры, и происходило это только после того, как дежурная медсестра через решетку видела того, кого она впускает.
Длинный светло-синий коридор был пуст, если не считать молоденькую итальянку, которая шла ему навстречу, как всегда прижимая к груди плюшевого медвежонка, с которым она не расставалась ни днем, ни ночью.
Доктор Груберт знал, что сейчас она остановит его и в сотый раз скажет о том, что ненавидит мужчин.
Так и случилось.
– Здравствуйте, доктор, – сказала она и закрыла рот плюшевым медвежонком, то ли пугаясь встречи, то ли радуясь ей. – С Рождеством вас!
– И вас, Марисела, – любезно ответил доктор Груберт.
Она встала прямо перед ним, блеснув расширенными беспокойными зрачками.
– Я хотела сказать, – торопливо заговорила она, – что вы совсем не похожи на остальных двуногих садистов с этой мерзостью между ногами! – Большой рот ее скривился от отвращения. – Нет, вы совершенно другой!
Доктор Груберт натянуто заулыбался.
– Я рассказывала вам, как меня изнасиловали, когда мне было девять лет? Помните? И кто? Родной дядя, брат моей матери! Ах, какая это была гадость, какая гадость!
– Вас ведь собираются выписывать, Марисела?
– Ах, да-да! – с отчаянием перебила она, – но разве можно меня выписывать? Там, – она махнула подбородком в сторону окна, – там я обязательно что-нибудь сделаю с собой! Меня уже ничто не удержит!
Она крепко прижала к себе медвежонка и несколько раз быстро поцеловала его.
– Пусть уж я лучше буду здесь. – Вытерла медвежонком слезы. – По крайней мере, останусь жива хоть еще немного. Здесь мы в безопасности.
– Мы? – переспросил доктор Груберт.
– Ну, да, мы все. Включая Майкла. Разве мы выживем там? Там мы все погибнем. Желаю вам счастливого Рождества!
Она отошла было и тут же вернулась.
– Если бы Он не сделал того, что Он сделал, разве можно было бы вообще жить? Ведь Он знал, что такое люди. И все-таки пришел. Потому что у Него был один маленький-маленький, – она судорожно поцеловала медвежонка, – малюсенький шанс, что Он ошибается. Счастливого вам Рождества!
Она взмахнула медвежонком и пошла дальше своей легкой молодой походкой, так, что глядя ей вслед, никто не сказал бы, что эта девушка тяжело больна и содержится в психиатрической лечебнице под тремя замками.
Майкл сидел на кровати в джинсах и белом просторном свитере. Пластыря на голове уже не было.
Он вскочил при виде доктора Груберта.
– Я тебя жду, па. Нам нужно поговорить с тобой!
Доктор Груберт заметил, что он сильно взволнован.
– Ты не пошутил, что заберешь меня отсюда?
– Нет. Но ты должен пообещать мне…
Он не успел закончить.
– Можно не обещать? – пробормотал Майкл. – Чего стоят наши обещания?
– Хорошо, – тут же сдался доктор Груберт, – не хочешь обещать – не надо. Но, Майкл, если ты будешь жить дома, ты должен продолжать лечиться…
– Еще что? – глядя в пол, спросил Майкл и приподнял левое плечо, как делал всегда, когда ему бывало не по себе.
Жест этот живо напомнил доктору Груберту Айрис.
– Еще ты должен хоть иногда встречаться с матерью. Она меня замучила своими претензиями.
– Еще?
– Все пока.
– Хорошо, – сказал Майкл. – Папа, я должен жениться на Николь.
– Что-о-о? Как жениться?
– Мне кажется, что у нас нет другого выхода. Ее нужно спасать.
– От Роджерса?
– Откуда ты его знаешь?
– Да неважно! Майкл, это же бред!
Майкл вдруг рассмеялся.
– Ты что, забыл, где мы сейчас находимся?
– Нет, подожди! Как ты можешь взваливать на себя… Ты за себя отвечать не можешь! Сейчас, по крайней мере!
– Я, может быть, нездоров, – сильно побледнев, ответил Майкл, – но я стараюсь отвечать. И потом… – Он запнулся. – Иногда нужно делать даже то, про что ты заранее знаешь, что это обречено.
Доктор Груберт промолчал.
«Если я буду настаивать на своем, я его потеряю. Будет то же самое, что с Айрис. Сказать, что я передумал, и оставить его в клинике? Нет, тоже нельзя!»
– Майкл, ты взрослый человек. Если ты любишь эту девушку и думаешь, что…
– Папа, я ее очень люблю, но совсем не так, как… Между нами ничего нет. Но Роджерс… Если кого-то и надо лечить, так именно его.
– У тебя что, – испугался доктор Груберт, – опять был вещий сон?
Майкл не удивился и не обиделся.
– Нет, никаких снов не было.
– Когда ты собираешься жениться?
– Надо слетать в Лас-Вегас, чтобы нас расписали тут же.
– У нее что, нет никого ближе тебя? Куда ты лезешь?
– Я не лезу. Я, наоборот, пытаюсь вылезти. Меня эти таблетки так загоняют куда-то… Где я вообще перестаю чувствовать. Как резина. Слушай, – сын опять приподнял острое левое плечо, – ты помнишь белку?
– Белку? Какую белку?
– Помнишь, мы ехали в Сэндвич и шел дождь? На дороге был бельчонок, только что сбитый машиной? Он был живой. Я попросил тебя остановиться, и мама закричала, что меня сейчас тоже собьют? Ты помнишь или нет? Лет пять-шесть назад?
– Ничего не помню, – пробормотал доктор Груберт, чувствуя такую тоску, словно ему только что произнесли не оставляющий надежды диагноз.
– Я завернул его в полотенце, – продолжал Майкл, – и притащил. Мама испугалась, что он меня укусит, а белки бывают бешеные. Мы поехали искать лечебницу, ничего не могли найти. Он сидел в полотенце, торчала только голова, вся в крови. У него один глаз был нормальный, а второй все больше опухал, и мордочка постепенно перекашивалась, как это бывает при инсульте. У людей так бывает, я видел.
– Ну, хорошо! – не выдержал доктор Груберт. – Бельчонка сбила машина, ты хотел ему помочь. Это случилось шесть лет назад. Майкл! Ты слышишь себя?
– Подожди. Нас отсылали из лечебницы в лечебницу, потому что нигде не принимают «диких» зверей. Наконец мы нашли такую, где принимают, но мама вся извелась, что мы потеряли столько времени. Она сказала: «Положи его на обочину, он все равно сейчас помрет». Но он не помер и смотрел этим своим несчастным глазом, пока мы не сдали его девочке-ассистентке там, в лечебнице. Она положила его в коробку и сказала, что сейчас придет доктор. И ты тогда спросил: «Вы ведь не даете им мучиться?» Мы оставили ей свой телефон, чтобы она сообщила, как он там, и уехали. Я все время его вспоминал. А потом, через несколько дней, мы получили открытку из этой клиники, что он прожил сутки и умер от травмы головы. Неужели ты ничего не помнишь?
– Зачем мне об этом помнить?
– Потому что тогда, – пробормотал сын, – мне кажется, я понял одну штуку… И это касается всего. Я понял, во-первых, что нет никакой такой разницы между нами и ими. Между болью и болью, смертью и смертью. И, во-вторых, что каждый из нас связан с самым последним на свете существом. С самым-самым! Со всем, что имеет внутри себя кровь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!







































