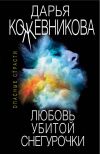Текст книги "Журавль в небе"

Автор книги: Ирина Волчок
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Да я пока ничего и не говорила, – вдруг сразу успокоившись, сказала Тамара. – А ты чего так вопишь? И почему ты не на музыке?
– Здрасте, – уже нормальным голосом заявила Натка и недовольно засопела. – Какая музыка? Сегодня четверг! А ты чего домой не едешь? Тут кто-то все время звонит, а ничего не слышно. Я думала, это ты. Дед говорит, что не ты. Он говорит, что почувствовал бы, если бы ты. А я думала, что ты.
– Не чирикай, – строго велела Тамара, невольно улыбаясь. – Давай по порядку. У вас там все хорошо?
– Хорошо, – неуверенно ответила Натка. – Только дед из холодильника селедку стащил. Я отобрала, но он, кажется, успел немножко съесть.
– Детский сад, – с досадой начала Тамара. – Ну как вас оставлять?
– Нет! – тут же перебила Натка. – Он говорит, что не успел! Ябедой меня обзывает! Ма, Аня мне свою юбку отдала, кожаную. Она ей велика, а мне почти как раз, только чуточку ушить надо. Ты ушьешь? А то Новый год скоро, а я без кожаной юбки! Ты мне плеер купила? Когда ты приедешь?
– В субботу утром, – виновато сказала Тамара. – Плеер… да. Привезу.
– Ура! – тут же завопила Наташка. – А он такой, как надо?
– Даже лучше, – уверенно ответила Тамара, совершенно не представляя, о чем говорит. – Дай трубку дедушке.
– Здравствуй, доченька. – Глуховатый голос деда лился ей прямо в душу, наполняя теплом и покоем. – Как ты там? Не болеешь? Не мерзнешь? Кушаешь хорошо?
– Пап, ты зачем селедку своровал? – Тамара старалась говорить как можно более грозно, но сама чувствовала, что у нее не очень-то получается. – Вот приеду – я с тобой разберусь!
– Ну так и приезжай скорее, – с готовностью откликнулся дед, непринужденно игнорируя селедочную тему. – Мы уж тут соскучились. Анечка нынче заходила, супу с клецками наварила, вкусного. Она у нас умница. Наташеньке одежку какую-то подарила, а мне – рубашку в клетку. Я ей с собой баночку помидоров дал, а варенье она не стала брать, говорит, старое еще не кончилось. Наташенька полы вымыла. Пес кашу не жрет. Тапки твои таскает туда-сюда. Совсем растрепал. Так что ты уж скорее приезжай, мы без тебя никак не можем.
– И я никак без вас не могу. Папочка, ты уж не болей, пожалуйста. Чейза сыром не корми. Сам селедку не трогай. Присматривай за Наташкой, вся надежда на тебя. Я послезавтра приеду. Я тебя люблю.
Она положила трубку и только тогда заметила, что Евгений стоит в дверях ванной, в руках – мокрые пластиковые тарелки, а выражение лица у него такое странное…
– Ты чего такой? – осторожно спросила она. – Что случилось?
– Завидую, – помолчав, буркнул он сердитым и одновременно жалобным голосом, потопал к тумбочке, опять принялся что-то распаковывать, раскладывать по тарелкам, резать. – Я тебе жутко завидую, вот что случилось. Тебя ждут, тебя любят… Когда ты по телефону говорила, у тебя лицо прямо светилось. Малыш, ты счастливый человек, и я тебе завидую.
– Да брось. – Тамара растерялась и даже испугалась почему-то. – Что за глупости – завидует он… Конечно, ждут, а как же! И любят, да. Так и я их всех люблю. Это же семья, обыкновенное дело. У всех так. И тебя тоже ждут и любят…
– Нет, – перебил он с досадой. – Ты просто не понимаешь. У тебя все так хорошо, что ты даже представить себе не можешь другое… Когда не ждут и не любят… И даже еще хуже. Ладно, не обращай внимания. Что-то я совсем не о том заговорил, тебе это не интересно. Давай поедим – да и гулять пойдем, да?
– Да, – рассеянно согласилась она, думая совершенно о другом. О том, что он уже не раз говорил, что его не ждут, а теперь заявляет, что и не любят… Это было ей интересно, как, впрочем, интересно было все, что его касается. И еще это пугало ее, и удивляло, и… раздражало, что ли? Тамара повертела свои ощущения, порассматривала со всех сторон: откуда бы взяться раздражению? И поняла: она ему просто не верит. Как может человек, у которого есть семья… ну, жена – особый разговор, мало ли что бывает, в конце концов, у нее тоже муж… ох, черт, совсем запуталась. Но ведь у нее есть дед и девочки, а у него – сын, отец и мать, нормальная родная мать, которая не просто родила его, но и растила, лечила, учила, была всегда рядом, давала подзатыльник, если он приносил двойку, и не спала, если он задерживался где-то с друзьями. Или он не приносил двоек и не шастал где-то майскими ночами? Ну, тогда мать, наверное, сияла от гордости на родительских собраниях в школе, хвасталась подругам его успехами, и, уж конечно, всегда любила его. И сын любил его, как может ребенок не любить отца?
– Я тебе не верю, – хмуро сказала Тамара, пряча глаза и гоняя маринованный гриб пластмассовой вилкой по пластмассовой тарелке. – Ты извини, я не хочу тебя обидеть, но… Разве так можно говорить? Ты сам какие-то ужасы выдумываешь, а потом сам же и страдаешь. Это неправильно.
Евгений удивленно уставился на нее, помолчал, а потом не очень уверенно проговорил:
– Да я не страдаю… И ужасы не выдумываю. И нет никаких ужасов, все обыкновенно: жене на меня плевать, сын уже большой, он и без меня прекрасно обходится, у родителей главная забота – Вера… сестра моя. У нее в жизни все как-то не складывается, вот старики ее проблемами и заняты. Никаких ужасов, просто я… никому не нужен, вот как получается. Да это ничего, я привык.
Она беспомощно смотрела в его синие глаза, в его совершенно спокойные синие глаза, и не верила ему, потому что поверить было страшно, и старалась не заплакать, и думала, что нужно сказать что-то очень важное, что-то необходимое, чтобы он понял, что не прав, и никак не могла придумать ничего толкового, и сказала:
– Ты мне нужен.
– Надеюсь. – Он заулыбался, засверкал глазами, медленно протянул руку и осторожно тронул пальцем ее нос. – Надеюсь, что нужен. Кто еще тебе колбаски принес бы? И миндальных пирожных, да? Отвечай честно – все дело в этом, правда?
– Правда, – честно ответила она, глядя в синие смеющиеся глаза и чувствуя мгновенное облегчение. Она всю жизнь избегала драматических сцен и высоких слов, и сейчас обрадовалась тому, что он все превратил в шутку. Ему совершенно не обязательно знать, что это вовсе не шутка – колбаска, пирожные, халат, сапоги… Дурацкий китайский кабак, спокойный сон посреди дня, бесцельная прогулка по вечерней Москве. Никто никогда не интересовался, что она ест, когда отдыхает и во что одевается. Только бабушка и дедушка, но это было давно, еще в детстве, но детство кончилось рано, когда старики стали болеть и слабеть, и ей самой пришлось о них заботиться. Сначала – о них, потом – еще и о муже, потом – о детях. Она забыла, что это такое – когда кто-то заботится о тебе. Она даже и не догадывалась, как это ей нужно.
Евгений убирал с тумбочки остатки их ужина, заворачивал мусор в пакет, наводил порядок, не позволял ей, как он сказал, «пачкать руки», потом помогал ей одеваться, застегнул «молнии» на новых сапогах, подал дубленку, проверил, не забыла ли она новые рукавицы… Она чувствовала себя маленькой, беспомощной и зависимой, но нисколько не боялась этого чувства, потому что о ней заботился он – большой, сильный и родной.
– О чем ты думаешь? – вдруг спросил Евгений, уже собираясь распахнуть перед ней дверь. – Мне иногда страшно хочется узнать, о чем ты думаешь. Вот прямо сейчас, вот в этот момент.
– О тебе, – ответила она с готовностью.
– И что ты обо мне думаешь?
– Что ты большой, сильный и… – Она на миг запнулась, поймала его взгляд, почувствовала, как запылали щеки, и выпалила: – И красивый.
Евгений внимательно рассматривал ее смущенное лицо, вздыхал, хмурился, шевелил усами и наконец строго спросил:
– Вот интересно, я от тебя правды когда-нибудь добьюсь?
– Какой правды? – удивилась Тамара.
– Всей правды, – так же строго сказал он. Помолчал, повздыхал, разглядывая ее лицо, закрыл дверь и сунул ключ в карман. – Знаешь, малыш, мне все время хочется тебя спрашивать… Обо всем. О тебе. И чтобы ты рассказывала, рассказывала, рассказывала… Я, наверное, всю жизнь слушать мог бы.
– Спрашивай, – легко согласилась она, не слишком вдумываясь в смысл разговора, потому что как раз сейчас была целиком поглощена впечатлением от новых сапог, в которых даже походка изменилась. – Жень, ты спрашивай о чем угодно. Я на любой вопрос отвечу.
Они молча шли по длинному гостиничному коридору, потом вышли в темноту зимнего вечера, потом свернули в какую-то старую, узкую, не очень хорошо освещенную улочку, Евгений вел ее за руку и молчал, и она молчала, ей нравилось молчать вместе с ним, это было даже лучше, чем разговоры, хотя и разговаривать с ним было хорошо, и просто смотреть на него, и ловить его взгляд, и думать: а о чем он думает? Они вдруг остановились, Тамара подняла глаза, выплывая из блаженного покоя, огляделась – парк какой-то, старый, немножко запущенный, медленный редкий снег, чей-то молодой смех во дворе дома через дорогу… Кажется, все это было, только не здесь, а где-то далеко, в другом месте… Ах, ну да, это было в ее дворе, давно, еще в прошлой жизни. Год назад.
– Вопрос первый, – сказал Евгений так, будто не было этого почти часового молчания, будто без паузы продолжился их разговор в гостинице. – Первый вопрос у меня к тебе такой: ты за меня замуж выйдешь?
Глава 4
Поезда, гостиницы, самолеты, дома отдыха, санатории, чужая дача, палатка посреди леса, избушка на курьих ножках в дальней полувымершей деревне, шалаш в лесничестве, рай в шалаше, запретный плод в раю – только в раю вызревают запретные плоды… Господь не знал, что запрещает. Или знал? Потому и запретил, что не смог разделить счастье и боль, восторг и тоску, безграничную самоотверженность любви и безграничный эгоизм страсти. Не смог разобрать взрыв на составляющие его части, не смог убрать из взрыва опасность – потому и запретил. Но разве можно запретить взрыв?
Тамара жила в эпицентре взрыва, она сама была этим взрывом, каким-то очень долгим, никак не заканчивающимся взрывом. Она все ждала, когда это закончится, потому что никакой взрыв не может быть долгим, на то он и взрыв: мгновенная вспышка, пять тысяч градусов по Цельсию, оглушающий грохот – и конец. Конец всему. Всем, кто рядом. Конец жизни. И черный медленный пепел, заполняющий бывшую жизнь. Но взрыв все продолжался и стал частью жизни, нет, не частью – всей ее жизнью. Но в ее жизни были и девочки, которым не было дела до каких-то там взрывов, им была нужна мать, она не могла допустить черный медленный пепел в жизни дочерей. В ее жизни был дед – единственный настоящий папа, отобравший ее у смерти, у страшной медленной смерти длиной в целую жизнь одинокого, никому не нужного, больного ребенка. В последнее время он тревожился за нее, что-то чувствуя, выспрашивал, все ли в порядке на работе, а однажды сказал беспомощно:
– Доченька, я боюсь тебе помешать… Ты на меня не оглядывайся, ты как хочешь живи.
Она не знала, как справиться с этим, и только горячо и неумело молилась, выпрашивая у Бога здоровья и спокойствия для деда.
В ее жизни был Николай, вечно молчащий Николай, никогда ничего не спрашивающий, все понимающий, любимый ее дочерьми отец, любящий отец ее дочерей, часть ее семьи, часть ее жизни, двадцать лет вместе – шутка ли? К тому же абсолютно не приспособленный к самостоятельной жизни. Разве она могла скормить взрыву свою семью?
– Ты выйдешь за меня замуж? – двадцать лет назад спросил Николай.
– Да, – сразу ответила она.
Он заметно удивился, а потом даже как-то раз признался, что не ожидал ее быстрого согласия. Все-таки они были очень мало знакомы – вернее, он-то за этой второкурсницей следил уже полгода и даже осторожно оказывал знаки внимания. А она, погруженная до хохолка на стриженой макушке в учебу и в заботу о своих стариках, никаких знаков его внимания, кажется, не замечала. Эта маленькая красивая девочка со всеми была одинаково приветлива, доброжелательна, дружелюбна – и не замечала ухаживаний. Серьезная девочка. Он сразу понял, что из нее получится прекрасная жена.
Вообще-то она не собиралась выходить замуж так рано. Ей надо было закончить институт, а потом найти хорошую работу, чтобы не считать копейки из пенсий дедушки и бабушки, тем более что копеек не хватало – считай не считай. Старики уже стали слабеть и стареть, им не на кого было надеяться, кроме как на нее, ей не на кого было надеяться, только как на себя… И знаки внимания всех этих благополучных и безалаберных мальчиков она не замечала принципиально: все они не вписывались в ее жизнь, приглашали в кафе, назначали свидания и говорили о любви, а у нее каждый вечер был под завязку забит стиркой, штопкой, готовкой и зубрежкой, и это еще в лучшем случае, это если дедушка с бабушкой не болели… Любовь! Вот уж дурь-то… От безделья все это, с жиру мальчики бесятся.
Николай говорил не о любви, а о семье. Это она понимала, этому она верила. Он вообще вызывал доверие – спокойный, молчаливый, серьезный… Положительный. Старше ее на пять лет, через полгода – диплом, работа, заработок! Самостоятельный человек. Бабушке и дедушке он понравится. Ей будет полегче справляться со всеми домашними делами, он будет помогать – ведь муж должен помогать, правда? И у нее будет своя семья, настоящая семья, и дети, которых никто не бросит.
Все получилось очень быстро и как-то… деловито, что ли. Знакомство Николая с ее стариками: «Жених? Подумать только, а Томочка нам ничего не говорила! Ну, что же, дело молодое, семья – это хорошо. Ты, сынок, оглядись тут, выбери комнату, какая ваша будет. Вот эта нравится? Вот и хорошо». Знакомство Тамары с Колиной матерью: «Невеста? И когда свадьба? Ага… А жить где будете? У меня, сами видите, площади лишней нет. У вас есть? Это хорошо». Свадьба в институтской столовке, два столика, сдвинутых вместе, две ее подружки, три его друга, бутылка «Лидии», бутерброды с колбасой, пирожные с заварным кремом и крики «горько!». Вообще-то они расписались еще три дня назад, свадьбу, как таковую, вообще не планировали, и это спровоцированное приятелями празднование Тамаре не очень нравилось. Николай сидел важный и довольный, а она смущалась и безуспешно давила в себе раздражение – через три дня Новый год, потом – зимняя сессия, дел в доме по горло, а они тут время теряют… Это уже потом, начиная с первой годовщины их свадьбы, она сделала настоящий семейный праздник – с забавными стихами, сочиненными специально к этому дню, с новым платьем, с подарками друг другу, с шампанским, пирогами и радостными криками ее стариков, а потом и дочерей: «Горько!». Тамара никогда ни одного раза за все двадцать лет не пожалела, что вышла замуж за Николая. Интересно, а он когда-нибудь жалел?..
– Ты за меня замуж выйдешь? – спросил Евгений не глядя на нее.
– Я замужем, – напомнила она, внимательно следя за снежинками, которые проплывали мимо ее руки в новой кожаной рукавице на меху. – У меня семья, ты что, забыл?
– Я не забыл, – хмуро сказал он и тоже подставил снежинкам руку в тонкой замшевой перчатке. – У меня тоже семья. Ну и что? Семья – дело поправимое.
– То есть как? – От изумления Тамара сначала даже не поняла, что он имеет в виду. – Что значит – поправимое? Ты о семье говоришь как… я не знаю… как о несчастье! Как о болезни какой, что ли! Ничего, мол, не смертельно, дело поправимое! Вылечат – и забудешь, так, что ли?
– Да ладно тебе. – Евгений стряхнул нетающие снежинки с перчатки, взял ее за руку и притянул к себе. – Опять ты злишься. Я понимаю, что для тебя семья – это важно. Но ведь у тебя будет семья! У нас будет семья – я и ты. Просто была одна семья, а станет другая. Ведь для чего-то развод существует! По-моему, я все правильно понимаю…
Нет, он все понимал неправильно. Он вообще ничего не понимал. Была одна семья – стала другая… Ничего себе… Стало быть, прежней семьи уже не будет? Не будет, конечно, Николая, и это само собой разумеется. Но не будет и деда, и девочек, и даже Чейза, не будет такого утомительного и такого привычного, такого необходимого круга забот, волнений, радостей и огорчений, не будет смешной войны с дедом из-за категорически запрещенной врачами селедки, не будет их тихих и как будто ни о чем разговоров по вечерам, после которых ей становилось легче жить, не будет Наташкиных выступлений на тему «мне опять нечего надеть», не будет не очень умелой и потому особенно трогательной помощи Анны по хозяйству – понятно же, что Анна просто старается быть поближе к своим, чтобы все свои беды растопить в тепле семьи… И прогулок с Чейзом больше не будет, и его подхалимской морды, выглядывающей из-за холодильника, и ее монологов перед внимательно слушающим псом – потому что кому еще она могла рассказать обо всем, что происходит, о чем она думает, чего боится, на кого обижается, кому благодарна и кого готова убить… Не будет и старых часов на стене, которые вот уже почти двадцать лет со сводящим с ума постоянством уходят вперед на пять минут в сутки, и их каждое утро нужно подводить… Не будет гигантского алоэ на подоконнике, у которого не листья, а просто крокодилья пасть какая-то, и эта крокодилья пасть цепляется зубами за каждого проходящего мимо, и все чертыхаются, грозятся оборвать цветку листья, но не обрывают – этот цветок почему-то очень любила бабушка. От нее вообще осталось в доме много такого, без чего вроде бы и обойтись можно, что всегда как-то незаметно существовало само по себе, пряталось по углам, по полочкам и шкафчикам, а когда возникала необходимость, тут же оказывалось под рукой: всякие фартуки и прихватки, металлические щеточки и фигурные ножи, ситечки, щипчики, расписные коробки для чая, подушечки для иголок и двухлитровая банка, битком набитая разноцветными и разнокалиберными пуговицами. В общем, у нее не будет ее семьи. Как же так? Ведь это значит, что и ее у ее семьи тоже не будет! Разве это возможно – оставить семью без себя?
– Ну что ты молчишь? – нетерпеливо сказал Евгений. – О чем ты сейчас думаешь? Только честно ответь, ладно?
– О пуговицах в банке, – честно ответила она. – Два литра пуговиц – это же сколько лет собирать надо, а? Ведь они все не новые, со старых вещей срезаны, которые уже носить нельзя было. Бабушка пуговицы никогда не выбрасывала, старье – на тряпки, а пуговицы – в банку. А вещей у нас никогда много не было. Наверное, она эту банку всю жизнь наполняла. Там даже такие есть, знаешь, из перламутра, из дерева, из кости. Древние совсем. Настоящие. Понимаешь?
Евгений долго молчал, шевелил усами, стряхивал снег с воротника пальто, на нее смотрел. Наконец сказал недовольно:
– Ты опять морочишь мне голову. Просто чтобы уйти от темы разговора.
– Да нет, я как раз по теме… – Тамара вздохнула и повернула к гостинице. – Давай-ка мы все разговоры отложим, а? Потом поговорим, завтра. Или послезавтра. Устала я что-то немножко. И даже не немножко… Слишком я устала, как собака, прямо хоть ложись и помирай. Не до разговоров мне.
– Хорошо, – не сразу ответил он. – Но к этой беседе мы еще вернемся.
Он завоевывал жизненное пространство. Точнее – пространство для себя в ее жизни. Даже удивительно, как ему удалось занять такое большое пространство за такое короткое время. Он караулил, когда она выведет на прогулку Чейза, и пес бросался к нему, счастливо повизгивая, молотя хвостом, пытался прыгнуть на грудь и облизать лицо. Он нашел возможность познакомиться с девочками, в первую же встречу сумел разговорить, растормошить, развеселить Анну, и та постепенно привыкла откровенничать с ним, как с лучшим другом, как с лучшей подружкой, даже больше, чем с матерью. Он серьезно вникал в щенячьи Наташкины проблемы, обсуждал с ней тонкости взаимоотношений с одноклассниками, или невыносимое зазнайство этой дуры Гальки, или необъяснимое поведение Мальцева на физкультуре, или подготовку к концерту в музыкальной школе… Летом он отвозил Наташку в лагерь, а потом ездил вместе с Тамарой ее навещать и всегда привозил какие-нибудь гостинцы. Он решал все вопросы, казалось, еще до того, как они возникали: путевка в летний лагерь для Наташки, санаторий – для Анны, машину – в любой момент, когда нужно было что-нибудь срочно перевезти или куда-нибудь срочно доехать, редкие лекарства и лучшие врачи для деда, безупречная организация отдыха для Тамары… для них обоих. Они в первый же год провели отпуск вместе, в южном горном доме отдыха, почти двадцать дней, двадцать дней и двадцать ночей, с ума сойти, она опять не сразу вспомнила, что надо хоть иногда звонить домой… Вспомнила не сразу, но ждала возвращения с нетерпением, особенно в последние дни, особенно в последний день, когда так торопилась, швыряя вещи в сумку, что многое просто забыла, и Евгений ходил по номеру, собирая всякую ерунду – шампунь, тапки, зубную щетку, полотенце, пилочку для ногтей, упаковку аспирина… А она раздражалась, кричала, что и так в сумку ничего не помещается, выбрасывала каждый второй найденный им пустяк в мусорную корзину и через каждые пять минут пыталась дозвониться домой.
– Перестань, – успокаивал ее Евгений. – Не дергайся, малыш. Все там хорошо, ничего там не случилось. Просто что-нибудь на линии… Авария какая-нибудь. Связь такая, что поделаешь.
– Все такое! – сердилась Тамара. – Как будто только связь такая! У нас все такое! То перестройка, то Спитак, то Беловежская Пуща, то ваучеры, то путч, то расстрел парламента, то дефолт, то еще какая холера!
– Стоп, а это при чем? С твоими-то что может случиться?
– Мало ли… – Тамара оставила безуспешные попытки застегнуть дорожную сумку, шлепнулась в кресло и потянулась за сигаретами. – Все, что угодно, может случиться. Вплоть до землетрясения.
– Это в Орле-то? – Евгений засмеялся, и она смущенно улыбнулась, почувствовав себя круглой дурой.
– Ладно, не землетрясение. – Тамара раздавила в пепельнице недокуренную сигарету и полезла за новой. – Не наводнение, не цунами, не песчаная буря и не нашествие марсиан. Тогда чего телефон не отвечает?
– Знаешь, – сказал Евгений задумчиво. – Я понял, почему ты такая… уже давно, неделю, наверное. Просто я тебе надоел, ты домой рвешься, а тут я перед глазами маячу. Да? Только честно отвечай.
– Да, – честно ответила она. – Я рвусь, а ты маячишь.
Она всегда честно отвечала на его дурацкие вопросы, а он ей никогда не верил. И сейчас не поверил, сидел, лениво развалясь, смотрел снисходительно, улыбался самодовольно… Так бы и стукнула по затылку. Не очень сильно, не чтобы покалечить, а чтобы в чувство привести. Надо что-то решать.
Кажется, именно тогда она это придумала – расставаться на время. Хотя бы на два-три дня. Не видеть друг друга, не искать встреч, не звонить. Не маячить перед глазами. Евгений согласился: ладно, если ей так легче, то пусть так и будет. Но не встречаться хотя бы пару дней почему-то не получалось. Тамара иногда специально ждала, пока закончится обеденный перерыв, а потом уже шла в буфет в полной уверенности, что уж в это время там точно никого не будет. Там никого и не было – кроме Евгения, который честно пытался выполнить ее условие – «не маячить» и поэтому тоже ждал, когда пройдет обеденный перерыв и в буфете никого не будет… Они натыкались друг на друга и начинали хохотать. Наверное, над собой. Над своим беспомощным трепыханием в руках судьбы, а точнее – в руке судьбы, в одном крепко сжатом кулаке судьбы, в котором они были зажаты вдвоем. Как можно было договариваться о какой-то разлуке, пусть даже на три дня, на три часа, на три секунды, если оба они были зажаты в одном кулаке судьбы? Как два муравья. И трепыхаться нечего.
Он и не трепыхался.
А Тамара все-таки трепыхалась. Ей было страшно быть муравьем, зажатым в кулаке судьбы. Она всегда – по крайней мере, с тех пор, как, сидя на коленях у деда и прижимаясь к его сердцу всем своим умирающим существом, впивалась в головокружительный вкус запретного соленого огурца, с того самого момента всю жизнь ощущала себя хозяйкой собственной судьбы. Сама решала, что нужно делать, – и сама делала. Никто не мог повлиять на ее решения, если они казались ей правильными. Ничто не могло сбить ее с дороги, которую она сама выбрала. А тут вдруг вон чего…
– Выходи за меня замуж. Я не хочу с тобой расставаться. Я так больше не могу. У тебя семья, у тебя дети, у тебя дед… А я – чужой? Ну, хорошо, не чужой, но ведь все равно в стороне! Неужели тебя такая жизнь устраивает? Неужели тебе все это нравится? Выходи за меня замуж – и у нас будет своя семья…
Она знала Евгения уже достаточно хорошо для того, чтобы отчетливо понимать: в их «своей семье» не может быть места ни деду, ни девочкам, ни даже Чейзу. В его понимании их «своя семья» должна состоять только из них двоих. При чем тут родители, при чем тут дети, тем более – какие-то деды, собаки, многолетние привычки и добровольно взятые на себя обязанности? Все это – в прошлом, все это их не должно касаться, все это ему неинтересно, а она должна принадлежать только ему, со всеми своими привычками и обязанностями. Так прямо он, конечно, не формулировал, но каждое его высказывание об их «своей семье» недвусмысленно подразумевало именно это.
– Пока можно квартиру снять, а потом наши как-нибудь разменяем… Они обе большие, можно хорошо разменять. Если, например, у тебя и у меня окажется хотя бы по однокомнатной, – их потом на хорошую квартиру поменяем, может, даже на трехкомнатную. Трехкомнатная для двоих – представляешь? Спальня, гостиная и кабинет! Будем жить как белые люди. Мебель новую купим. Мы же оба нормально зарабатываем, проблем не будет. И только вдвоем – в своей квартире! Нет, ты представляешь?
Она представляла не их вдвоем в трехкомнатной «своей квартире», а деда, Натку и Николая в какой-то халупе, доставшейся им после размена, и мебель, стоящую как попало, и гору пакетов, узлов и коробок, в которых невозможно найти нужную вещь, и чужой двор за окном, и тоскливые глаза Чейза, его обиженную и возмущенную морду: что это за незнакомые запахи, чужие, недомашние, гадкие запахи?
А о дедушке она даже думать боялась, даже представлять не хотела, как все будет. Ясно, что дед этого просто не переживет.
Всего этого Тамара ему говорить не стала. Она только спросила однажды:
– А твой сын как на это посмотрит?
– Да какая разница? – искренне удивился он. – Материально я его обеспечу, работу нормальную найду, поддержу, если что… А что и как у меня – ему все равно. Ты его со своими детьми не сравнивай. У нас с ним совсем другие отношения. В общем-то никаких отношений и нет.
Она этого не понимала – потому и не верила. Как это – никаких отношений с собственным ребенком? Ведь даже с ее детьми он постарался наладить прекрасные отношения. Он помнил их дни рождения и всегда дарил что-нибудь уместное и в то же время неожиданное, он доставал девочкам путевки, возил их на дачу, обсуждал с ними их проблемы, помогал Анне наладить быт, а Наташке – решить какую-нибудь зловредную задачу по тригонометрии. Он говорил с ними о моде, политике, друзьях, диете, смысле жизни, комнатных растениях и о будущем. Кажется, он занимался с ними гораздо больше, чем родной отец, и стал частью их жизни, их другом, их помощником, их поверенным, их «дядей Женей», который всегда нужен и всегда рядом.
Натуська однажды спросила:
– Мама, а у тебя с дядей Женей платонические отношения?
– Нет, – не сразу ответила Тамара, переждав внезапную острую боль в сердце и звон в ушах. – Нет, доченька, не платонические.
И замерла, с ужасом ожидая реакции дочери.
– А… – сказала Наташка спокойно и понимающе кивнула.
И больше никаких вопросов, а Тамара потом ночь не спала.
Анна однажды сказала:
– Если у меня когда-нибудь ребенок будет, я его Женькой назову.
– А если не он, а она? – спросила Тамара, безуспешно стараясь подавить в себе смятение. – Если не сына родишь, а дочку?
– Все равно Женька… – Анна подумала минутку, молча шевеля губами и мечтательно глядя в потолок, а потом решительно заявила: – Дочка Женька даже лучше. Красивее. Например, Евгения Павловна. Здорово, да?
Нет, с ума они ее сведут в конце концов. Что хоть происходит? А он еще утверждает, что с собственным сыном у него нет никаких отношений.
Она думала об этом непрерывно, и дома, и на работе, и стоя у плиты, и «на ковре» у начальства, и на дне рождения у подруги, и на пляже в отпуске, и на прогулке с Чейзом, и на полу возле кресла дедушки, и даже во сне, – и страдала от этих своих бесконечных дум, и не могла больше страдать – устала, страшно устала быть муравьем, зажатым в кулаке судьбы.
Объяснить все это Евгению она не могла, не находилось таких слов, которые он понял бы, а которые находились – те и ей самой казались неубедительными. И однажды, замученная своим страхом и его откровенным непониманием этого ее страха, она потребовала:
– Пообещай мне выполнить то, что я попрошу.
– Конечно, – легко согласился он. – Все, что угодно. А что ты хочешь?
– Я хочу, чтобы ты поклялся… Мы оба поклялись… Нет, подожди. Просто повторяй за мной, хорошо?
– Хорошо, хорошо. – Он с интересом ждал продолжения и не замечал, как она волнуется. – Что повторять-то?
– Мы клянемся, – начала Тамара, замолчала, перевела дух и ожидающе уставилась на него.
– Мы клянемся, – послушно повторил Евгений и так же ожидающе уставился на нее.
– Мы клянемся, что никогда не причиним боли нашим родным, не разрушим наши семьи, не обездолим наших детей, не обидим, не оставим, не забудем тех, кто от нас зависит…
И он повторил за ней каждое слово – не сразу, запинаясь и замолкая надолго, меняясь в лице… Тамара жестко говорила:
– Ты пообещал. Повторяй.
Внутри нее все тряслось и холодело, и она даже думать боялась, чем все это кончится.
– Все? – спросил Евгений после того, как она, надрываясь, вытащила из него последнее слово клятвы. Черт знает, что он имел в виду. Все – это могло означать все, что угодно. Все.
– Все, – обреченно откликнулась она. И это тоже могло означать все, что угодно.
Они долго молчали, бредя по дорожке парка, слушали слабое шуршание листьев над головой – была осень, хорошая тихая осень, и багровые листья еще не опали, еще держались за ветки, еще не высохли до бумажного хруста, но уже научились потихоньку шуршать суховатым тайным шепотком. Летом они бормотали сытым сырым голосом.
– О чем ты думаешь? – вдруг спросил Евгений не глядя на нее. – Только честно – о чем ты сейчас думаешь?
– О листьях, – честно ответила Тамара. Она всегда отвечала ему честно, а он никогда не верил.
– О каких листьях?! – Он и сейчас не поверил, изумленно вытаращился на нее, даже, кажется, рассердился.
– О кленовых. – Тамара вздохнула, подняла руку и погладила разлапистый лист в желто-красных разводах. – Листья осенью шепчутся. Летом у них совсем другой голос, совсем другой… А ты о чем думаешь?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!