Текст книги "Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева"
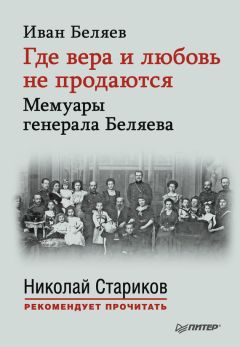
Автор книги: Иван Беляев
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Царская гвардия. Душа, добрый конь
Семь лет младшему брату,
семь лет мне и семь лет Аллаху.
Арабская поговорка
С выходом в гвардию я должен был приобрести себе коня.
Сначала мне не повезло: ни первая моя лошадь, ни вторая не оказались подходящими, и я вынужден был продать их за бесценок. Но вот однажды берейтер[56]56
Берейтер (нем.) – специалист, объезжающий лошадей и обучающий верховой езде.
[Закрыть] Крейтнер, бывший лейб-гусар, которому я поручил подыскать мне коня, встретил меня словами: «Ваше высокоблагородие, я нашел для вас отличную лошадь! Хотите взглянуть?»
Два рейткнехта[57]57
Рейткнехты – конюхи.
[Закрыть] ввели под уздцы бодрого гнедого жеребца, который при входе приосанился, окинул присутствующих огненным взглядом и огласил манеж звонким ржанием.
Одного взгляда было достаточно, чтоб оценить все его достоинства… Стальные ноги, безукоризненный постав конечностей. Могучая грудь, плечо, подпруга. Гордая шея, спокойный взгляд умных и ясных глаз.
– Цена коню – 600 рублей. Как раз сколько вы ассигновали! Это была именно та сумма, которую уделила мне на покупку лошади из своего крошечного наследства моя милая тетя Лизоня.
– Его продает адъютант лейб-гвардии 3-го стрелкового батальона поручик Лытиков. Он атлет, борец, но справиться с жеребцом не умеет; каждый раз лошадь выносит его из строя. Едем сейчас же к его даме сердца, это ее подарок. Она все время дарит ему лошадей и все, что ему захочется…
– Я подарила ему эту лошадь, – подтвердила дама, – он может распоряжаться ею, как хочет.
Перед нами стояла женщина, еще красивая, еще цветущая, но уже в периоде увядания.
– Пойдемте, – сказала она. Огромная, богато обставленная квартира была пуста, и на лице хозяйки лежала тень бесцельного существования.
В полумраке будуара, над широкой, богато убранной тахтой висела огромная картина, изображавшая обнаженную женщину, окруженную амурами.
Хозяйка расположилась на софе, а нам указала на стоявшие перед ней пуфы.
– Вы знаете, он никак не может найти себе подходящей лошади… Это уже третья… Деньги отдайте ему, – и она вздохнула, – скажите, что я ждала его вчера и сегодня, а он все еще не едет. Скажите, что мне очень нужно его видеть.
– Она чертовски богата, – шепнул мне Крейтнер, когда мы вышли. – Наверное, будет искать ему новую лошадь. Едем к нему на квартиру.
Поднимаясь по лестнице, мы услышали в дверях веселый мужской голос, прерываемый серебристым женским смехом. Нам тотчас отворили дверь две молоденькие девушки. За ними стоял высокий, стройный молодой офицер, который сразу же вышел нам навстречу.
– Хорошо, вы можете оставить себе лошадь, – сказал он, кладя деньги в карман. Сейчас я принесу аттестат.
«Завод вдовы Шуриновой, жеребец Ломбард, сын Хромого Свирепого и (следовал длинный ряд имен)… родился в…» (ему было шесть лет).
– Я вам выезжу его в четыре недели, – говорил Крейтнер на улице, – будет ходить как овечка.
– Ваше высокоблагородие! Завтра выводка, требуют имя и завод вашего коня, – говорил мне мой вестовой. – Извольте записать мне на бумажке.
Имя!.. – Тысяча имен вертелось в моей голове…: Баярд, Барон, Буян… – только не Ломбард, это пахнет и деньгами, и слезами. Не надо ни то, ни другое!.. Как отыскать ему имя, которое соответствовало бы его достоинствам и моей любви к благородному животному?
– Хорошо, я пришлю завтра утром.
Но за хлопотами этого не пришлось сделать. Началась выводка: «Гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона… Капитана Демидова конь Казбек; завода неизвестного. Поручика Беляева жеребец Дорогой, завода Шуриновой…»
Два дюжих рейткнехта с трудом сдерживают под уздцы коня, который танцует мимо начальства, раздувая ноздри и выпустив хвост пером.
Солдаты сами дали ему имя, которое от души выражает их оценку животного и в то же время искреннюю симпатию к его хозяину… Дорогой! Но это звучит как будто слишком холодно, этим не все сказано… Надо бы окрестить его каким-нибудь звучным названием, которое отражало бы все его совершенства и мои чувства к моему будущему другу и товарищу.
– Оседлали коня?
– Так точно. Извольте взглянуть! Пригнал все, как на парад.
– О-го-го, Васька! Давай попробуем прокатиться на Марсово поле… О, ты мой славный! Ну стой же! Постой спокойно, я мигом вскочу. Чудный мой Васенька!
Васька, Васька, так он и остался Васькой.
…Однажды – это было пасмурной осенью… Нежданно-негаданно прохватил его жестокий сквозняк, и он схватил воспаление легких. 42 градуса. Максимум конского жара! Мы достали для него две пары шерстяных чулок, закутали попонами. Доктор вливал в рот лекарство и молча качал головою. Но вот мимо провели лошадь. Неожиданно он поднял голову и приветствовал ее громким ржанием.
– Уже конец подходит, – говорит конюх, отирая слезы, – а нрава не бросает!
Но он выздоровел… Милый мой Васенька! Я берег его, как сырое яичко, он все еще задыхался временами. Но когда прошло лето, снова вернулись его силы, и он стал хоть куда.
«Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены!» – этот лермонтовский стих невольно повторяет каждый, садясь на любимого скакуна.
– Ваше высокоблагородие, надо бы его выхолостить, – повторял мне всякий раз по моем возвращении конюх, – несдобровать вам, вишь ты каков! То на дыбах ходит, то рвется в поле… Разобьет он вам голову!
– Нет, нет, раньше я искалечу себя самого. У нас с ним одно сердце. Он знает, когда можно что-нибудь выкинуть, а когда нельзя, ходит как овечка.
Первый раз, когда меня назначили командовать пешим строем, при первом же ударе барабана он вылетел как стрела, и остановить его удалось, лишь когда я свернул в снежный сугроб; но и тут сперва он взял барьер и остановился как вкопанный, лишь попав на обледенелый тротуар, мордой к стене. Не раз он становился на дыбы совершенно отвесно и шел дальше на задних ногах, пока однажды, попятившись, не упал на спину. К счастью, я только что соскочил с него в эту минуту. Но когда он поднялся, вдруг присмирел и стал задумчив.
– Ладно, шутки плохи, – видимо, пронеслось в его голове, – этак сам пропадешь и хозяина погубишь!
Больше он уже не становился на дыбы.
Но когда у меня загоралось ретивое, он понимал меня. Вихрем летал он на Высочайших смотрах. Без подготовки брал невероятные препятствия, спускался с крутых скатов, садясь на окорока и скатываясь под уклон, как это делают медведи. А когда я слезал, косился на меня своим большим глазом, как бы желая сказать:
– Ну что, доволен ты мною? – и подставлял мне свою морду, так как знал, что мне нравится целовать нежную кожу над его храпками.
Но когда я сажал на него ребенка, чтоб прокатить его «на лошадке», он шел, тихонько ступая, чтоб чем-нибудь не побеспокоить своего маленького всадника; и когда на него вспархивала та, которую он считал своей будущей хозяйкой, ничто уже не могло отвлечь его и заставить изменить рыцарскому долгу преклонения перед дамой. Всегда готовый на шалости подо мною, перед нею это было воплощенное внимание и осторожность.
– Это уже будет твой государь, – говорила мне когда-то моя до брая тетя Лизоня, кладя передо мной только что вышедшие карточки царской семьи. Ее слова сбылись буквально: тогдашний наследник Николай Александрович произвел меня в офицеры. Каждый год после этого в течение двенадцати лет я проходил перед ним в строю на смотрах и парадах, и мне же ссудила судьба прочесть перед фрон том трагический приказ об отречении, вырвавший оружие из рук миллионов его подданных…
Вся жизнь скромной военной семьи, к которой я принадлежал, тысячами золотых нитей была сплетена с судьбами Державной семьи, поднявшей Россию на предназначенное ей Создателем место. Семейные традиции большинства членов нашего рода сделали эти связи неразрывными. Не касаясь придворных интриг каждого члена царской семьи, они сделались нам столь близкими, что их лица всегда и везде перед нами. Сколько драгоценных мелочей встают порою в этих воспоминаниях!..
Трехлетним ребенком я видел в Летнем саду Александра II, который неторопливо шел по мосткам. Пробежавший впереди него агент предупредил нас, и мы очистили дорогу. «Идет!» – шепнула нянька. Мы с братом Володей сняли шапки. Государь ответил кивком головы. Как сейчас помню его озабоченное лицо и сгорбленные плечи… Горько плакал я три года спустя, когда пришел дядя Федя и объявил, что Царя уже нет в живых… Помню его блестящие галуны, сплошь закутанные флером… Помню и его черноусых, загоревших в Турции солдат с повязками на головах и на руках после памятного взрыва в Зимнем дворце, где его рота, стоявшая в карауле, потеряла стольких товарищей, погибших при исполнении долга.
Помню и гигантскую фигуру Александра III об руку с его неразлучной подругой, которая верила, что, пока они вместе, жизнь его не подвергается опасности. Помню его и при посещении им Михайловского артиллерийского училища… И в гробу, когда в зимнюю стужу мы стояли шпалерами, пропуская печальный кортеж, черного рыцаря и рыцаря в золотых доспехах – эмблему обоих царствований, кончавшегося и начинающегося… И теперь…
Но мои мысли прерывают отрывистые, будоражащие душу звуки «Гвардейского похода», который трубачи играют в момент приближения царя.
Марш вперед! Наш черед,
Нас в поход поведет
Сам царь.
Он трубой золотой
Нас в сраженье зовет,
Как встарь.
Вот он сам едет к нам…
Трубачи, по местам —
Пора!
Вот и солнце встает,
Вот и день настает…
Наш черед, враг не ждет —
Все вперед.
Ура!
Русские люди! Неужели мы не вернем когда-нибудь этого прошлого? Несчастное поколение, которое умрет без тех восторженных порывов, под влиянием которых наши предки, забывая все, даже самих себя, находили счастье умереть в ЕГО глазах, создавая Великую Единую Россию, мать всех населяющих ее народов, надежду угнетенных.
Какая демократия окружает своих избранников ореолом, заставляющим русского видеть в Царе не жалкого исполнителя капризов своевольной и подкупленной черни, а эмблему чести, долга, глубокой веры в Бога, готового в свою очередь умереть за эти святыни, как солдат, как герой, как мученик?!
Мой жеребец весь дрожит от напряжения. Умное животное знает, что не время играть, шутить шутки. Раздувая ноздри, огненными глазами следит он за происходящим, он весь внимание. Роскошный выезд Императрицы, окруженной цветником дочерей, запряженный шестеркой молочно-белых коней цвета тамбиевского тавра, сам Государь на великолепном коне, свита Великих князей, принцев – все это проходит перед его глазами. Вот появляются иностранные агенты в экзотических шляпах с перьями… Ну, теперь держись, мой всадник! Если ты прозеваешь, я-таки пощупаю ребра хотя бы этого чудака в алой феске и расшитом золотом мундире, который замыкает шествие на куцей рыжей кобыле.
Торжественные звуки «Боже, царя храни» покрывают несмолкаемые крики «ура!», то прерываемые звуками похода и полковых маршей, то снова оживающие по мере прохождения кортежа, замирают вдали. По команде, как один человек, поворачивают полки; артиллерия и кавалерия делают заезд… Начинается прохождение частей. Но все это читатель найдет в ярких описаниях Краснова, Сергеевского… Перехожу к иным картинам, иным воспоминаниям.
Зимний период окончился. Солнце блещет, жаворонки уже заливаются, но снег еще лежит по оврагам, когда мы выходим нести царскую службу в лагерь.
Товарищи и солдаты
Дружба дружбой, а служба службой.
Последние жаркие дни нашего северного лета… Последняя стрельба. Батареи берутся в передки и располагаются по своим лагерям. Яркая зелень Военного поля уже вытоптана, но деревья, окаймляющие горизонт, еще ласкают взоры. Позади, словно маяк, торчит «Высокое дерево Арапакозы», по которому мы столько раз брали направление.
– Батареи, стройся влево! На сомкнутые интервалы, направление на Ольгинскую церковь… Равнение направо!
– Песенники, вперед! Вольно! Прошу господ офицеров ко мне!
В нашей, братцы, батарее
Всех на свете веселей —
Кто наводит всех вернее,
Кто стреляет всех быстрей?
Кто, как ветер, в конном строе
На препятствия летит?
– Фейерверкер, ходу вдвое,
Номер крепко усидит!..
Набежит на нас пехота:
– Ну-тка, братцы, с передков…
Лезь теперь, кому охота,
Всем гостинец вам готов!
С поля в лагерь – эй, живее,
Запевала, запевай!
– Имя нашей батареи,
Ну-тка, братцы, угадай!
Рооп уже рядом. Баклунд летит вскачь с последнего взвода, все время осаживая взмыленного коня. Его порыжевшие усы торчат в разные стороны, глаза наливаются кровью.
– Что с ним такое? – замечает Рооп. – Он не в своей тарелке! Баклунд делает еще два или три широких вольта и, наконец, ста новится рядом. Клочья пены летят от него во все стороны.
– Что с тобою?
– Черт!
– Ты сам сегодня ошалел! Лошадь шла спокойно.
– Дьявол!
– Несется как бешеный, ноги вытянул, как палки, сам сидит на задней луке, как финский пароход, которого труба на… Я хотел сказать: на корме.
– Не зубоскаль, Рооп. Залез на свою лошаденку и издевается над теми, кто каждую минуту рискует сломать шею.
– Какая клячонка, мой милый! У Ваньки конь четырехвершковый, моя еще на полвершка выше.
– Выше-то выше, да бок проели мыши.
– Как так?
– Посмотри на свой маклак. Тот оглядывается:
– Правда, что за притча? Где это он заработал такую ссадину? А у тебя пятно на кителе.
– А в рожу не хотите ли?
– Ну, будет: кто рифмы точит, тот в зубы хочет. Ну, а Яльмара я еще проспрягаю.
– Что такое? Как?
– А вот как: в настоящем Backlund, в прошедшем Buck[58]58
Buck (англ.) – самец оленя, зайца.
[Закрыть], а в остальном…
– Ну, погоди, я тоже подыщу рифму на твою фамилию.
– Господа янаралы, будет вам клевать друг другу очи. Вот мы уже в парке…
– По местам! С передков! Еще раз спасибо вам, дорогие! Выдать всему расчету по фунту ситного.
– Р-р-р-рады стараться! Покорнейше благодарим…
– На самом деле, что с ним такое? Слыхал, как он хлопнул дверью, когда вошел в комнату?
– Швед он был, шведом и остался. Никак не приведешь его в христианство. Сваливает на лошадь, а сам взбесился…
Перед ужином он все-таки немного успокоился.
– О, черт! Возьми всех и всякого! Понимаешь, отец ни за что не хочет, чтоб я на ней женился.
– Почему?
– Она русская – староверка… Бедный Яльмар!
– Выходит, ты прав. Видно, и на него беда пришла. С отцом ему не справиться. Он, пожалуй, и до сих пор держит для него розгу за зеркалом.
– У каждого свое горе!
– А у тебя-то что?
– Ах, милый! Разве ты меня поймешь?!
– А что?
– Да у меня двойня!.. C’est afreux[59]59
О, это страшно… (франц.).
[Закрыть]… – Рооп знал два или три слова по-французски и умело пускал их в оборот.
– У кого? У твоей невесты?
– Да нет, у той, другой.
– Ну послушай! Ведь это же свинство… Какой же ты жених после этого? Я и не подозревал, что ты такое животное…
– Ах, милый, но ведь я же не могу… Моя невеста меня понимает. Сразу я жениться не могу, придется еще подождать год или два. Но ведь не могу же я обойтись без женщины…
За дверью стук:
– Можно?
– Ах, Николай Петрович! Какими судьбами?
– Зашел покончить со строительным комитетом… Кондрашов в канцелярии? Я к нему. А что вы поделываете?
– Да вот тут все меня бросают. Заделались женихами!
– А ты что же зеваешь?
– Не слушай его, Николай Петрович, – он тоже жених!
– А, это интересно. На ком же, если не секрет?
– Да у него целых три!
– Ну тогда надо бросать их всех и искать четвертую. Я немного тороплюсь закончить все перед отпуском, да мимоходом заеду на Дудергоф…
– Вот счастливец, – бормочет Рооп, когда за Демидовым затворяется дверь. – Видал ты его Екатерину Александровну?
…По Гатчинскому шоссе вытянулись оба артиллерийских училища. За последним орудием – наша батарея, включенная в состав бригады, приданная на маневр гвардейским стрелкам.
Впереди, как всегда на походе, мы трое. Баклунд все еще не в духе. Рооп предвкушает радостную встречу с невестой… «Она очень яркая блондинка с темными бровями… Ей нравятся мои крошечные бачки. А ты заметил, мой Шейка тоже отпустил себе такие же, только они у него рыжие. – Это почему? – спрашиваю. – А мы, – говорит, – завсегда берем с наших офицеров. У вас такие же, и у штабс-капитана, и у поручика Баклунда. Теперь, почитай, все наши позапущают такие».
– Вот шарлатаны! Пожалуй, тоже понацепят себе шпоры с цепочками.
– Ничего не поделаешь, милый, – мода! Мода сверху идет. А ты о чем задумался? О вчерашнем?
– Нельзя так горячиться, – говорит Баклунд. – За один выезд сломал четыре дышла.
– Положим, только два… Другие два только треснули, так мы их схватили обоймами. А те сразу же заменили запасными.
– Ну вот, вернемся завтра домой, как только слезем с коней, загнем тебе салазки.
– Ну да, и с проявлением личности, – поддакивает Яльмар. Он уже повеселел.
– Но зато какой великолепный был выезд, – оправдываюсь я. – Влетели враз на позицию и моментально открыли огонь им во фланг, раньше, чем даже пехота. Любо-дорого было смотреть!
– И оглушили командира Семеновского полка Лангофа. Он мне жаловался: до сих пор звенит в ушах!
– Сам виноват, чего он лезет перед дула?
– Все равно тебе салазок не миновать!
На биваке нас приглашают офицеры Константиновского училища. Встречные юнкера радостно улыбаются – их очаровала наша лихость в строю и задушевная простота вне службы. Теперь к нам записываются только фельдфебели и лучшие по успехам!
В огромном шатре собрания, окруженный своими офицерами, сидит наш старый «Шнапс» – ныне генерал Чернявский – начальник училища. Кругом все знакомые лица офицеров, которых он перетащил за собою из Михайловского: мой отделенный Зворыкин, Чернев, Похвиснев, Деревицкий, мой товарищ Шелковников – мы здесь свои.
В то время как «Михайлоны» все время сохраняют свой удивительный тон и выдержку, здесь «Костопупы», несколько более простоватые, поражают своей дружеской спайкой, которую сумел им привить их «бог», восседающий на Олимпе в центре собрания, в облаках табачного дыма.
– А, Беляев! Славные у тебя офицеры!.. Да и боевой расчет хоть куда.
Утром, чем свет, загорается перестрелка. Против нас вся 2-я дивизия и с ней 2-я бригада. Маневр разыгрывается на равнине, окруженной холмами. Мы врезаемся в неприятельское расположение, снимаемся с передков и, забывая все на свете, сыплем беглым огнем по густым цепям, – наступающим на нас «по старинке», в открытую… В самую критическую минуту с левого фланга раздаются бодрящие душу звуки «Пьяного марша» – это Императорские стрелки с громовым «ура» обрушиваются на фланг противника, уже готового ворваться на нашу батарею.
На холме напротив, под флагом главного посредника, слышится сигнал: «Соберитесь, соберитесь, соберитесь». Скачу туда и я…
– Беляев, слыхали?
– Что такое?
– Во взводе вашего брата вследствие несчастного случая убит солдат.
Боже мой! Какой удар для родителей, для невесты убитого! Бедный мой Володя!
Как только мы поставили орудия в парк[60]60
Парк – речь идет об артиллерийском парке, являющемся соединением определенного числа орудий и артиллерийского обоза для действий в поле или осады крепости.
[Закрыть], едва переодевшись, лечу в Дудергоф, где он снял дачу с молодой женой[61]61
Жена Владимира Тимофеевича Беляева – Елизавета Андреевна, урожд. Мусселиус (10.09.1880–1918).
[Закрыть].
Я застал его еще дома, хотя он уже получил распоряжение отправиться на гауптвахту, так как являлся ответственным за свой взвод.
Свое несчастье он перенес стоически. Мне кажется, его преследовал какой-то злой рок.
Корпус он кончил слабо, но был хорош по математике и по строю. Он мог бы получить вакансию в артиллерийское училище, если б за него внесли оплату за первый год. Но денег не нашлось, и благодаря этому он попал в Константиновское пехотное училище, откуда вышел в 23-ю артиллерийскую бригаду для совместного служения с отцом. Когда папа получил 2-ю бригаду, тетя Туня, души не чаявшая в Володе, со слезами отчаяния настояла на переводе его туда же, но при этом его снизили по старшинству, и он оказался рядом со мною, выпущенным на три года позднее.
Он был исключительный служака – и вот, как бы в насмешку, снова стал жертвой рокового случая.
Видимо, его тесть, Мусселиус, пустил в ход все свое влияние, чтоб спасти его от более тяжелых последствий. Но так или иначе, он уехал, поручив мне свою молоденькую жену, для которой уже заранее достал билеты в оперу и не хотел лишать ее хоть этого маленького развлечения.
– Где ты пропадал, бессовестный ты человек? – встретили меня товарищи. – Наверное, ухаживал за Катей Мусселиус[62]62
Катя Мусселиус – младшая сестра Елизаветы Андреевны.
[Закрыть]?
– На этот раз ты ошибся, Ропик. Я ухаживал за ее старшей сестрой.
– Ну ладно, а мы уже решили, что ты продолжаешь строить куры Кате, узнав, что ее отец получает наш дивизион.
– А если бы и так?
– А, бесстыдник!..
Мусселиус действительно получил наш дивизион. Красивый, блестящий адъютант его Рооп имел все шансы на полный успех. Но он «клевал» – он был в долгу как в шелку и вдобавок имел двойню слева и невесту справа. Мать, поддерживавшая его материально, скончалась, и он как-то стал ослабевать. Перед решительными испытаниями, на стрельбах, он чувствовал себя не в своей тарелке, робел, беспомощно оглядывался на окружающих и, хотя выпивал рюмку-другую для храбрости, это не помогало.
– Ропик, да что же это ты опять скисовал? – спрашивали его после стрельбы. – Из орла да вдруг стал курицей!
– Ах, мой милый, я и сам не знаю. Все мне кажется как в тумане. Смотрю кругом себя и вижу одни свиные рыла…
Это тоже было одним из его любимых выражений.
Наконец, он взял отпуск, чтоб «готовиться в академию». Добряк Мусселиус опять заплатил кое-какие его должишки, а аксельбанты он сдал Баклунду, который уже давно мечтал о них, чтоб показаться своей невесте.
Увы! Это уже не была его первая любовь: отцовские расчеты взяли верх над сердцем. Он женился на дочери богатого книгоиздателя.
Свадьбу отпраздновали блестящим спектаклем, удачно инсценированным стариком Девриеном в его доме на Васильевском острове.
В церковь и на дом шафера брали роскошные кареты, обитые белым атласом. Басков вез сестру Яльмара, «умный академик» Гнучев – мадемуазель Нобель (впоследствии вышедшую замуж за доктора Алейникова), а я – мадемуазель Ле Пен, сиротку без матери.
Спектакль состоял из нескольких отделов. В первом фигурировали олимпийские боги – здоровенный Юпитер с громом и молнией под мышкой и такая же массивная Юнона, старавшаяся привести в повиновение Марса с Венерой, Вулкана и прочих. Афину вытащили в последний момент, так как она никак не могла застегнуть золотую кирасу, облегавшую ее мраморные плечи; а Юпитеру принесли штаны, лишь когда он должен был сесть на трон. Следующий отдел – был коротенький водевиль, основанный на ревности старого мужа, которого играл я, к любовнику, которого играл ее брат. На репетиции я являлся усталый, и все шло колесом. Мой соперник играл очаровательно. На празднике вышло как раз наоборот.
В сцене, где она выходит «в дезабилье»[63]63
Дезабилье (нем.) – легкая домашняя одежда (обычно женская), не носимая при посторонних. «Быть в дезабилье» – быть не вполне одетым.
[Закрыть] и я осыпаю ее упреками, а она успокаивает меня словами: «Извините-с, это белое матине», – в залог примирения я должен был посадить ее к себе на колени и осыпать поцелуями. Безжалостная цензура вычеркнула и то и другое; даже белое матине заменили голубым, что лишало сцену смысла. Даме, во имя требований ее мужа, разрешено было только сесть на ручку моего кресла.
Но каков был мой ужас, когда я увидел, что суфлер – это уже был настоящий муж, – бросив книжку и приподняв будку, впился в меня своими круглыми глазами… Однако все это только придало мне жару: я сыграл, как и сам не рассчитывал, и заслужил общее одобрение.
– А мы все были уверены, что вы провалите пьесу, – уверяли меня зрители.
В заключение – все отделы велись к этому – все таланты обрушились на молодых свежими картинами и веселыми куплетами, подчеркивая деликатные моменты их сватовства на всех языках, образующих «Василеостровский жаргон».
Оба новые командира – мы звали их «Schulund Fuhrleute» – явились уже на готовое. Они были далеко не знатоки в стрельбе. Фурман знал хозяйство и службу и «управлял» батареей через своего фельдфебеля, сидя в канцелярии.
– Маловечкину восемь суток! – с негодованием восклицал рыжий «Малюта» (так его прозвали). – Так он смеяться будет!
– Ну что же, двадцать?
– Так точно, меньше уж никак нельзя.
Офицерам было не так тяжело, как прежде. Они работали лишь как безответственные инструменты. Но солдаты, бледные и измученные, чувствовали себя не лучше, чем при Мрозовском. Тогда командовал полковник, а сплетничал фельдфебель; теперь заправлял фельдфебель, а командиру оставалось только сплетничать. Старшим офицером был к нему назначен капитан Крутиков, кончивший Академию Генерального штаба по 2-му разряду и вернувшийся перед китайским походом. Он принял хозяйство от Баскова.
Нашей батареей командовал Александр Евгеньевич фон Шульман – прямая противоположность желчному и мелочному Фурману.
Мягкий и корректный в обращении, он ни во что не вмешивался, тем более что обладал ничтожными понятиями в службе. Глубоко расстроенный смертью любимой сестры, с которой прожил всю жизнь, он постоянно прибегал к морфию, но и это не помогало. Сверх того, он занимался оккультными науками и, когда начинал рассказывать небылицы, которые видел своими глазами у индийских йогов, или уверял, что он состоит капитаном папской гвардии, приходилось переводить разговор на ближайшие предметы. Мне он доверял все и в обращении был спокойный, тактичный и выдержанный человек. Ко всему прочему, я обнаружил в Александре Евгеньевиче еще одну черту: в делах чести его советы были непогрешимы. Какие бы ни были его слабости, и офицеры, и солдаты окружали его стеной, ревниво оберегая честь батареи и своего командира, и это еще более сплотило нас в одну дружную семью. Мы закрывали все его недостатки, выполняли все его функции. На стрельбах батарея стреляла сама, что бы ни командовало начальство. На маневрах она блистала, вызывая похвалы высшего начальства. А на парадах командир становился на фланг и салютовал шашкой, уверенный, что все произойдет само собою. Казалось, он и сам не отдавал себе в этом отчета. Так было хорошо и нам, и ему.
Но это же самое вызывало невольную зависть посторонних. Мы должны были держать ухо востро, чтоб чем-нибудь не вызвать нареканий на наш порядок, в котором не замечалось ни проступков, ни наказаний, и где люди поражали своей беззаботной веселостью и беспечной удалью. Малейший инцидент сейчас же навлек бы на нас обвинение в отсутствии дисциплины и требований мертвящей рутины, против которой всегда боролись лучшие умы Русской армии. Но где тонко, там и рвется…
Майский парад. Царский кортеж проходит пятую линию, где по ниточке выровнена вся гвардейская артиллерия. Вот он поравнялся с командиром дивизиона… тот салютует… И вдруг, о ужас!. Буцефал нашего командира, испуганный неожиданными звуками «Гвардейского похода», поворачивается задом и пятится на самого Государя… Боже мой, он уже в двух шагах от царского коня!..
Но, словно по дуновению ветра, полуослепшее животное поворачивается кругом и снова пятится на свое место.
Государь «не замечает» этого. Кортеж проходит, за ним вся свита. Один лишь Великий князь Сергей Михайлович, ростом выше всех окружающих, видит весь позор положения и качает головой на несчастного всадника.
Тут уж ни я, ни солдаты, никто другой не могли бы спасти «Папашу». Даже ценой собственной репутации…
Судьба его была предрешена. В лагерь он уже не пошел и вернулся в батарею только осенью. Командовать остался я.
Но батарея по-прежнему блистала на смотрах и на стрельбах. То, что ожидало ее впереди, показало всем, что ее оценили как лучшую во всей гвардейской артиллерии. «Лучшая батарея, худший командир»… но для меня Александр Евгеньевич имел два редких качества: он вверялся мне как ребенок и никому не делал зла.
Вскоре после этого наш доктор Эллиот блестяще восстановил свою репутацию. В субботу, как обыкновенно, все спешили позавтракать, чтоб не опоздать использовать свободный вечер. Доктор пришел последним, одетый с иголочки, с походным несессером в руках.
У Баскова, который тоже торопился налечь на куриное крылышко, остановилась кость в горле, и он стал задыхаться.
На одного доктора это не произвело сильного впечатления.
– Сиди смирно, – сказал он Баскову, – только разинь пошире свою пасть!
Он вынул из несессера длинные щипцы, сунул их в раскрытый рот Баскову и в мгновение вытащил из горла длинную кость, которая остановилась у него поперек дыхательного горла.
– Ну, а теперь можешь продолжать, но только это будет тебе уроком на будущее время!.. А теперь – тр-р-р…
Весенние смотры сошли блестяще. Выходя в лагерь, молодой дивизион сразу стал на первое место среди батарей гвардии. Оба командира сделали на нем свою карьеру. Добродушный полковник Кармин получил бригаду. Его сменил полковник Нищенков, так же как и Мрозовский, до академии служивший в Profonde Armee[64]64
Внутренняя армия (франц.).
[Закрыть].
Своей мелочной придирчивостью он сразу же вооружил против себя всех офицеров. Но это еще более сплотило нас между собою и солдатами, которых все время приходилось защищать от несправедливостей, вынуждая их тем самым к усилиям, которых не могли бы вырвать от них ни садическая тирания Мрозовского, ни площадная ругань Андреева, ни придирчивость Нищенкова, – репутация дивизиона росла с каждом днем. Первые скорострельные пушки образца 1900 года были даны для испытаний нам и во 2-ю конную батарею, которой командовал Великий князь Сергей Михайлович. После конца лагерного сбора эти батареи оставались до глубокой осени, продолжая опыты.
В 1900 году, когда всполыхнуло «Боксерское движение»[65]65
Ихэтуаньское восстание в Сев. Китае в 1899–1901. Начато тайным обществом Ихэ-туань (Отряды справедливости и согласия). В июле 1900 ихэтуани вступили в Пекин. Войска Германии, Японии, Великобритании, США, Франции, России подавили восстание. Названо иностранцами боксерским.
[Закрыть] в Китае, одна из наших батарей ушла на восток для боевого испытания новой пушки. Уехал по особому назначению и Нищенков, за него остался Андреев, а в строю батарею выводил капитан Демидов, мы с Роопом и Баклундом стояли за офицеров. Постоянные опыты, колесо в колесо с батареей Великого князя, создали Демидову блестящую репутацию. Немного спустя он был назначен командиром 1-й Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Павловича батареи 1-й бригады и флигель-адъютантом. Чем теснее смыкались наши ряды, тем дружнее жилось в нашей семье. Я уже не чувствовал себя ни сиротою, ни «гаденьким утенком»…
Но Басков скулил все более и более. Наши поездки на Кавказ перестали освежать его. Бесцельное изучение наук становилось ему поперек горла. Незадолго до ухода 2-й батареи на Дальний Восток он сообщил мне о своем решении взять отпуск и готовиться в Академию Генерального штаба. Я не в силах был удержать его от этого шага… Слепой веры, которая руководила мною, я не мог ему внушить. Его тянуло к людям… Я уже перестал верить в непоколебимость его дружбы, выламывающая сила была слишком велика, постоянные колебания невыносимо отражались на моем здоровье. Наши пути расходились… Мы расстались как друзья, но святых, нежных чувств уже не осталось между нами, разве только общие воспоминания.
Теперь уже я почувствовал, что один не могу оставаться долее. Я мгновенно понял, что надо менять всю программу действий; Печаль разлуки, как это нередко бывает, перешла в тихую грусть. Меланхолия, вызванная этим, в связи с наступившей осенью вдохнула мне в душу какие-то новые, неведомые чувства, которые смутно сулили мне нечто необыкновенное… Едва мы вернулись с больших маневров под Лугой, как я нашел дома пакет с приказом отправляться на военно-конную перепись в Олонецкую губернию сроком примерно на два месяца.









































