Текст книги "Басни"
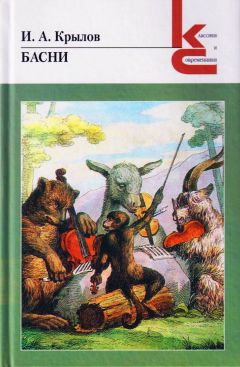
Автор книги: Иван Крылов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Муравей
Какой-то Муравей был силы непомерной,
Какой не слыхано ни в древни времена;
Он даже (говорит его историк верной)
Мог поднимать больших ячменных два зерна!
Притом и в храбрости за чудо почитался:
Где б ни завидел червяка,
Тотчас в него впивался
И даже хаживал один на паука.
А тем вошёл в такую славу
Он в муравейнике своём,
Что только и речей там было, что о нём.
Я лишние хвалы считаю за отраву;
Но этот Муравей был не такого нраву:
Он их любил,
Своим их чванством мерил
И всем им верил;
А ими, наконец, так голову набил,
Что вздумал в город показаться,
Чтоб силой там повеличаться.
На самый крупный с сеном воз
Он к мужику спесиво всполз
И въехал в город очень пышно;
Но, ах, какой для гордости удар!
Он думал, на него сбежится весь базар,
Как на пожар;
А про него совсем не слышно:
У всякого забота там своя.
Мой Муравей, то взяв листок, потянет,
То припадёт он, то привстанет:
Никто не видит Муравья.
Уставши, наконец, тянуться, выправляться,
С досадою Барбосу он сказал,
Который у воза хозяйского лежал:
«Не правда ль, надобно признаться,
Что в городе у вас
Народ без толку и без глаз?
Возможно ль, что меня никто не примечает,
Как ни тянусь я целый час;
А, кажется, у нас
Меня весь муравейник знает».
И со стыдом отправился домой.
_________
Так думает иной
Затейник,
Что он в подсолнечной гремит.
А он – дивит
Свой только муравейник.
1819 (?)
Две Бочки
Две Бочки ехали; одна с вином,
Другая
Пустая.
Вот первая – себе без шуму и шажком
Плетётся,
Другая вскачь несётся;
От ней по мостовой и стукотня, и гром,
И пыль столбом;
Прохожий к стороне скорей от страху жмётся,
Её заслышавши издалека.
Но как та Бочка ни громка,
А польза в ней не так, как в первой, велика.
_________
Кто про свои дела кричит всем без умолку,
В том, верно, мало толку,
Кто де́лов истинно, – тих часто на словах.
Великий человек лишь громок на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.
1819
Колос
На ниве, зыблемый погодой, Колосок,
Увидя за стеклом в теплице
И в неге, и в добре взлелеянный цветок,
Меж тем, как он и мошек веренице,
И бурям, и жарам, и холоду открыт,
Хозяину с досадой говорит:
«За что вы, люди, так всегда несправедливы,
Что кто умеет ваш утешить вкус иль глаз,
Тому ни в чём отказа нет у вас.
А кто полезен вам, к тому вы нерадивы?
Не главный ли доход твой с нивы:
А посмотри, в какой небрежности она!
С тех пор, как бросил ты здесь в землю семена,
Укрыл ли под стеклом когда нас от ненастья?
Велел ли нас полоть иль согревать
И приходил ли нас в засуху поливать?
Нет: мы совсем расти оставлены на счастье,
Тогда как у тебя цветы,
Которыми ни сыт, ни богатеешь ты,
Не так, как мы, закинуты здесь в поле, —
За стёклами растут в приюте, в неге, в холе.
Что если бы о нас ты столько клал забот?
Ведь в будущий бы год
Ты собрал бы сам-сот,
И с хлебом караван отправил бы в столицу.
Подумай, выстрой-ка пошире нам теплицу». —
«Мой друг, – хозяин отвечал, —
Я вижу, ты моих трудов не примечал.
Поверь, что главные мои о вас заботы.
Когда б ты знал, какой мне стоило работы
Расчистить лес, удобрить землю вам:
И не было конца моим трудам.
Но толковать теперь ни время, ни охоты,
Ни пользы нет.
Дождя ж и ветру ты проси себе у неба;
А если б умный твой исполнил я совет,
То был бы без цветов и был бы я без хлеба».
_________
Так часто добрый селянин,
Простой солдат иль гражданин,
Кой с кем своё сличая состоянье,
Приходят иногда в роптанье.
Им можно то ж почти сказать и в оправданье.
1819
Плотичка
Хоть я и не пророк,
Но, видя мотылька, что он вкруг свечки вьется,
Пророчество почти всегда мне удается:
Что крылышки сожжёт мой мотылёк.
Вот, милый друг, тебе сравненье и урок:
Он и для взрослого хорош и для ребёнка.
Ужли вся басня тут? – ты спросишь; погоди,
Нет, это только побасёнка,
А басня будет впереди,
И к ней я наперёд скажу нравоученье.
Вот вижу новое в глазах твоих сомненье:
Сначала краткости, теперь уж ты
Боишься длинноты.
Что ж делать, милый друг: возьми терпенье!
Я сам того ж боюсь.
Но как же быть? Теперь я старе становлюсь:
Погода к осени дождливей,
А люди к старости болтливей.
Но чтобы дела мне не выпустить из глаз,
То выслушай: слыхал я много раз,
Что лёгкие проступки ставя в малость,
В них извинить себя хотят
И говорят:
За что винить тут? это шалость;
Но эта шалость нам к паденью первый шаг:
Она становится привычкой, после – страстью
И, увлекая нас в порок с гигантской властью,
Нам не даёт опомниться никак.
Чтобы тебе живей представить,
Как на себя надеянность вредна,
Позволь мне басенкой себя ты позабавить;
Теперь из-под пера сама идёт она
И может с пользою тебя наставить.
_________
Не помню у какой реки,
Злодеи царства водяного,
Приют имели рыбаки.
В воде, поблизости у берега крутого,
Плотичка резвая жила.
Проворна и притом лукава,
Не боязливого была Плотичка нрава:
Вкруг удочек она вертелась, как юла,
И часто с ней рыбак свой промысл клял с досады.
Когда за пожданье он, в чаянье награды,
Закинет уду, глаз не сводит с поплавка;
Вот, думает, взяла! в нём сердце встрепенётся;
Взмахнёт он удой: глядь, крючок без червяка;
Плутовка, кажется, над рыбаком смеётся,
Сорвёт приманку, увернётся
И, хоть ты что, обманет рыбака.
«Послушай, – говорит другая ей Плотица, —
Несдобровать тебе, сестрица!
Иль мало места здесь в воде,
Что ты всегда вкруг удочек вертишься?
Боюсь я: скоро ты с рекой у нас простишься.
Чем ближе к удочкам, тем ближе и к беде.
Сегодня удалось, а завтра – кто порука?»
Но глупым, что глухим разумные слова.
«Вот, – говорит моя Плотва, —
Ведь я не близорука!
Хоть хитры рыбаки, но страх пустой ты брось:
Я вижу хитрость их насквозь.
Вот видишь у́ду! Вон закинута другая!
Ах вот ещё, ещё! Смотри же, дорогая,
Как хитрецов я проведу!» —
И к удочкам стрелой пустилась:
Рванула с той, с другой, на третьей зацепилась,
И, ах, попалася в беду!
Тут поздно, бедная, узнала,
Что лучше бы бежать опасности сначала.
1821
Мельник
У Мельника вода плотину прососала;
Беда б не велика сначала,
Когда бы руки приложить;
Но кстати ль? Мельник мой не думает тужить;
А течь день ото дня сильнее станови́тся:
Вода так бьёт, как из ведра.
«Эй, Мельник, не зевай! Пора,
Пора тебе за ум хватиться!»
А Мельник говорит: «Далеко до беды,
Не море надо мне воды,
И ею мельница по весь мой век богата».
Он спит, а между тем
Вода бежит, как из ушата.
И вот беда пришла совсем:
Стал жёрнов, мельница не служит.
Хватился Мельник мой: и охает, и тужит,
И думает, как воду уберечь.
Вот у плотины он, осматривая течь,
Увидел, что к реке пришли напиться куры.
«Негодные! – кричит, – хохлатки, дуры!
Я и без вас воды не знаю где достать;
А вы пришли её здесь вдосталь допивать».
И в них поленом хвать.
Какое ж сделал тем себе подспорье?
Без кур и без воды пошел в своё подворье.
_________
Видал я иногда,
Что есть такие господа
(И эта басенка им сделана в подарок),
Которым тысячей не жаль на вздор сорить,
А думают хозяйству подспорить,
Коль свечки сберегут огарок,
И рады за него с людьми поднять содом.
С такою бережью диковинка ль, что дом
Скорешенько пойдёт вверх дном?
1821–1823
Котёнок и Скворец
В каком-то доме был Скворец,
Плохой певец;
Зато уж филосо́ф презнатный,
И свёл с Котёнком дружбу он.
Котёнок был уж котик преизрядный,
Но тих, и вежлив, и смирён.
Вот как-то был в столе Котёнок обделён.
Бедняжку голод мучит:
Задумчив бродит он, скучаючи постом;
Поводит ласково хвостом
И жалобно мяучит.
А филосо́ф Котёнка учит
И говорит ему. «Мой друг, ты очень прост,
Что терпишь добровольно пост;
А в клетке на́д носом твоим висит щеглёнок:
Я вижу, ты прямой Котёнок». —
«Но совесть…» – «Как ты мало знаешь свет!
Поверь, что это сущий бред
И слабых душ одни лишь предрассудки,
А для больших умов – пустые только шутки!
На свете кто силён,
Тот делать всё волён.
Вот доказательства тебе и вот примеры». —
Тут, выведя их на свои манеры,
Он философию всю вычерпал до дна.
Котёнку натощак понравилась она:
Он вытащил и съел щеглёнка,
Разлакомил кусок такой Котёнка,
Хотя им голода он утолить не мог.
Однако же второй урок
С большим успехом слушал
И говорит Скворцу: «Спасибо, милый кум!
Наставил ты меня на ум».
И, клетку разломав, учителя он скушал.
1821–1823
Ворона
Когда не хочешь быть смешон,
Держися звания, в котором ты рождён.
Простолюдин со знатью не роднися;
И если карлой сотворён,
То в великаны не тянися,
А помни свой ты чаще рост.
_________
Утыкавши себе павлиньим перьем хвост,
Ворона с Павами пошла гулять спесиво —
И думает, что на неё
Родня и прежние приятели её
Все заглядятся, как на диво;
Что Павам всем она сестра
И что пришла её пора
Быть украшением Юнонина двора[23]23
Согласно древнеримской мифологии, павлины являлись украшением двора богини Юноны, супруги Юпитера.
[Закрыть].
Какой же вышел плод её высокомерья?
Что Павами она ощипана кругом,
И что, бежав от них, едва не кувырком,
Не говоря уж о чужом,
На ней и своего осталось мало перья.
Она было назад к своим; но те совсем
Заклёванной Вороны не узнали,
Ворону вдосталь ощипали,
И кончились её затеи тем,
Что от Ворон она отстала,
А к Павам не пристала.
_________
Я эту басенку вам былью поясню.
Матрёне, дочери купецкой, мысль припала,
Чтоб в знатную войти родню.
Приданого за ней полмиллиона.
Вот выдали Матрёну за барона.
Что ж вышло? Новая родня ей колет глаз
Попрёком, что она мещанкой родилась,
А старая за то, что к знатным приплелась:
И сделалась моя Матрёна
Ни Пава, ни Ворона.
1821–1823
Бедный Богач
«Ну стоит ли богатым быть,
Чтоб вкусно никогда ни съесть, ни спить
И только деньги лишь копить?
Да и на что? Умрём, ведь всё оставим.
Мы только лишь себя и мучим и бесславим.
Нет, если б мне далось богатство на удел,
Не только бы рубля, я б тысяч не жалел,
Чтоб жить роскошно, пышно,
И о моих пирах далёко б было слышно;
Я даже делал бы добро другим.
А богачей скупых на муку жизнь похожа». —
Так рассуждал Бедняк с собой самим,
В лачужке низменной, на голой лавке лёжа;
Как вдруг к нему сквозь щёлочку пролез,
Кто говорит – колдун, кто говорит – что бес,
Последнее едва ли не вернее:
Из дела будет то виднее.
Предстал – и начал так: «Ты хочешь быть богат,
Я слышал, для чего; служить я другу рад.
Вот кошелёк тебе: червонец в нём, не боле;
Но вынешь лишь один, уж там готов другой.
Итак, приятель мой,
Разбогатеть теперь в твоей лишь воле.
Возьми ж – и из него без счёту вынимай,
Доколе будешь ты доволен;
Но только знай:
Истратить одного червонца ты не волен,
Пока в реку не бросишь кошелька».
Сказал – и с кошельком оставил Бедняка.
Бедняк от радости едва не помешался;
Но лишь опомнился, за кошелёк принялся,
И что́ ж? – Чуть верится ему, что то не сон:
Едва червонец вынет он,
Уж в кошельке другой червонец шевелится.
«Ах, пусть лишь до утра мне счастие продлится! —
Бедняк мой говорит. —
Червонцев я себе повытаскаю груду;
Так завтра же богат я буду —
И заживу, как сибарит».
Однако ж поутру он думает другое.
«То правда, – говорит, – теперь я стал богат;
Да кто ж добру не рад!
И почему бы мне не быть богаче вдвое?
Неужто лень
Над кошельком ещё провесть хоть день!
Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу;
Но если накупить могу я деревень,
Не глупо ли, когда случай к тому утрачу?
Так, удержу чудесный кошелёк:
Уж так и быть, ещё я поговею
Один денёк,
А, впрочем, ведь пожить всегда успею».
Но что ж? Проходит день, неделя, месяц, год —
Бедняк мой потерял давно в червонцах счёт;
Меж тем он скудно ест и скудно пьёт;
Но чуть лишь день, а он опять за ту ж работу.
День кончится, и, по его расчёту,
Ему всегда чего-нибудь недостаёт.
Лишь кошелёк нести сберется,
То сердце у него сожмётся;
Придёт к реке, – воротится опять.
«Как можно, – говорит, – от кошелька отстать,
Когда мне золото рекою са́мо льётся?»
И, наконец, Бедняк мой поседел,
Бедняк мой похудел;
Как золото его, Бедняк мой пожелтел.
Уж и о пышности он боле не смекает:
Он стал и слаб и хил; здоровье и покой —
Утратил всё; но всё дрожащею рукой
Из кошелька червонцы вон таскает.
Таскал, таскал… и чем же кончил он?
На лавке, где своим богатством любовался,
На той же лавке он скончался,
Досчитывая свой девятый миллион.
1828
Лев, Серна и Лиса
По дебрям гнался Лев за Серной;
Уже её он настигал
И взором алчным пожирал
Обед себе в ней сытный, верный.
Спастись, казалось, ей нельзя никак:
Дорогу обои́м пересекал овраг;
Но Серна лёгкая все силы натянула —
Подобно и́з лука стреле,
Над пропастью она махнула —
И стала супротив на каменной скале.
Мой Лев остановился.
На эту пору друг его вблизи случился:
Друг этот был – Лиса.
«Как! – говорит она, – с твоим проворством, силой,
Ужели ты уступишь Серне хилой!
Лишь пожелай, тебе возможны чудеса:
Хоть пропасть широка, но если ты захочешь,
То, верно, перескочишь.
Поверь же совести и дружбе ты моей:
Не стала бы твоих отваживать я дней,
Когда б не знала
И крепости и лёгкости твоей».
Тут кровь во Льве вскипела, заиграла;
Он бросился со всех четырёх ног,
Однако ж пропасти перескочить не мог:
Стремглав слетел и – до смерти убился.
А что ж его сердечный друг?
Он потихохоньку в овраг спустился
И, видя, что уж Льву ни лести, ни услуг
Не надо боле,
Он, на просторе и на воле,
Справлять поминки другу стал.
И в месяц до костей он друга оглодал.
1829–1830
Купец
«Поди-ка, брат Андрей!
Куда ты там запал? Поди сюда, скорей,
Да подивуйся дяде!
Торгуй по-моему, так будешь не внакладе, —
Так в лавке говорил племяннику Купец. —
Ты знаешь польского сукна конец,
Который у меня так долго залежался,
Затем, что он и стар, и по́дмочен, и гнил:
Ведь это я сукно за а́нглийское сбыл!
Вот, видишь, сей лишь час взял за него сотняжку:
Бог олушка послал». —
«Всё это, дядя, так, – племянник отвечал, —
Да в олухи-то, я не знаю, кто попал:
Вглядись-ко: ты ведь взял фальшивую бумажку».
_________
Обманут! Обманул Купец: в том дива нет;
Но если кто на свет
Повыше лавок взглянет, —
Увидит, что и там на ту же стать идёт;
Почти у всех во всем один расчёт:
Кого кто лучше проведёт,
И кто кого хитрей обманет.
1829–1830
Мирон
Жил в городе богач по имени Мирон[24]24
Мирон – в переводе с греческого – «каплющий елеем».
[Закрыть].
Я имя вставил здесь не с тем, чтоб стих наполнить;
Нет, этаких людей не худо имя помнить.
На богача кричат со всех сторон
Соседи; а едва ль соседи и не правы,
Что будто у него в шкатулке миллион —
А бедным никогда не даст копейки он.
Кому не хочется нажить хорошей славы?
Чтоб толкам о себе другой дать оборот,
Мирон мой распустил в народ,
Что нищих впредь кормить он будет по субботам.
И подлинно, кто ни придёт к воротам —
Они не заперты никак.
«Ахти! – подумают, – бедняжка разорился!»
Не бойтесь, скряга умудрился:
В субботу с цепи он спускает злых собак;
И нищему не то чтоб пить иль наедаться, —
Дай Бог здоровому с двора убраться.
Меж тем Мирон пошёл едва не во святых.
Все говорят: «Нельзя Мирону надивиться;
Жаль только, что собак таких он держит злых
И трудно до него добиться:
А то он рад последним поделиться».
_________
Видать случалось часто мне,
Как доступ не лего́к в высокие палаты;
Да только всё собаки виноваты —
Мироны ж сами в стороне.
1829–1830
Крестьянин и Собака
У мужика, большого эконома,
Хозяина зажиточного дома,
Собака нанялась и двор стеречь,
И хлебы печь,
И сверх того полоть и поливать рассаду.
Какой же выдумал он вздор, —
Читатель говорит, – тут нет ни складу,
Ни ладу.
Пускай бы стеречи уж двор;
Да видано ль, чтоб где собаки хлеб пекали
Или рассаду поливали?
Читатель! Я бы был не прав кругом,
Когда сказал бы: «да», – да дело здесь не в том,
А в том, что наш Барбос за всё за это взялся,
И вымолвил себе он плату за троих;
Барбосу хорошо: что нужды до других.
Хозяин между тем на ярмарку собрался,
Поехал, погулял – приехал и назад,
Посмотрит – жизни стал не рад,
И рвёт, и мечет он с досады:
Ни хлеба дома, ни рассады.
А сверх того к нему на двор
Залез и клеть его обкрал начисто вор.
Вот на Барбоса тут посыпалось руганье,
Но у него на всё готово оправданье:
Он за рассадою печь хлеб никак не мог;
Рассадник оттого лишь только не удался,
Что, сторожа́ вокруг двора, он стал без ног;
А вора он затем не устерёг,
Что хлебы печь тогда сбирался.
1833
Два мальчика
«Сенюша, знаешь ли, покамест, как баранов,
Опять нас не погнали в класс,
Пойдём-ка да нарвём в саду себе каштанов!» —
«Нет, Федя, те каштаны не про нас!
Хоть, кажется, они и недалёко,
Ты знаешь ведь, как дерево высоко:
Тебе, ни мне туда не влезть,
И нам каштанов тех не есть!» —
«И, милой, да на что ж догадка!
Где силой взять нельзя, там надобна ухватка.
Я всё придумал: погоди!
На ближний сук меня лишь подсади.
А там мы сами умудримся —
И досыта каштанов наедимся».
Вот к дереву друзья со всех несутся ног,
Тут Сеня помогать товарищу принялся,
Пыхтел, весь потом обливался,
И Феде, наконец, вскарабкаться помог.
Взобрался Федя на приволье:
Как мышке в закроме, вверху ему раздолье!
Каштанов там не только всех не съесть, —
Не перечесть!
Найдётся чем и поживиться,
И с другом поделиться.
Что ж! Сене от того прибыток вышел мал:
Он, бедный, на низу облизывал лишь губки;
Федюша сам вверху каштаны убирал,
А другу с дерева бросал одни скорлупки.
_________
Видал Федюш на свете я,
Которым их друзья
Вскарабкаться наверх усердно помогали,
А после уж от них – скорлупки не видали!
1833
Разбойник и Извозчик
В кустарнике залегши у дороги,
Разбойник под вечер добычи нажидал,
И, как медведь голодный из берлоги,
Угрюмо даль он озирал.
Посмотрит, грузный воз катит, как вал.
«О, го! – Разбойник мой тут шепчет, – знать, с товаром
На ярмарку; чай, всё сукно, камки, парчи.
Кручина, не зевай – тут будет на харчи:
Не пропадёт сегодня день мой даром».
Меж тем подъехал воз; кричит Разбойник: «Стой!» —
И на Извозчика бросается с дубиной.
Да лих; схватился он не с олухом-детиной:
Извозчик – малый удалой;
Злодея встретил мостовиной,
Стал за добро своё горой,
И моему герою
Пришлося брать поживу с бою —
И долог и жесток был бой на этот раз.
Разбойник с дюжины зубов не досчитался,
Да перешиблена рука, да выбит глаз;
Но победителем, однако ж, он остался:
Убил Извозчика злодей.
Убил – и к до́быче скорей.
Что ж он завоевал? – Воз целый пузырей!
_________
Как много из пустого
На свете делают преступного и злого.
1833
Вельможа
Какой-то в древности Вельможа
С богато убранного ложа
Отправился в страну, где царствует Плутон.
Сказать простее, – умер он;
И так, как встарь велось, в аду на суд явился.
Тотчас допрос ему: «Чем был ты? где родился?» —
«Родился в Персии, а чином был сатрап;
Но так как, живучи, я был здоровьем слаб,
То сам я областью не правил,
А все дела секретарю оставил». —
«Что ж делал ты?» – «Пил, ел и спал,
Да всё подписывал, что он ни подавал». —
«Скорей же в рай его!» – «Как! где же справедливость?» —
Меркурий тут вскричал, забывши всю учтивость.
«Эх, братец! – отвечал Эак,—
Не знаешь дела ты никак.
Не видишь разве ты? Покойник – был дурак!
Что, если бы с такою властью
Взялся он за дела, к несчастью, —
Ведь погубил бы целый край!..
И ты б там слёз не обобрался!
Затем-то и попал он в рай,
Что за дела не принимался».
_________
Вчера я был в суде и видел там судью:
Ну, так и кажется, что быть ему в раю!
1834
Приложение

ЛАРЧИК
М. Е. Лобанов[25]25
Михаил Евстафьевич Лобанов (1787–1846) – русский поэт и переводчик, член Российской Академии (1828), почётный член (1841) и ординарный академик Императорской Академии Наук (1845), в течение многих лет служил в Императорской публичной библиотеке в качестве библиотекаря; приятель И. А. Крылова и И. И. Гнедича.
[Закрыть]
Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова (в сокращении)
Недавно еще жил посреди нас муж высоких достоинств, осанистой наружности, которого белые волосы хотя и напоминали о многих годах, им прожитых, но которого сила, крепость и дородство, казалось, предвещали ему исключительное долголетие. Для смерти нет сильных: мы видим уже его могилу – Мир праху твоему, знаменитый Россиянин! Тебя нет, но память твоя сделалась славным наследием твоего отечества. С Ломоносовым, Державиным и Карамзиным ты перейдешь в позднейшее потомство, и имя твое вседневно будет твердиться тысячами юных, едва лепечущих уст до тех пор, пока будет во вселенной существовать язык русский.
Всякому из нас, без сомнения, приятно припомнить и рассказать что-нибудь о согражданине, которого слава разнеслась по всем концам вселенной, где только есть хотя слабое понятие о словесности. Не смею надеяться вполне изобразить его как человека и как писателя; но к повествованию других прибавлю в свою очередь то, что двадцатипятилетнее соседство, постоянная и искренняя приязнь и почти вседневные сношения с ним сделали мне известным и оставили в моей памяти.
Иван Андреевич родился в Москве 2 февраля 1768 года, скончался в С.-Петербурге 9 ноября 1844 года; жизнь его длилась 76 лет 9 месяцев и 7 дней. Отец его, Андрей Прохорович, служил штабс-капитаном в войске, поражавшем Пугачева; он отличался при защите города Яицка, за что и был Пугачевым заранее обречен смерти, со всем его семейством. Жена его следовала за ним в походе, где только возможно было, и в 1772 году она с детьми своими, и в том числе с четырехлетним Иваном, отправилась в Оренбург, которым злодею не удалось овладеть… <…> По усмирении пугачевского бунта, это семейство переехало в Тверь, где отец, оставивший военную службу, получил место председателя в Тверском губернском магистрате с чином коллежского асессора. Тут, в родительском ломе наш Крылов учился грамоте, а первым началам некоторых наук и языков в приязненном семействе Львова вместе с его детьми. Учение того времени, конечно, было ограниченное; тогда в России еще не много было средств для образования юношества; но малютка, щедро одаренный природою, во всем, к чему только прилежал, делал большие успехи. К изучению иностранных языков, как увидим впоследствии, он имел необыкновенную способность. Во французском языке первые уроки получил он от гувернера француза, жившего у тверского губернатора; потом продолжал учиться дома, сам собою, под надзором своей матери, Марьи Алексеевны, о которой он всегда вспоминал с любовью. «Она была простая женщина, – говорил он, – без всякого образования, но умная от природы и исполненная высоких добродетелей». От нее-то, кажется, он наследовал ум и прекрасные способности; ибо отец его был храбрый, но обыкновенный человек. Он лишился его на тринадцатом году своей жизни, то есть в 1781 году. Любопытно то, что мать его, чуждая всякого учения, даже грамотности, вмешивалась в его упражнения и, руководствуясь одною природного логикою, нередко поправляла его ошибки. Когда он читал ей переводы, она останавливала его иногда: «Нет, Ваня, это что-то не так! возьми-ка ты французский словарь, да выправься-ка хорошенько». Он исполнял приказание матери и действительно находил ошибки.
Русские книги, частию духовные, частию исторические, также и словари в небольшом количестве были в их доме; притом он доставал у знакомых, что только можно было достать в Твери, и в то время приохоченный благоразумною матерью еще с детства к чтению, то ласками, то подарками, впоследствии, с возрастом, он пристрастился к этому занятию и с жадностию читал все, что ни попадалось ему в руки.
На четырнадцатом году от роду (1781 г.), он поступил на службу в Калязинский уездный суд; потом служил в Тверском губернском магистрате. Переведен в С.-Петербургскую Казенную палату (1782 г.), в кабинет Ее Императорского Величества (1788 г.); с 1790 по 1801 год он находился в отставке. В это время, то есть с двадцати двух по тридцать второй год своей жизни, он занимался словесностию: участвовал в издании журналов: 1) «Почта духов», которую издавал вместе с капитаном Рахмановым в 1789 году; 2) «Зритель», которого был редактором, вместе с Клушиным и другими товарищами, в 1792 году; 3) «С.-Петербургскпй Меркурий», в 1793 году. В этом журнале напечатаны некоторые из его тогдашних стихотворений: оды, песни и послания. Прозаические сочинения его молодости, все журнальные статьи и, между ними, две похвальные речи, первая: «Как убивать время»; вторая: «Ермалафиду», и повесть «Каиб» – отличаются остроумием и колкостию. Во всех этих сочинениях и статьях сатирический ум Крылова осмеивал пороки. В введении к «Зрителю» сказано, что этот журнал издается с тою целию, чтоб порок, представляемый во всей гнусности, вселял отвращение, а добродетель, изображаемая во всей красоте, пленяла собою читателя. Патриотизм Крылова, вполне развившийся в последних его двух комедиях, уже и на двадцать четвертом году его жизни везде решительно выказывался, и русская душа его, неколебимая в своих правилах и думах, не изменившаяся в течение почти семидесятисемилетней жизни ни от каких посторонних влияний и прививок иноземных, везде и всегда искала пользы своему отечеству, и нет сомнения, что перо его немало содействовало к смягчению и укрощению нравов. «Одну из моих повестей, – говорил мне Иван Андреевич, – которую уже набирали в типографии, потребовала к себе императрица Екатерина: рукопись не воротилась назад, да так и пропала». Молодой ум его, вероятно, задел колким пером своим такое лицо, которое ей угодно было спасти от преследования сатиры.
В 1801 году он поступил секретарем к рижскому военному генерал-губернатору, князю Сергею Федоровичу Голицыну, и служил при нем по 1803 год. Опять вышел в отставку, вместе с уволенным князем, которого он любил, и, прожив у него несколько времени в Саратовском его поместье, возвратился в Петербург и чрез пять лет, то есть в 1808 году, определился в Монетный департамент, где А. Н. Оленин был директором. В этом году он участвовал в «Драматическом вестнике», где были напечатаны многие из первых его басен. И потом, чрез один год с небольшим, проведенный вне службы, определился, в 1812 году, в императорскую Публичную библиотеку, из которой в 1841 году вышел в отставку, в чине статского советника, с получением всех пенсий, дарованных ему как знаменитому писателю <…>
В молодости своей, не зная еще истинного своего назначения, но кипя желанием выразить свои чувства и мысли, Крылов испытывал себя в разных и почти во всех родах словесности; но первым его опытом в стихах была басня, переведенная им на четырнадцатом году из Лафонтена, которую знатоки того времени <…> хвалили; но время истребило ее. Потом он упражнялся преимущественно в драматическом роде. <…>
Приступая к исчислению всех его сочинений, поневоле должен я говорить и о тех его сочинениях, которые он, как попытки, как проказы молодости, вероятно, желал бы истребить из памяти человеческой; но, зная обязанность биографа и справедливое любопытство публики, я не смею умолчать о них.
В 1784 году, то есть шестнадцатилетний Крылов написал оперу «Кофейница», в 3-х действиях, в прозе с куплетами, которая сохранилась в рукописи. Приехавши с своею матерью в Петербург, которая умно рассчитала, что способному и даровитому ее сыну лучше быть в столице, чем в губернском городе, как в отношении к службе, так и в отношении к дальнейшему его образованию, он написал эту оперу и, услышав о типографщике Брейткопфе, знатоке и любителе музыки, притом добрейшем человеке, явился к нему с первым своим сочинением, с своею «Кофейницею», прося положить на музыку куплеты и дать ход этой пиесе. Брейткопф предложил ему за либретто 60 рублей ассигнациями. У автора забилось от радости сердце: это был первый плод, первая награда за его юношеский литературный труд; но, по страсти своей к чтению, он просил заплатить ему не деньгами, а книгами, и получил Расина, Мольера и Буало, что чрезвычайно его радовало и веселило престарелую его мать.
Прошло около тридцати лет после того, и судьба свела нашего Крылова с Брейткопфом, тогда статским и потом действительным статским советником, на службе в императорской Публичной библиотеке. Брейткопф, не сделавший никакого употребления из пиесы, возвратил ее автору который не без удовольствия взглянул на знакомый ему труд его молодости <…>
Крылов, оглушенный славою Сумарокова и Княжнина <…> хотел испытать себя и в трагическом роде. Он написал «Клеопатру» и обратился к Дмитревскому чтобы поставить ее на театр. Дмитревский добродушно и охотно выслушал трагедию, разбирал ее содержание, ход и характеры, делал замечания на каждую сцену, излагал правила и старался передать молодому автору все, что сам знал об этом искусстве. Он хвалил то, что находил в ней хорошего, поощрял автора к новым трудам и, наконец, с кротостию дал почувствовать, что трагедия в таком виде не может быть представлена на театре, что нужно ее совершенно пересоздать и переделать. <…>
«В молодости моей, – говорил мне в последние свои годы Крылов, – я все писал, что ни попало, была бы только бумага да чернила; я писал и трагедию; она напечатана была в “Российском феатре”, в одном томе с “Вадимом” Княжнина, с которым вместе и исчезла, да и рад тому: в ней ничего путного не было; это первые давнишние мои попытки».
В 1798 году Крылов находился в поместье князя Сергия Федоровича Голицына, бывшего впоследствии рижским военным генерал-губернатором. По приглашению хозяина, чтоб молодые люди, находившиеся тогда в его доме, выдумывали бы какие-нибудь забавы и веселились, Крылов, будучи в самом юмористическом расположении духа, написал «Трумфа». «При чтении его, – говорил он, – все помирали со смеху». Это самое повторяется и теперь со всяким, в первый раз читающим эту пиесу <…>
Это шалость, это проказы таланта. Но рассыпать в шутовской пиесе столько веселости, столько остроты и сатирического духа – мог один Крылов! <…>
После «Трумфа» Крылов, служивший в Риге, при военном генерал-губернаторе, занимался наиболее делами вовсе не литературными. Жизнь каждого человека делится на разные периоды, иногда совершенно противоположные один другому. Жизнь в Риге нашего Ивана Андреевича была периодом его забав всякого рода и разгульной жизни. Тогда преимущественно любил он сипеть на пирах и играть в карты и, по собственному ею рассказу, был в значительном (до 70 000 руб.) выигрыше. Но чтение в досужные минуты всегда оставалось любимым его упражнением. В течение этих шести лет, то есть с 1801 года по 1807-й, был его литературный отдых. <…> Опыт и чтение лучших иностранных писателей: философов, историков и поэтов, открыли и указали ему новые пути. С 1807 года, знакомый уже с тайнами искусства, он является на литературном поприще с произведениями высокого достоинства, зрелыми и глубоко обдуманными. <…>
Таким образом испытавши себя почти во всех родах словесности, упражняясь в чтении лучших иностранных писателей и углубляясь во все изгибы и тайны отечественного языка, наконец Иван Андреевич, на сороковом году от рождения, остановился на басне <…>
Он начал переводом и подражанием Лафонтену, но заимствованное облек в русские формы, нашел новые красоты, как в вымысле, так и в подробностях. Переводы его не были удовлетворительны, он почувствовал собственные свои силы, могущество глубокого русского ума и пошел один своею дорогою, и здесь-то началась истинная слава его – и слава русской словесности. Как человек он был умнее Лафонтена; как философ, глубокомысленнее; как поэт, несравненно выше его. Рассказ его легкий, быстрый, естественный, оживлен умными шутками, веселостию, остротою, и так приятен, что невозможно даже идеально представить себе что-либо совершеннее. Многие мысли его облечены и вылиты в такие формы, которые остаются тайнами его, тайнами гениальными. В выводах и в заключениях его часто прорывается та неодолимая сила эпиграммы, которая все обезоруживает вокруг себя. Эти-то золотые, гениальные мысли вылились уже в народ, составили его собственность, обратились в пословицы и в приговоры его суждений.
Поэзия, при всей своей очаровательности, нигде не увлекла Крылова за пределы; он дал ее своему читателю столько, сколько позволяет мудрая бережливость. И басни его, то есть истины, облеченные в приятные формы аллегории, по чистоте и нравственности сделались как бы собственностию одних детей; по в них человечество вообще находит себе полезную пишу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































