Текст книги "Душа Толстого"
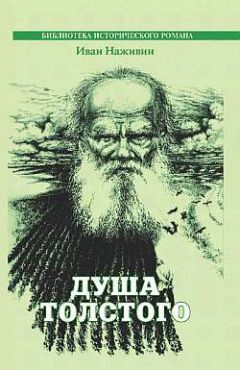
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
IX
Мирно протекали по возвращении из Европы его дни в этом тихом, белом, патриархальном доме, среди тихих лесов и полей, под этим тихим и бездумным небом. Иногда он вылетал на время в шумную, хлебосольную, немножко пьяную Москву, блистал там своими седыми бобрами, блестящим цилиндром, шармеровским костюмом и модной тросточкой, – нравоучительные письма к прекрасной Валерии уже забыты! – принимал участие в шумных и веселых московских балах, уютно кейфовал в аглицком – не английском, сохрани Бог от такой вульгарности, а в аглицком – клубе, бесился и пил с цыганами, спорил, основывал московское музыкальное общество… Но чуть среди потемневших, полных талого снега улиц московских дохнет весной, он уже снова мчится, нетерпеливый, в свою Ясную, где ждет его тетушка, мужики, лошади, вальдшнепы, собаки и эта заколдованная тишина, в которой так хорошо работается. И его, этого московского франта в седых бобрах, все более и более беспокоит и томит та зловещая пропасть, которая отделяет его белый, уютный дедовский дом от этих жалких, утопающих в черной, жирной земле изб, в его сердце просыпается жалость к этим обездоленным жизнью, на нищенстве которых зиждется его благополучие, и он все настойчивее и настойчивее делает попытки перебросить чрез эти пропасти мосты взаимного понимания, дружества, сотрудничества.
Старший брат его, Николай, с тонким юмором отметил это новое устремление своего пламенного брата: «Левочка усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и все мы, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое выйдет сближение: Левочка желает все захватить разом, не упустить ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе: „придешь – говорит он – к барину за приказанием, а барин, зацепившись одною коленкою за жердь, висит в красной куртке головой вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться“. Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует…».
Но, отъюфанствовав на пашне, снова в уединении своего кабинета, налитого тишиной лесов, он создает все новые и новые произведения, пишет свой дневник, а долгие вечера проводит в тихой беседе со своей милой тетушкой. А потом срывается, едет в Тулу, чтобы участвовать в заседании комитета об улучшении быта крестьян, налаживает для крестьянских ребят школу и сам усердно занимается в ней, торопится в Москву на заседание Общества Любителей Российской Словесности: общество избрало его членом, и он должен выступить там с речью. Но силы остается в нем все же очень много, и вот среди зимы он мчится в глушь Тверской губернии на медвежью охоту, которая едва не стоила ему жизни: тяжело раненная им медведица подмяла его под себя и только было начала грызть ему лицо, как подбежавший обкладчик напугал ее и она убежала. Потом шкура этой медведицы лежала в Ясной, в столовой перед диваном… А там скорее опять домой, в безмятежно тихую Ясную, чтобы работать: «иногда так вдруг захочется быть великим человеком – пишет он в одном письме к Фету, – и так досадно, что до сих пор еще это не сделалось. Даже поскорей торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать…».
Как всегда, налетают на него порывы тоски: «тягота хозяйства, тягота одинокой жизни, всевозможные сомнения и пессимистические чувства обуревают душу…» – пишет он в дневнике. И вдруг снова восторженный крик пред красотой жизни, которая слепит его: «какой Троицын день был вчера! – пишет он Фету. – Какая обедня с вянущей черемухой, седыми волосами и яркокрасным кумачом и горячее солнце!..» Пусть фраза построена неуклюже, топором, по-толстовски, но какое ему дело до какой-то там фразы? Важно одно – эта пестрая, бурная, горячая жизнь, от которой блаженно кружится голова и которой он никак не может достаточно упиться… И какое дело до его неуклюжих фраз нам, когда его крик восторга на протяжении полувека не остыл и опаляет этим восторгом нашу душу и теперь?!.
X
В средине 1860 г. Толстой со своей сестрой Марьей Николаевной и ее семьей снова выехал за границу, где в Содене лечился их брат Николай, заболевший чахоткой. Николай, как и другие братья Толстые, шел жизнью не избитыми, а своими путями и склонен был «чудить» и «дурить», как называли это их свойство близкие. Он «муравейно» жил всегда в плохонькой квартирке, чуть не в лачуге, где-нибудь на самой окраине Москвы и охотно делился с бедняками последним. Но, может быть, потому, что не удалось ему найти зеленую палочку и сделать людей счастливыми, он часто предавался жестокому запою.
Толстой продолжает жадно, нетерпеливо знакомиться с жизнью. Проезжая чрез Берлин, он посещает лекции в университете, знакомится с постановкой дела на вечерних курсах для ремесленников, посещает моабитскую тюрьму, в Лейпциге осматривает народные школы и заносит в свой дневник: «Был в школе. Ужасно. Молитва за короля, побои, все наизусть, напуганные, изуродованные дети». В Дрездене он навещает своего любимого писателя Ауэрбаха,[35]35
Бертольд Ауэрбах (1812–1882), немецкий писатель. Идеализировал патриархальную деревню («Шварцвальдские деревенские рассказы», роман «Дача на Рейне»).
[Закрыть] читает историю педагогики, за глядывает в знаменитые галереи Дрездена и нетерпеливо рвет пеленки традиции:
– Я тогда еще находился под гипнозом, что всем этим восхищаться обязательно… – рассказывал он в старости. – Выжимал, дулся, но ничего не вышло…
Устроившись в Киссингене, Толстой усердно читает – и по естествознанию, и по политике, и по религии – и в дневнике отмечает коротко: «Лютер велик». Он знакомится с немецким социологом Фрёбелем и во время совместных прогулок поражает аккуратного, уравновешенного немца резкостью и парадоксальностью своих суждений. По его мнению, в России прогресс должен исходить из народного образования, и оно даст у нас лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ не испорчен, тогда как немцы походят на ребенка, которого в течение нескольких лет подвергали неправильному воспитанию. Народное образование не должно быть обязательно: если оно благо, то народ примет его и добровольно. Разумеется, уравновешенный немец мог только разводить руками перед всей этой дичью. И много говорил Толстой о крестьянской общине в России, той подневольной общине, от которой крестьянство волком выло, но в которой он, как и огромное большинство интеллигенции, видел зародыш справедливого социального строя. Недаром его брат, Николай, утверждал, что деревню он, «как и все мы», знал весьма еще недостаточно и смешивал общину идеальную с весьма неидеальной российской общиной.
Затем Толстой прошел пешком весь Гарц, побывал в тюрингенских городах, поехал в Вартбург, а затем из Франкфурта все Толстые, соединившись вместе, поехали на Ривьеру: здоровье Николая все ухудшалось. Но и южное солнце не спасло обреченного, и там он скончался. Смерть его произвела на Толстого чрезвычайно сильное впечатление. Он точно впервые понял, что смерть это конец вянущей черемухе, ярко-красным ситцам за обедней, солнцу и всему, и – испугался. Месяц спустя он писал об этом Фету так:
«Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Н. Н. Толстой, для него ничего не осталось. Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: „Да что ж это такое?“ Это он ее увидел – это поглощение себя в ничто. А уж ежели он не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше. И уж, верно, ни я и никто так не будет до последней минуты бороться с нею, как он… До последней минуты он не отдавался ей, все сам делал, все старался заниматься, писал, меня спрашивал о моих писаньях, советовал. Но все это, мне казалось, он делал уже не по внутреннему стремленью, а по принципу. Одно, природа, – это осталось до конца. Накануне он пошел в свою спальню и упал от слабости на постель у открытого окна. Я пришел, он говорил со слезами в глазах: „Как я наслаждался теперь час целый“. Из земли взят и в землю пойдешь. Осталось одно, смутная надежда, что там, в природе, которою частью сделаешься в земле, останется и найдется что-нибудь. Все, кто знали и видели его последние минуты, говорят: „Так удивительно спокойно, тихо он умер“, а я знаю, как страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня. Тысячу раз я говорю себе: „оставь мертвым хоронить мертвых“, надо же куда-нибудь девать силы, которые еще есть, но нельзя уговорить камень, чтобы он падал наверх, а не вниз, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила, нельзя есть, когда не хочется. К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью лжи, самообмана и кончатся ничтожеством, нулем для себя. Забавная штучка. Будь полезен, будь добродетелен, будь счастлив, покуда жив, говорят века друг другу люди; да и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде, а правда, которую я вынес из 32-х лет, есть та, что положение, в которое поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние.
Я зиму проживу здесь, по той причине, что все равно жить где бы то ни было…».
Упорно кружась мыслью вкруг смерти, он старается пробить ту стену извечной Тайны, которая стоит на всех путях ума человеческого. Тот факт, что эту стену до него в течение тысяч лет старались пробить миллиарды людей и что все их усилия остались бесплодными, не останавливает его, как не остановил до него никого и не остановит никого тысячи лет спустя после него: человек, весь во власти иллюзии, убежден почему-то, что он будет исключением из общего правила и то, что не удалось человечеству, удастся как-то ему.
Напуганный, потрясенный смертью, Толстой оказался точно цепью прикованный к мысли о ней на всю жизнь. Смерти он посвятил бесконечное количество страниц своих произведений, и писем, и дневника. В «Исповеди» долгие годы спустя он пишет: «Умный, добрый, серьезный человек, мой брат, заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания». Он видит, что никакие теории не могли ответить людям на это, но сам неустанно, из всех сил пытается создать такую теорию, и в конце жизни ему кажется, что он ее создал, что он спасение нашел: «жизнь человека есть стремление к благу; к чему он стремится, то и дано ему: жизнь не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом». Он решительно не хочет замечать, что это не ответ, что это диалектика, тот страшный порок культурного человечества, который покрывает горькую пилюлю страшной истины сладенькой оболочкой красивых слов, вносит такой сумбур в жизнь всякого думающего человека и так невыгодно отличает его от простых лилий полей и бесхитростных птиц небесных, от этих вопросов избавленных. Есть три великих слова, которые мужественный человек обязан, в конце концов, выговорить. Это: я не знаю. Толстой этого мужества в себе не нашел.
Эта напряженная духовная работа его была скрыта от постороннего глаза глубоко в душе, и сила жизни, ее обманов, ее чар в нем была так велика, что даже смерть близкого человека не могла убить ее. И, постепенно отходя от того оцепенения, в которое погрузило его зрелище страданий и смерти любимого брата, он бродит один по живописным окрестностям, занимается с детьми сестры, поднимается с ними в развалины старого замка, где по мертвым камням цветет барвинок, и поражает общество всякими эксцентрическими выходками – вроде появления на вечере одной княгини в деревянных сабо. Он не раз посещает Марсель, чтобы ознакомиться с постановкой дела в его школах, а потом едет в Женеву, во Флоренцию, в Рим, в Неаполь и снова чрез Марсель возвращается в Париж. К большому сожалению, в опубликованных о Толстом биографических материалах я не нашел ни малейшего указания на его итальянские впечатления. Древности и могилы Италии должны были произвести на него большое впечатление: смерть даже самого близкого человека это все же совсем не то, что смерть народов, целых эпох, богов…
Из Парижа Толстой проехал в Лондон, к знаменитому тогда писателю-изгнаннику, А. И. Герцену, который, не уставая звонил на берегах Темзы в свой революционный «Колокол», будя русское общество и пугая правительство. К сожалению, ни у Герцена, ни у него самого не осталось никаких заметок о их многочисленных беседах: Герцен был большой и искренний человек, и, конечно, их разговоры были весьма интересны. Попутно Толстой наблюдал лондонскую жизнь, слушал в парламенте трехчасовую речь Пальмерстона[36]36
Генри Джон Темпл Пальмерстон – во второй половине XIX в. премьер-министр Великобритании.
[Закрыть] и чрез полтора месяца, с рекомендательным письмом Герцена к Прудону[37]37
Пьер Жозеф Прудон – французский социалист.
[Закрыть] в кармане, выехал в Брюссель. Беседа с Прудоном произвела на Толстого очень сильное впечатление. Один из его биографов справедливо замечает, что знаменитый афоризм Прудона: «собственность есть кража» может быть поставлен к любой из экономических статей Толстого. Некоторые из ближайших последователей Толстого, которые приветствовали его борьбу с собственностью и в частности его отказ от своих литературных прав, теперь на своих книжках о нем, отрицателе собственности, старательно ставят: «право собственности сохраняется за автором». Много в жизни бывает едкой иронии иногда…
Из Брюсселя, после свидания с Прудоном, Толстой проехал в Веймар, где был представлен великому герцогу: как пчела, он брал взяточку с каждого цветочка, который встречался ему на путях жизни. В Веймаре он осмотрел закрытое тогда для простых смертных жилище Гёте, в Дрездене снова повидался с Ауэрбахом, в Готе осматривал фрёбелевские[38]38
Фридрих Фрёбель (1782–1852), немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, разработал идею детсада и основы методики работы в нем.
[Закрыть] сады, везде очень интересовался школами и, наконец, весной 1861 г., после девятимесячного отсутствия, переехал русскую границу.
В России тем временем совершилось дело огромного исторического значения: 19 февраля Александром II было уничтожено на Руси крепостное право. Культурные и передовые круги ликовали шумно, но всегда верный себе, недоверчивый Толстой внутренне сопротивлялся этим – как он выражался – эпидемическим увлечениям и пошел, как всегда, своим особым путем…
XI
В деле осуществления реформ Александра II Толстой принял участие в роли мирового посредника, то есть лица, на котором лежало введение в жизнь нового закона, упорядочение новых отношений помещиков и освобожденных до известной степени от их власти крестьян. Я говорю «до известной степени» потому, что в очень многих случаях, там, где крестьяне получили недостаточный надел, они фактически остались под властью помещика, в руках которого была нужная им, как воздух, земля. Если воля по телеграфу и была, наконец, из Петербурга в деревню пущена, то, несомненно, вышла эта воля довольно куцей, что и послужило потом источником более чем полувековой смуты земельной и закончилась грандиозным взрывом 1917 г.
Местные землевладельцы весьма сопротивлялись, как самому назначению Толстого мировым посредником, так и его деятельности, но крестьяне, как рассказывают, очень ценили энергичного, доброго и справедливого посредника, который, однако, нисколько не либеральничал, не подмазывался и не стеснялся призывать к исполнению закона не только помещиков, но, когда нужно, и крестьян. Обскуранты обвиняли его неустанно в потрясении всех основ, в насаждении анархии и даже в усилении в деревне воровства, но он не обращал никакого внимания на все эти выступления и делал свое дело. Поэтому путь его не был усыпан розами, и все кончилось тем, чем и должно было кончиться: вражья сила, боровшаяся за свои привилегии, победила, в конце концов, и он, надломив свое железное здоровье, очень скоро, уже в мае, должен был выйти в отставку. Но было бы несправедливо умолчать о его очень неудобном для чиновника качестве, о его органическом отвращении ко всяким этим канцелярским бумагам. По рассказам современников, его канцелярия выпускала иногда такие бумажки, что даже самые расположенные к нему люди могли только разводить руками…
Параллельно с этой деятельностью по устроению крестьян на новом положении Толстой с чрезвычайной любовью и энергией занимался в то время своей яснополянской школой для крестьянской детворы. Он ясно понимал, что в фундаменте новой России нельзя оставить доисторически темного мужика. Эта его деятельность описана им самим в его педагогических статьях, к которым мы и отсылаем интересующихся этим вопросом в подробностях.[39]39
См. последнее издание в России: Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1989.
[Закрыть] В его надрывной, тяжелой «Исповеди» он вынес и этой своей деятельности беспощадный приговор, но мы позволим себе смелость быть менее строгими к его усилиям создать разумную школу для народа…
Его поражало в жизни народа одно действительно непонятное сперва явление: сопротивление народа тому просвещению, которое насаждается правительством и которое не только в России, но и в других странах приводит к закону о принудительном обучении народа. Чрезвычайно характерно, что русские крестьяне даже в совсем отличных от русских условиях никак не могут примириться с принудительностью обучения в государственных школах: в Канаде русские духоборы в течение многих лет ведут неустанную борьбу с государством на этой почве, не останавливаясь даже перед такими радикальными мерами, как сожжение правительственных школ. Почему же существует это сопротивление, – спрашивает Толстой, – раз в народе несомненно существует потребность в образовании? Основания для такого напора правительства на народ в деле образования могут быть религиозные, философские, опытные и исторические. Он разбирает каждую из этих основ отдельно, цитирует философов, ученых, приводит примеры из своей живой педагогической деятельности и приходит к заключению, что надо учить народ тому, чему он учиться хочет, и так, как он хочет, что «единственный несомненный критерий педагогики есть только один – свобода, единственный метод – опыт». Эти взгляды он развивает и защищает в своем журнале «Ясная Поляна», который он ведет сам, и проводит их в жизнь в своей школе. Картины его занятий и бесед с детьми – мне посчастливилось впоследствии быть свидетелем этого – изумительны. Другого слова я не могу подобрать. Занятия эти и трогательны, и чрезвычайно художественны, то есть не описания их художественны, а художественны они сами, художественна та жизнь, которую этот чародей с легкостью Бога творил вместе со своими учениками и помощниками, крестьянскими ребятами. Я прямо не могу отказать себе в радости привести хоть одну сценку его занятий с детьми:
«Один раз, прошлого зимою, я зачитался после обеда книгой Снегирева (сборник пословиц) и с книгой же пришел в школу. Был класс русского языка.
– Ну-ка, напишите кто на пословицу, – сказал я.
Лучшие ученики – Федька, Семка и другие – навострили уши.
– Как на пословицу? Что такое? Скажите нам… – посыпались вопросы.
Открылась пословица: ложкой кормит, стеблем глаза колет.
– Вот вообрази себе, – сказал я, – что мужик взял к себе какого-нибудь нищего, а потом за свое добро его попрекать стал. И выйдет к тому, что «ложкой кормит, стеблем глаз колет».
– Да как ее напишешь? – сказал Федька и все другие, навострившие было уши. Но вдруг отшатнулись, убедившись, что это дело не по их силам, и принялись за свои прежде начатые работы.
– Ты сам напиши, – сказал мне кто-то.
Все были заняты делом; я взял перо и чернильницу и стал писать.
– Ну… – сказал я, – кто лучше напишет. И я с вами…
Я начал повесть, напечатанную в 4-й книжке «Ясной Поляны», и написал первую страницу. Всякий непредупрежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, написанную мной и следующие страницы повести, отличит эту страницу от других, как муху в молоке, – так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить, что в первоначальном виде она была еще уродливее и во многом исправлена, благодаря указаниям учеников.
Федька из-за своей тетрадки все поглядывал на меня и, встретившись с моими глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил: «пиши, пиши, я те задам». Его, видимо, занимало, как большой тоже сочиняет. Кончив свое писание хуже и скорее обыкновенного, он взлез на спинку моего кресла и стал читать из-за плеча. Я не мог уже продолжать. Другие подошли к нам, и я прочел им вслух написанное: им не понравилось, никто не похвалил. Мне было совестно и, чтобы успокоить свое литературное самолюбие, я стал рассказывать им свой план последующего. По мере того, как я рассказывал, я увлекался, поправлялся, и они стали подсказывать мне: кто говорил, что старик этот будет колдун, кто говорил: нет, не надо, он будет просто солдат; нет, лучше пускай он их обокрадет; нет, это будет не к пословице и т. п., говорили они.
Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нем. Суждения их были большею частью одинаковы и верны, как в самой постройке повести, так и в самых подробностях и характеристиках лиц. Все принимали участие в сочинительстве: но с самого начала особенно выделились положительный Семка – резкою художественностью описания, и Федька – верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения. Требования их были до такой степени неслучайны и определенны, что не раз я начинал с ними спорить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове требования правильности постройки и верности отношения мысли пословицы к повести; у них, напротив, были только требования художественной правды. Я хотел, например, чтобы мужик, взявший в дом старика, сам бы раскаялся в своем добром деле, – они считали это невозможным и создали сварливую бабу. Я говорил: мужику стало сначала жалко старика, а потом хлеба стало жалко. Федька отвечал, что это будет нескладно: «Он с первого начала бабы не послушался, а потом уж не покорился». «Да какой он, по-твоему, человек?» – спросил я. «Он как дядя Тимофей, – сказал Федька, улыбаясь, – так, бородка реденькая, в церковь ходит, и пчелы у него есть». «Добрый, но упрямый», – сказал я. «Да, – сказал Федька, – уж он не станет бабы слушать». С того места, как старика внесли в избу, началась одушевленная работа. Тут, очевидно, они в первый раз почувствовали прелесть запечатления словом художественной подробности. В этом отношении особенно отличался Семка: подробности самые верные сыпались одна за другой. Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего без связи к общему чувству повести. Я не успевал записывать и только просил их подождать и не забывать сказанного. Семка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: закоченелые, замерзлые лапти и грязь, которая стекала с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку. Федька, напротив, видел только те подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо. Федька видел снег, засыпавшийся старику за онучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал: «Господи, как он шел!» (Федька даже в лицах представил, как это сказал мужик, размахнув руками и покачав головой.) Он видел из лоскутьев собранную шинелишку и прорванную рубашку, из-под которой виднелось худое, омоченное растаявшим снегом тело старика: он придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего: «Тише, матушка, у меня тут раны!» Семке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собой. Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.
Он забегал вперед, говорил о том: как будут кормить старика, как он упадет ночью, как будет потом в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами; черные, худенькие ручки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: «Написал, написал?» – все спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, т. е. художественно запечатлевать словом образы, чувства; он не позволял, например, перестанавливать слова, – скажет: «у меня на ногах раны», то уж не позволяет сказать: «у меня раны на ногах». Размягченная и раздраженная его в это время душа чувством жалости, т. е. любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в конике и т. п., Федька сердился и говорил: ну тебя уж, наладил… Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, когда жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас возникла картина с ягнятами, бякающими в конике, со вздохами старика и бредом мальчика Сережки; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика, – он согласился, но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: эх, напала бы ты на Савоську-покойника, тот бы те космы-то повыдергал!.. И он сказал это таким усталым и спокойно, привычно серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатились со смеху. Главное свойство во всяком искусстве – чувство меры, – было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически и с правом на этот деспотизм распоряжался постройкой повести, что скоро мальчики ушли домой, и остался только он с Семкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде. Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни усталости, ни голода и еще рассердились на меня, когда я перестал писать; взялись сами писать по переменкам, но скоро бросили: дело не пошло. Тут Федька спросил, как меня звать. Мы засмеялись, что он этого не знает. «Я знаю, – сказал он, – как вас звать, да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины…». Я сказал ему. «А печатывать будем?» – спросил он. «Да». «Так и напечатывать надо: сочинения Макарова, Морозова и Толстова». Он долго был в волнении, а я и не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся целый мир наслаждений и страданий, мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никогда никто не имеет права видеть, – зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно и радостно было, как искателю клада, который увидал бы цвет папоротника, – радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся тот философский камень, которого я тщетно искал два года, – искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, не соответствующий среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество.
… Я оставил урок, потому что был сильно взволнован.
– Что с вами? Отчего вы так бледны? Вы, верно, нездоровы? – спросил меня мой товарищ.
Действительно, я два-три раза испытывал в жизни столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве… И вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде него…».
Как теперь ясно, его занятия с детьми были не тоскливой поденщиной, а одним сплошным творческим и радостным вихрем. Но, предлагая свои методы, пример своей школы для подражания всем, Толстой все же совершал колоссальную ошибку: он забывал, что среди народных учителей во всем мире другого Толстого нет, он забывал, что то, что возможно ему, всемогущему волшебнику, то немыслимо для рядового школьного учителя. Когда много лет спустя его последователи задумали основать в Москве подобную «свободную» школу, то она в течение нескольких недель превратилась в такой клуб маленьких хулиганов, в такой сумасшедший дом, что сами основатели ее первыми поспешили взять из нее своих детей и отдали их в правительственную гимназию.
Но со всем тем совершенно несомненно, что в новых течениях, которые стали чувствоваться в русской школе перед революцией, – в смысле приближения ее к жизни, в смысле освежения ее атмосферы, – несомненную и огромную роль сыграли «чудачества» Толстого, и миллионы русских детей, я уверен, будут со временем праздновать светлый праздник в память их яснополянского освободителя от власти безжизненной схоластики и бездушной, фронтовой дисциплины.









































