Текст книги "Голубой бриллиант"
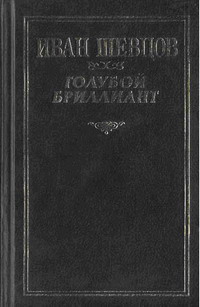
Автор книги: Иван Шевцов
Жанр: Криминальные боевики, Боевики
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Глава седьмая
КОШМАРНЫЙ СОН
1
На дугой день после встречи с Ивановым и Леонидом Ильичем Маша рассказала редактору своей газеты начало детективного сюжета о похищении рэкетирами Юлиана Ильича и о том, что вторую часть сюжета может рассказать следователь, телефон которого она имеет. Редактор дал «добро», и Маша, не откладывая дела в долгий ящик, поехала к следователю.
То, о чем рассказал ей Леонид Ильич, не представляло для журналистки Зорянкиной особого интереса: в годы повального разгула преступности, кровавой волной захлестнувшей страну, подобных сюжетов было хоть пруд пруди.
Беседуя со следователем, Маша решила, что ничего оригинального для их газеты нет, и потому криминальный очерк она писать не будет, тем более что есть материалы более эффективные для читателя. После встречи со следователем она решила заглянуть в «Детский мир» и купить дочери летнюю обувь. Выйдя из станции метро «Дзержинская», недавно переименованной в «Лубянку», она машинально бросила взгляд на площадь, в центре которого нелепо возвышалась чугунная цилиндрической формы тумба, с которой в августовские дни прошлого года в хмельном сатанинском угаре гаврилопоповские «мальчики» сбросили «железного Феликса». «Зачем заодно не убрали и постамент, – подумала Маша. – А может, решили сохранить его для статуи перестроечного разведчика Примакова или самого Ельцина? И хотя Ельцин предпочтет взобраться на пустой постамент первого президента Советской России кровавого палача Свердлова. Там ему будет престижней».
Огромное здание «Детского мира» было окружено густой, плотной толпой торговцев, предлагающей свой товар, приобретенный главным образом сомнительными путями. Тут было все, что душе угодно, – от французских духов и колготок Тушинской чулочной фабрики, до китайской тушенки и шотландского виски. Агрессивная толпа торговцев, состоящая наполовину из кавказцев, плотной баррикадой блокировала главный вход в «Детский мир» и выход из метро. С большим трудом пробираясь через живое людское кольцо, Маша подумала: вот это и есть наглядный прообраз того рынка, в который с такой ожесточенной поспешностью по команде из-за Океана загоняет нынешнее «дерьмократическое» правительство Ельцина наш народ. Внутри магазина толпа была не такой плотной, как снаружи. Тут тоже продавцы предлагали товар, не купленный, а именно приобретенный с черного хода в этом же, пока еще государственном, магазине, но уже в три, в пять, а то и десять раз дороже. Это была официально разрешенная Ельциным спекуляция, называемая предпринимательством – один из видов разбазаривания народного достояния и хищного, наглого, свыше санкционированного грабежа. Потолкавшись у пустых и полупустых прилавков и не найдя нужных вещей, Маша направилась к противоположному выходу – на Пушечную улицу. И тут она, что называется, лоб в лоб столкнулась с Ивановым, прижимавшим к груди закрытую целлофаном черноволосую, большеглазую куклу. И если Маша искренне обрадовалась такой неожиданной встрече, то лицо Алексея Петровича отражало и восторженную радость, и неловкое смущение. Причиной была кукла. С утра он попытался делать из пластилина человечков и животных, рассчитывая на завтрашнюю встречу с Настенькой (он почему-то был уверен, что Маша придет непременно с дочуркой – он же приглашал!). Но потом понял, что сотворенные им игрушки не понравятся девочке, и решил порадовать ее настоящей куклой. От неожиданности он был даже слегка растерян, что умиляло Машу. Они остановились друг против друга, толкаемые толпой, и Маша первой, сохраняя самообладание, предложила отойти в сторонку, где было посвободней.
– Удивительно, – сказала она, не сводя с Иванова обжигательного взгляда. Лицо ее пылало. – Удивительно! Все-таки биотоки не выдумка, а реальность, – продолжала она. – Шла сюда и думала о вас, о том, что завтра мы должны встретиться…
– И что? Вы не сможете? – тревога прозвучала в его нетерпеливом вопросе.
– Да нет, почему же – все будет, как условились. А это что у вас? – указала глазами на куклу. Вопрос прозвучал нелепо.
– По-моему, эта кукла, – лукавые огоньки заиграли в насмешливых глазах Алексея Петровича. Он уже успел оправиться от первого смущения. – Разве не похожа? Или, может быть, я перепутал?
Маша поняла неуместность случайно сорвавшегося ее вопроса и тоже с веселой улыбкой торопливо ответила:
– Похожа, очень похожа. Но зачем она вам?
– Мне? Гмм… Мне, конечно, она ни к чему. А вот Настеньке, я думаю, понравится. Должна понравиться. Как вы думаете?
– О, да! Она обожает куклы. Тем более таких аспидных брюнеток, у нее еще не было. – Маша не сказала, как это бывает: «Что вы, что вы, зачем было тратиться, у нее полно разных кукол». Она приняла, как должное, без всяких церемоний, очень мило, сердечно благодарю вас и прочие дежурные любезности. Просто сказала: «Она вас поблагодарит при встрече. Надеюсь, вы к нам зайдете?»
– Это потом, сначала вы ко мне. С Настенькой. Завтра.
– Завтра мы решили работать: она нам будет мешать. Как-нибудь в другой раз, ближе к весне, когда будет готова глиняная мама.
Он пытался вручить ей куклу, но она сказала, что возьмет ее завтра в мастерской, поскольку сейчас идет в редакцию. Он проводил ее до троллейбусной остановки, находясь в каком-то бесшабашном настроении. Он был рад случайной встрече и не скрывал своей радости.
– В смысле биотоков вы правы, – признавался Алексей Петрович. – Я совсем не собирался сегодня в «Детский мир» и даже не думал выходить из дома, занимался разными делами, приготовил каркас для завтрашней работы (он, конечно, лукавил: каркас был готов накануне. О том, что сегодня лепил для Настеньки пластилиновые фигурки, умолчал). И вдруг, представьте себе, какая-то неведомая сила подняла меня и позвала, не просто позвала, а потянула в «Детский мир».
– Нечистая сила, – рассмеялась Маша.
– Да что вы – чистая, самая пречистая, – весело возразил он.
– Слово-то какое – «пречистая». Так говорят о Деве Марии.
– Но вы и есть Мария.
– Хотя и не дева, – продолжала подшучивать Маша и, перейдя на серьезный тон, сказала: – А в самом деле – выйдя из прокуратуры, я подумала о вас, о завтрашней встрече. И не поверите – подумала, а вдруг сейчас вас встречу. Так мне хотелось. И мои биотоки дошли до вас, как радиоволны.
– Дошли и позвали. И я помчался на ваш зов. Значит, в вас есть какая-то притягательная сила. Я ее заметил еще при первой встрече на выставке в Манеже.
– Вы хотите сказать – колдунья?
– Не колдунья, а колдовство. Вы смеетесь. И напрасно. Вы обладаете неотразимым колдовством.
– Как прикажете это понимать, как комплимент или…?
– Как истину, Машенька, как святую истину, – тихо и проникновенно произнес он.
Подошел троллейбус. Иванов помог Маше подняться на ступеньку. Та же «пречистая» сила тянула и его в троллейбус, и он уж готов был подчиниться ей и проехать хотя бы несколько остановок, чтоб продолжать бесконечный разговор, в котором важны не слова и их смысл, а голос, тон, каким произносятся эти слова, дыхание, взгляд, выражение глаз. Но дверь захлопнулась, и он остался на тротуаре. Из троллейбуса Маша ласково помахала ему рукой, а он в ответ поднял куклу и еще долго смотрел в след уходящему троллейбусу.
Домой Алексей Петрович прилетел на крыльях. Уже несмутно догадывался, а отчетливо, со всей определенностью он понимал, что с ним что-то произошло, чему он и радовался и чего боялся. В нем пробудилось чувство такой всепоглощающей силы, о которой он и не подозревал. Это чувство вырвалось, как извержение вулкана, и расплескало такой огонь души, с которым даже при большом желании он не мог совладать. Это чувство всегда жило в нем в состоянии бдительной дремы, молчаливо зрело, копилось, ожидая своего часа. Именно своего. Даже пылкая ненасытная жена сексолога не могла его разбудить. Не откликнулось оно и на нежный стеснительный зов врача Тамары. Молчало, таилось в ожидании своего часа. И когда этот час пробил, оно не стало постепенно, сдержанно и плавно проявлять себя. Оно, подобно сверхзвуковой звезде, произвело душевный взрыв, осветив всю вселенную, в которой обитало всего лишь два человека – Маша Зорянкина и Алексей Иванов. Этого взрыва Иванов боялся, стеснялся и даже стыдился.
2
С любопытством, но сохраняя внешнее спокойствие, входила Маша на примитивное возвышение в мастерской Иванова, чтоб занять вертящееся кресло. Она даже пошутила:
– Иду, как на эшафот.
– Да что вы, Машенька, – ласково возразил Алексей Петрович. – Не на эшафот, а на трон восходит ваше величество.
Иванов был чрезмерно весел, слегка возбужден и даже суетлив. Его лицо, которое он всегда содержал в порядке, а в этот день тем более выражало решимость и блаженство. Во время сеанса Иванов разрешал «модели» разговаривать, чего, как правило, не позволяют живописцы. Он знал, что Маша позирует впервые в жизни, поэтому старался разговором заставить ее быть естественной.
– Вы не напрягайтесь, не позируйте, держите себя свободно, думайте о чем-нибудь хорошем, мечтайте. Как мы уже договорились, вы – царица и восседаете на троне. Так царствуйте, думайте о ваших подданных, об их счастье и благополучии, о могуществе и процветании державы. И будьте бдительны – остерегайтесь политических демагогов и авантюристов, чтобы, не дай Бог, не появились в вашем государстве горбачевы и ельцины, шеварднадзе и яковлевы. Гоните их в шею, а еще лучше – на плаху вкупе с разными рыжими крысами, облаченными в поповские рясы.
– Что вы так немилосердны к духовным лицам, Алексей Петрович? Не забывайте, что газета, которую я имею честь представлять, относится с глубокой симпатией к православной церкви, – произнесла осторожно Маша, стараясь не «потерять» позу.
– Я тоже отношусь с глубокой симпатией к религии вообще и к нашей православной церкви в частности. В данном случае я имел в виду конкретный персонаж, не личность, а безличностный персонаж, который компрометирует священнослужителей.
– Не думаю, – возразила Маша. – Он скорее компрометирует своих друзей-демократов.
– Демократы уже давно сами себя скомпрометировали, – сказал Иванов, прищурив глаза и внимательно всматриваясь в лицо Маши. Разговаривая, он продолжал ваять быстро, с упоением. – Слово «демократ» уже стало ругательным. Вы знаете, в народе его уже подправили на «дерьмократ».
Маша старалась молчать и предпочитала слушать его и наблюдать за ним. Ей нравилось, как внимательно всматривается он в нее, бросая быстрые короткие взгляды на пока еще бесформенный ком глины, нанизанный на проволочный каркас. Теперь она имела возможность в силу необходимости смотреть на Иванова без смущения в упор, в его восторженные глаза, излучающие свет вдохновения, в его не старое лицо, наблюдать за уверенными движениями проворных рук, за сосредоточенным взглядом, которым он дольше задерживался на глине, чем на ней. Она видела, как на ее глазах бесформенный ком превращается в нечто похожее на голову, уже наметились уши, узел волос на затылке, ее длинная шея. Лица она не могла видеть, о чем, конечно, сожалела. Ей очень хотелось, чтоб портрет получился удачным, не хуже, а лучше портрета Ларисы Матвеевны, названный «Первой любовью». «Интересно, как он назовет этот», – подумала она и почему-то вспомнила незаконченные «Девичьи грезы» и намек Иванова о ее руках. И не раздумывая, решила: «Ну что ж: пусть лепит мои руки к той незаконченной композиции, пусть. – И немного погодя согласилась и дальше: – Пусть и лицо мое возьмет, если ему будет угодно. Я не возражаю. Это даже интересно. Только как это совместится с чужой фигурой, не получится ли несовместимость? А собственно, почему должна появиться дисгармония: у меня фигура не хуже, а, пожалуй, лучше, чем у той жены сексолога». Подумала так и вдруг спохватилась, резко отбросила такую крамольную мысль: «К чему это я? Позировать обнаженной? Перед ним? Перед человеком благородным, светлым?» Она устыдилась такой мысли, посчитала ее непристойной, кощунственной.
Алексей Петрович вертел кресло, в котором сидела Маша, всматривался в ее профиль, вертел то в одну, то в другую сторону, сосредоточенный взгляд его то на мгновение хмурился, досадовал, то радужно светлел, поощрительно одаряя ее своей веселой пленительной улыбкой. Ей показалось, что он чем-то недоволен, даже удручен, и тогда она несмело, нерешительно спросила:
– Может, я не так… (она хотела сказать «позирую», но запнулась).
– Все так, даже очень так, – успокоил ее Иванов и дружески улыбнулся, продолжая колдовать с податливой глиной. После короткой паузы сказал: – А характер у вас – дай Бог. Твердый орешек. Ускользает, противится. Только мы его поймаем и раскусим.
В его словах Маша не ощутила осуждения, но все же спросила:
– Трудный характер? Так, может, не стоит вам мучиться?
– А вы слышали такую фразу: «Муки творчества?» – И, не ожидая ответа, продолжал: – Это самое прекрасное состояние души, как любовь.
«Муки любви», – мысленно произнесла Маша, но вслух не решилась произнести эти слова. И была поражена, услыхав от него:
– Муки любви и муки творчества имеют много общего. Вы не согласны? – Он явно вызывал ее на разговор, от которого она попыталась отклониться.
– Мне трудно сравнивать, поскольку не приходилось творить. «Да он читает мои мысли – муки любви».
– А ваши статьи – разве это не творчество?
– Это ремесло, как и то, что делает сапожник.
Он не ответил. Лицо его приняло серьезный, озабоченный вид, резче, отчетливей обозначились две глубокие морщины на лбу, движения пальцев стали плавными, осторожными, взгляд, который он бросал на Машу, продолжительным, углубленным. Он творил, колдовал, теперь уже молча, самозабвенно. Выражение лица его поминутно менялось, переходя из одного состояния в другое. С любопытством и очарованием наблюдала Маша за этими вспышками, мысленно повторяя: «Муки творчества – муки любви. У него молодая, юная душа и нежное любящее сердце. Муки любви для него, очевидно, позади. А муки творчества он сохранит до конца своих дней. Что он знает о моем характере? Говорит – орешек и обещает раскусить. А может, помочь ему? Чтоб не сломал зубы. С ним легко и уютно. Можно говорить без конца». – Так вразброд громоздились ее несвязанные мысли.
– Антракт, – спугнул их звонкий приподнятый голос Иванова. – Отдохните. Мы работаем уже час, – он протянул ей руку, чтоб помочь сойти с помоста. – Не устали?
– Нисколько, – бодро отмахнулась она, устремив взгляд на то, над чем он колдовал, спросила со свойственной ей деликатностью: – Можно посмотреть?
– Пожалуйста. Только не огорчайтесь: пока это нашлепок, первый шаг. – Она не огорчилась. Напротив:
«Как интересно, – с умилением думала Маша, стоя рядом со своей копией, запечатленной в свежей глине. Копия, впрочем, была еще не точной, но главные черты, не характера, а внешние – овал головы, пробор волос на обе стороны, тонкий нос, разлет бровей, маленький чувственный рот, рука с длинными тонкими пальцами, слегка придерживающая платок, спадающий с высоких плеч, – все было эскизно, вчерне, намечено, точно схвачено цепким глазом. – Это я, все мое. Может, на этом и остановиться?» Ей было приятно. А Иванов стоял рядом и с обычным авторским волнением ожидал ее слов. Она одарила его ясным, довольным взглядом и сказала с легким смущением:
– Вы мне польстили… – В ее словах не было кокетства, она так думала.
– Чем? – насторожился он.
– Вы сделали меня моложе, чем на самом деле.
– Возможно… чуть-чуть. И знаете почему? Потому что сегодня вы и в самом деле выглядите моложе, чем вчера, когда мы встретились у «Детского мира».
– Вчера я была у следователя, а там, как правило, приятного не услышишь.
Маша прочитала в его глазах тревогу и пояснила:
– По служебным делам. Не забывайте, что я криминальный репортер. Занималась одним банальным для нашего времени делом: похищение кооператора с целью выкупа, убийство.
– И его поймали? Убийцу?
– Подручного взяли, осудили. А главный где-то в бегах. – Почувствовав интерес к этому делу Иванова, Маша вкратце рассказала сюжет. Когда закончила, он спросил:
– Силанов в бегах, а главарь Сазон – он осужден?
– К сожалению, нет. Главари чаще всего выходят сухими из воды. Особенно во времена смуты и хаоса. Из своих наблюдений я пришла к заключению, что с преступностью всерьез не борются. И делается это преднамеренно – вот что страшно.
– Выходит, кому-то это выгодно – разгул преступности? – сказал Иванов.
– Естественно. И не кому-то, а совершенно определенно – властям. Я считаю, что «оккупационный режим», как называют некоторые газеты нынешнюю власть, держится на трех китах: на желтой прессе, на мафиозных структурах зародившегося класса буржуазии и на уголовных элементах, тесно связанных с той же буржуазией. Уберите одного из этих китов, и режим Ельцина падет. А убрать трудно, потому что они преступники и повязаны одной веревочкой. Потому у нас правозащитные органы беспомощны, бессильны. Помните, сколько было шуму, связанного с Чурбановым, коррупцией. Авантюрный Гдлян на этом сделал себе карьеру, в народные депутаты пролез.
– Да только ли Гдлян? – вклинился Иванов. – А предатель Калугин – генерал от КГБ? Они не сами пролезали в депутаты – их туда вводили, как говорит мой друг Дмитрий Михеевич. Потому и торпедировались законы об усилении борьбы с преступностью.
– Совершенно верно, – согласилась Маша. – Вы, возможно, и не знаете – в свое время Горбачев поручил борьбу с преступностью своему любимому шефу Яковлеву. То есть пустил козла в огород.
– Такого ж козла тот же Горбачев пустил в другой огород – назначив руководить разведкой еще одного своего друга, – опять вставил Алексей Петрович. – Примакова. Кстати – это не фамилия, а псевдоним.
– Г-мм. Да я вижу, вы человек информированный в делах политики, – приятно удивилась Маша.
– У меня есть авторитетный политконсультант – генерал Якубенко Дмитрий Михеевич. Он человек крайний, прямолинейный, но честный.
– Так вот, Яковлев, который Александр Николаевич, – продолжала Маша, прерванную мысль, – есть еще Яковлев Егор. Впрочем, это два сапога – пара. Яковлеву было наплевать на преступность, он ей и не занимался. Он курировал главным китом – прессой, телевидением. Дирижировал. Прессу называют четверной властью. У нас же она первая власть. Ей принадлежит пальма первенства, в том хаосе, в котором оказалась страна. Она перевернула мозги у людей, лишила их воли, чести, человеческого достоинства и просто рассудка. Посредством прессы, радио и телевидения ловкие скульпторы лепят из людей солдатиков, которые им нужны. Ленин лепил революционеров, которым приказал Россию разрушить до основания. И разрушили, начиная с храмов. До основания. Потом Сталин лепил идейных энтузиастов – строителей светлого будущего.
– Извините, – перебил Алексей Петрович. – Я один из тех энтузиастов. Идейных, и верил в светлое будущее. Понимаете – была вера, была радость в энтузиазме. Среди нас не было подонков, пляшущих на могилах своих отцов, убивающих за пачку сигарет стариков, растлевающих и насилующих в подворотнях и подвалах. Не было! Мы не продавали Отечество за импортные джинсы. Мы гордились своей державой. А вот кто, какой скульптор лепил нынешних? Кто?
– Думаю, что и Хрущев, и Брежнев приложили руку. Вернее, их окруженцы. Они и горбачевых, и ельциных лепили. Ну а те в свою очередь уже законченных негодяев воспитывали.
– И воспитывают, по сей день воспитывают, – гневно воскликнул Иванов. – Воспитывают нравственных дегенератов, не помнящих родства. Да, мы часто недоедали, недосыпали, не щеголяли тряпками. Но мы умели ценить подлинно прекрасное в музыке, в литературе, в живописи. Мы умели любить нежно, целомудренно. Для нас любовь была свята. А для нынешних она просто секс. Мы не опускались до зверей и животных. Фактически не веря в Бога, не зная Евангелия, мы жили по закону Божьему, изложенному устами апостолов. А что нынешние знают, кроме рока? Что знают о нашей жизни? Только то, что вдолбили в их голову нынешние геббельсы. Между прочим, Гитлер и Геббельс тоже вылепили духовных убийц, которые жгли наши города и села, вешали стариков и подростков, насиловали женщин. А теперь ответьте мне, любезная Мария Сергеевна, в чем разница между Гитлером и Геббельсом, с одной стороны, и Горбачевым и Яковлевым – с другой?
– Да, видно, у вас хороший политконсультант, – ответила Маша.
– А у меня и консультант по вопросам церкви – епископ Хрисанф. По некоторым вопросам их позиции резко расходятся. Я же между ними, как арбитраж: с чем-то согласен, с чем-то не согласен, что-то беру от одного, что-то от другого.
– Выходит, вы – центрист? – улыбнулась Маша.
– Ну, если хотите… Но с вами, я полагаю, у меня нет серьезных разногласий.
– У нас есть не разногласия, а собственные мнения, – миролюбиво сказала Маша. – Например, о роли Ленина и Сталина. Но, думаю, мы не станем из-за них ссориться.
– Ни в коем случае. Я ведь не ленинец и не сталинист и даже не коммунист. И никогда ни из Ленина, ни из Сталина не делал икон. Я, может, один из немногих скульпторов, который никогда не делал их портретов. Но я знаю, и это мои убеждения, что оба они незаурядные исторические личности. Именно личности. И у каждого из них были свои достоинства и недостатки.
– Недостатки или преступления? – уколола Маша.
– И преступления, и заслуги. Большие заслуги. Но, чур меня: не будем спорить. Наш антракт затянулся, давайте за работу. Еще часок? Не устанете?
– Можно и два. По-моему, с вами нельзя устать. Только обидно, что мой характер доставляет вам мучения. Вот не думала, что я – «твердый орешек».
– Мучения? – весело удивился Алексей Петрович. – Наслаждение. Только наслаждение. Я люблю работать с твердым материалом. Вылепить пустое ничтожество проще простого. Вон Вучетич Буденного лепил: там на лице, кроме усов, гладкая степь, ни одной искорки. А Вучетич умел показать и глупость, прикрытую усами или орденами. Он был великий мастер не только монумента, но и портрета.
Маша легко и радостно заняла свой «трон». Она чувствовала себя свободно, раскованно, словно она давным-давно знакома и дружна с Ивановым и его обителью (так она мысленно нарекла мастерскую Алексея Петровича). Здесь для нее все было ново, интересно и привлекательно. Это был мир возвышенного и прекрасного, к чему с детских лет стремилась ее душа, и мир этот создал стоящий перед ней человек, пронзающий ее насквозь огненным проницательным взглядом, в котором рядом с глубокой мыслью сверкали любовь и мечта. Этот человек излучал тепло и ласку, с ним было легко и уютно, как с другом, которому доверяешь сокровенное и веришь во взаимность, перед кем настежь раскрываешь душу и чувствуешь пульс его незащищенного и легко ранимого сердца. Она, пожалуй, с самой первой встречи почувствовала в нем друга, перед которым разница в возрасте исчезает. Она догадывалась, что он к ней неравнодушен, читала его мысли, которых он никогда не решится высказать вслух из-за большой разницы в годах, – перешагнуть этот барьер не позволит ему деликатность и совестливость. Во всяком случае, он не сделает первого шага, будет терзаться и питать себя надеждой, что этот шаг сделает другая сторона.
Так думала Маша, в упор наблюдая за Алексеем Петровичем.
Иванов не старался показать себя Маше лучшим, чем он есть на самом деле: он держался естественно и непринужденно, как держался с епископом и генералом или с Тамарой и Инной. Так думал он. Но со стороны все виделось по-иному. Он был очарован Машей. Что именно очаровало его, он не мог сказать. Очарование вспыхнуло в нем вдруг, неожиданно и неотвратно, как ураган, и смутило его самого. Он стеснялся этого святого чувства, праздника души, будучи человеком застенчивым и совестливым. Чуткое сердце и проницательный ум Маши разгадали его состояние, которое он всеми силами хотел скрыть. И чем больше он старался утаить, тем явственней выдавал себя излишней суетливостью, лаской и нежностью, которые звучали в его словах и голосе, светились в глазах. Он не умел делать комплименты и говорил чистосердечно все, что думал. Сердцем он восхищался Машей, а разумом, хотя и смутно, понимал, что есть две Маши Зорянкиных: одна такая, какой хочет видеть и видит ее он, а другая та, какой видят ее все остальные. Знал он и то, что у нее есть свои слабости и недостатки (а у кого их нет?), и верил, что это совсем не недостатки, а даже достоинства, потому что она самая прекрасная в этом мире женщина. И очень важно, что они единомышленники. Она сказала, что есть разные точки зрения, а не расхождения, но это не столь важно, это даже интересно, есть о чем подискутировать и прийти в конце концов к истине. И не надо откладывать «на потом», когда можно сделать сегодня же после окончания сеанса за чаем. Так он решил.
После перерыва они работали полтора часа. Подстрекаемая любопытством, Маша легко соскочила со своего «трона» и ахнула от удивления и радости, как много и успешно наколдовал Алексей Петрович за последние полтора часа. Перед ней было ее отражение, не застывшее в глине, а словно бы живое, дышащее, одухотворенное, в котором поражали прежде всего глаза, исторгающие любовь и мечту. Маша не находила слов, чтоб выразить свою благодарность ваятелю. Она смотрела на Алексея Петровича восхищенно, по лицу ее разлился радостный румянец, а уста молчали.
– Еще один сеанс – и все будет в порядке, – сказал Иванов, критически глядя на свое творение.
– Как? – удивленно воскликнула Маша. – А разве здесь не все в порядке?
– Надо поработать. Чуть-чуть. Мы недолго – часок-полтора без перерыва. Но это в другой раз. А сейчас будем чаевничать.
Он был доволен своей работой и без лишней скромности считал портрет Маши своей большой творческой удачей. Он даже удивлялся, как быстро ему удалось раскусить «твердый орешек», потому что это был первый случай в его творческой практике, когда всего за два с половиной часа он сумел создать почти законченный портрет. Для него это был своего рода рекорд.
Чай пили в гостиной, и оба не удивились, что как-то незаметно начали продолжать прерванный во время перерыва разговор.
– Давайте уточним наши разногласия, – первым начал Иванов. Он хотел единомыслия с Машей. – А может, между нами и нет никаких разногласий. Епископ Хрисанф и генерал Якубенко решительно расходятся в вопросе о революции семнадцатого года. А мы с вами?
– Мы, то есть наша газета называет это октябрьским переворотом, – уколола Маша довольно дружелюбно.
– Ну вы, конечно, говорили, что ваша газета монархическая, религиозная, антисоветская.
– Отчасти. А вообще главная у нас линия – патриотизм и русская идея… Разве вы не согласны, что октябрьский переворот совершили масоны, ядро которых составляли евреи? Наша редакция получила интересный материал: имена и фамилии пассажиров, ехавших из Швейцарии через Германию во время мировой войны в Россию совершать революцию с Лениным во главе. Всего сто восемьдесят девять человек. Из них русских только девять. Остальные – евреи. Вожди революции. Там и Зиновьев (Апфельбаум), и Сокольников (Бриллиант), и Войков (Вайнер), и Мартов (Цедербаум), и Рязанов (Гольденбах) и целый легион таких же «пламенных революционеров» – вершителей судьбы России. Возглавлял масонскую ложу Троцкий (Бронштейн).
– Вы, несомненно, правы в том, что во главе революции стояли главным образом евреи, – как бы мягко соглашаясь, проговорил Иванов. – Но ведь народ пошел за коммунистами, поддержал революцию. А почему? Потому, что жил русский народ – рабочие, крестьяне – в нищете, в бескультурье. Это я знаю из жизни своих односельчан, из рассказов стариков. А вы можете поверить – я носил лапти.
– Но вы родились уже в советское время.
– Да, но не коммунисты повинны в том, что мужик был темен, нищ, полуголоден. Коммунисты пообещали ему земной рай, он и пошел за ними. Пошла беднота. Справный крестьянин, а таких было немало, противился. Особенно когда его силком в колхоз загоняли. Вроде того, как нынешняя власть насильно загоняет народ в рынок. Обманывали и тогда, обманывают и теперь. Погрязли во лжи по самые уши. Вот теперешняя желтая пресса, или сионистская, как ее называет мой генерал, на все лады расписывает, как хорошо жилось в России до революции и как плохо в советское время. А я думаю, что хуже чем сегодня в России никогда не было. Хотя много всякого лиха пережил наш народ – и ордынское иго, и шведских рыцарей, и смутное время Лжедмитрия. Нашествие Наполеона и Гитлера. Все было: кровь, слезы, пожары и другие ужасы. Но оставалось государство, держава оставалась, ее фундамент не разрушался. А нынешние перестройщики разрушили фундамент.
– А мне кажется, фундамент еще цел и не потеряна последняя надежда, – сказала Маша. – Хотя то, что происходит с нашей страной сейчас, похоже на кошмар, на жуткий сон, где все лишено логики и смысла, поставлено с ног на голову. И самое страшное, что народ – хотя это уже не народ, а сборище безвольных, лишенных разума человечиков – позволяет безропотно собой манипулировать.
– А кто его лишил разума? – быстро отозвался Иванов. – Вы, пресса. Телевидение. Радио. Впрочем, извините – вашей газеты это не касается. Но сколько их, патриотических газет? Раз, два и обчелся. А тех, сеющих ложь, дурман, разврат, – их сотни, если не тысячи. Мой генерал утверждает, что вся желтая пресса находится на содержании Запада или фонда Горбачева, хотя это одно и то же.
Маша молчала, погрузившись в невеселые думы. Взгляд ее, устремленный в пространство, казался отсутствующим, и сама она была какой-то другой, печально сосредоточенной, напряженной, сжатой, как пружина. Иванов, с восхищением глядя на нее, как бы зримо, осязаемо ощущал углубленную работу ее мысли и ни словом, ни жестом не смел потревожить ее. Наконец Маша, как бы очнувшись, подняла на него взгляд, улыбка смущения только на миг сверкнула в ее грустных глазах, отчего суровое лицо ее сразу потеплело, оттаяло. Устремив на Иванова тихий печальный взгляд, она медленно, словно продолжая свои тяжелые думы, проговорила:
– Вы сказали, что разрушен фундамент. Какой фундамент вы имели в виду? Социализма? – Последнее слово она произнесла с подчеркнутой иронией.
– Совсем нет. Я имел в виду духовную, нравственную основу. Разного рода наполеоны, гитлеры для нашего народа были внешними врагами, интервентами. Против них поднимался весь духовный, патриотический потенциал народа, и была это главная сила, которую не сумели одолеть чужеземцы. Обратите внимание: ни Наполеон, ни даже Гитлер не имели «пятой колонны», которая бы вонзила нож в спину России. Их наследники это учли и все предусмотрели. Они заранее, на протяжении многих лет создавали в нашей стране «пятую колонну», ядро которой составляли сионисты, а попросту евреи. – Он вдруг поймал себя на мысли, что повторяет слова генерала Якубенко. – И начала она действовать с подрыва фундамента, духовного растления не одного, а многих поколений. Начали с изоискусства: абстракционисты, авангардисты; проповедь уродства, безобразия. Потом в музыке: там уже пошла откровенная бесовщина – поп, рок и тому подобная мерзость. Все это денно и нощно заполняло эфир и телеэкраны. Шло массовое духовное растление, запрограммированное, организованное, поощряемое отечественными и западными «авторитетами». Они наступали нагло, цинично, без опаски, пользуясь поддержкой и покровительством самых высоких властей – Хрущева, Брежнева. Когда под фундамент заложили достаточно тола, когда внедрили в сознание людей бациллы духовного СПИДа, тогда и произвели тот взрыв, который назвали «перестройкой».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































