Текст книги "Вверх по течению Стикса. Книга погружения"
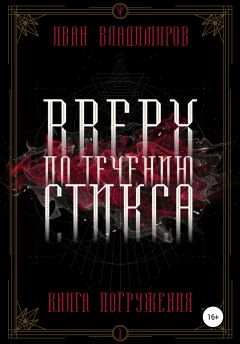
Автор книги: Иван Владимиров
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
В вагонном проходе появился человек. По виду из той исчезнувшей торгово-железнодорожной касты людей, что в мужской ипостаси продавали сканворды и лающих собачек, а в женской – пуховые платки. Он плавно приближался ко мне, точно не шел, а плыл на прозрачном плоту. На плече у него была сумка, довольно тяжелая с виду. Поравнявшись с моим отсеком, человек сбросил сумку и сел напротив.
Самым странным было в нем то, что ничего нельзя было сказать о его внешности. То есть совершенно точно у него было лицо, но его черты не подчинялись моей памяти, распадаясь на полпути к ней. Я как будто успевал забыть их прежде, чем они достигали моего сознания. Единственное, что мне удалось уловить – это посланная улыбка. Движения губ я не видел, но внутри меня возник эмоциональный отклик именно такой амплитуды, как если бы мне искренне улыбнулись.
Человек расстегнул сумку и принялся раскладывать ее содержимое на столе. Оказалось, что он нес игрушки. Ими очень скоро был уставлен весь стол. Машина, пистолет, неестественно живая барби с влажными глазами, детские карты, детское лото, набор юного доктора, резиновая уточка, восьмицветная ручка и даже солдатик – по виду тот самый, утерянный мной. Не помню как, но я понял, что мне нужно выбрать одну игрушку. Выбор должен был идти от сердца, «куда рука сама потянется», как говорили мне в детстве. Я почти схватил солдатика, но вдруг рука передумала и, словно нащупав настоящие нити наития, потянулась в иную сторону. Пальцы опустились на сетку, внутри которой лежала детская пирамидка – маковка, стержень, колечки. Она не будила во мне никаких воспоминаний, но было в ней что-то подсознательно притягательное для меня. Небольшая странность – игрушка была разобрана, хотя была новой (упаковочная сетка была целой, верх ее перехватывал нетронутый зажим). Я погладил ее. Игрушка ответила мне теплом. Она была похожа на птицу в клетке, точнее, в силках, глупых непрочных силках, из которых, тем не менее, она не могла сама выбраться. Для этого нужно было собрать ее, и вот тогда… Что будет тогда, я затруднялся ответить, но я чувствовал, что нужно собрать эту пирамидку, что в ней заключен весь смысл нашей тесной вселенной с ее разъезжающимися вкривь и вкось мирами. Откуда у меня возникла такая мысль, я не понял, но мне показалось, что ее может разъяснить человек, сидящий напротив. Я посмотрел на него, но он лишь одобрительно кивнул моему выбору, одним движением руки ссыпал, словно крошки, то, что осталось на столе, обратно в сумку, накинул ее и направился к выходу. Я попытался его догнать. Но сколько ни прикладывал я усилий, человек удалялся, плавно скользя сквозь расступающуюся тишину. Вагон словно растягивался в телескопический тоннель, колено за коленом следуя за ним, пока не стал тонкой трубкой, послушно перегоняющей незнакомца, словно шарик ртути. Трубку начало мотать, а я все пытался пролезть сквозь ее игольное ушко. Мне как-то удалось доползти до тамбура, который теперь растянулся и был наполнен злым металлическим гудением. Стальная дрожь колотила вагон все сильнее, ручка следующей двери нервно тряслась. Я дернул ее – и меня сбило с ног звуковой волной, впечатав в стену. В следующую секунду, долгую, как ожидание казни, я услышал низкий трубный звук и многоголосый скрежет.
Поезд выгнулся на дыбы, словно от удара, и удавом обжал меня. Металл свихнуло в огромный клубок со мной в сердцевине. Я почувствовал, как потяжелел на целую вселенную, которая тут же начала меня со свистом утягивать куда-то вглубь. Где-то вдалеке ударил колокол, но звон его был странный, как если бы он был сделан из длинного ноя воздушной тревоги. Звук был страшно растянут: сначала по мне словно прошлось предчувствие этого удара, затем нарастающей волной накатился сам звук, от которого мне стало тесно в себе самом – и в следующий миг меня придавила к земле свинцовая нота. Стало тихо, но я чувствовал, как в этой тишине копится новый звук, словно молния в туче. Разряд. Еще разряд. Мне будто вколачивали душу обратно в грудь огромным молотом. Я наливался болью и тяжестью, с каждым толчком отнимавшими у меня свет или подменявшими его на что-то другое – скорее всего, просто на самих себя.
Когда свет окончательно померк, меня на какое-то время просто не стало.
*
Возвращение в себя было долгим и мучительным. Я ненадолго приходил в сознание (уместнее было бы сказать – приползал), а затем вновь отключался. Забытье походило на шум моря, сквозь который я пытался уловить знакомую мелодию жизни, но каждая новая волна беспамятства смывала нотные знаки, которые я успевал написать на песке. Иногда я чувствовал легкий зуд в голове – команда пыталась помочь мне импульсами по нейросети, и со временем это подействовало. Я открыл глаза и тут же зажмурился от резкого, какого-то химического света. К нему пришлось привыкнуть. Вроде бы наша операционная осталась прежней, но ее белоснежность теперь приобрела для меня какой-то едкий оттенок. Ко всему прочему, мне никак не удавалось вернуть четкость зрения – картинка плыла и двоилась, и это раздражало. Мне вообще было очень неуютно, я чувствовал себя человеком, вытащенным из-подо льда, беспомощно лежащим теперь в мокрой тяжелой одежде на холодном снегу с головой, разбитой о полынью.
Так прошло, наверное, около часа, и лишь спустя это время я смог почувствовать себя чуть более комфортно.
По телу мягко растекалось тепло. Вскоре к нему добавилась тонкая вибрация мышц – костюм включил функцию электромассажа. В меня словно вливали веселую пузырящуюся плазму, и я чувствовал себя счастливой лягушкой, вымерзающей весной изо льда, или космонавтом, после посадки заново вспоминающим свое земное происхождение.
Через четыре часа я уже чувствовал себя вполне сносно. Вся команда обступила операционный подиум, и я был настолько рад видеть эти лица, что едва не заплакал. Тимур, анестезиолог, улыбнулся и извлек невесть откуда бутылку шампанского, которая без промедления разошлась по стаканчикам коллег. Я видел, насколько они были измождены, но несмотря на это были страшно рады поднять бокалы. Отметить действительно было что – хотя бы моё возвращение. Но не только оно было причиной радости.
Если верить религиям и мифам, некронавты, успешно вернувшиеся из космоса смерти, были и до меня. Но я был первым среди них, кто вынес оттуда целый массив данных, объем которых должен был стать базой научных исследований на долгое время вперед. У нас все получилось, и это было настолько же чудесно, насколько и важно. Мы заранее заготовили модели анализа, и нам не терпелось приступить к изучению моего путешествия. Кстати, оно было не таким уж и долгим – всего семь земных минут, но трудно было представить, каково было их значение для меня, для нас, для всего мира. В то же время я очень надеялся, что эти семь минут прошли без каких-либо серьёзных последствий для моего здоровья.
Да, не все прошло так, как планировалось. Оказалось, что гормональные выбросы при таких экстремальных переживаниях не позволяют сознанию оставаться безучастным наблюдателем. Ум мечется словно живая искра по задыхающемуся мозгу, освещая и анимируя на своем пути сонмы образов. Не имея контакта с реальностью, он создает ее в качестве опоры заново из подручных материалов. Можно было бы сказать, что я посмотрел самый дорогой сон в истории человечества, но только это был не вполне сон. По характеру волн и участкам активности мозга то, что я пережил и увидел, было близко не к обычному сну, а к осознанному сновидению, lucid dream, но не вполне было и им. Кажется, мы открыли некое новое состояние сознания. Кто-то из ребят в шутку назвал его «управляемой шизофренией» – так мы и называли его затем внутри группы.
Дело в том, что энергия психики в момент переживания смерти теряет привычные русла и бьет напролом, как горный поток, который и повинуется случайностям встреченного рельефа, и преображает его. От обычной шизофрении этот поток отличает две вещи. Первое – он не растворяет нормы, человек отдает отчет в нетипичности происходящего. Второе – он не конфликтует с реальностью, так как реальность выводится за скобки этого переживания.
Все это мы открыли позже, а пока моя команда тихо радовалась моему возвращению. Такие отклонения можно было бы поправить при повторном эксперименте, но мы надеялись, что с тем объемом данных, который оказался у нас на руках, в нем долго не будет необходимости.
Вскоре оказалось, что мы просчитались.
*
Уже к концу первой недели стало понятно, в чем мы фундаментально ошиблись. У нас был огромный массив информации, но сам по себе он мало что значил. Ничего нового, что не было известно о стадиях умирания прежде, в них не было. Конечно, там хватило бы материала на несколько научных статей о динамике мозга, да и сам наш эксперимент был бы сенсацией в научпопе. Но иного выхлопа, кроме разогрева интереса к теме, которая волновала нас больше всего, это не давало. Все приборы давали показания о том, что здесь. Мы не смогли самое главное – ответить на вопрос, что там?
Мои видения были восстановлены на нескольких сеансах машинного гипноза. Но выяснилось, что время внутри видений было иным, и доподлинно сказать, как они соотносятся со своим синхроном на энцефалограммах, было нельзя. У нас было много догадок, обоснованность которых почти не вызывала сомнений, но это были всего лишь гипотезы – ровно такие же, что делались и до нас людьми, не обладающими ни сверхсовременным оборудованием, ни многомиллионными бюджетами, ни огромными вычислительными мощностями.
«В космос летал, бога не видел» – эту апокрифичную фразу приписывают первому космонавту. Гигантский аппарат пропаганды такого уже далекого советского режима неимоверными усилиями построил машину из боевых сплавов и человеческих жил, начинил ее своим гражданином и запустил в небо. Человек вернулся на землю и авторитетно заявил, что на небе бога нет. И это была безоговорочная победа государства с культом агрессивного атеизма, продлившая его жизнь на несколько десятков лет. Ценность этих слов стоила затраченных усилий.
Что же касается нас… Наш некронавт (здесь рука не желает писать о себе в первом лице), запущенный во внутренний космос – также, по сути, в поисках бога, – потерял сознание во время перегрузок и по прибытии обратно лишь разводил руками перед разочарованной общественностью. Возможно, я сейчас излишне жесток к себе, но по факту все обстояло именно так.
Нам нужно было изобрести что-то еще для четкого рапорта с того света.
И мы приступили к подготовке второго сеанса смерти.
*
Вещь тяжелее слова. Слово тяжелее мысли.
Тонкий луч падает в крошечное отверстие праматери всех фотоустройств – камеры-обскуры – и, рассеиваясь, немеет полуразмытой картинкой на ее противоположной стене. Что-то похожее – пусть сначала нечеткое и трудноразборчивое, но подлинно существующее – пытались получить и мы, обступив маленькую дырочку, проделанную в непробиваемой стене, за которой была вселенная смерти.
По сути, у нас было всего две проблемы.
Во-первых, то, что было за стеной, не испускало света. По ту сторону фокуса была черная непроглядная бездна, и если что-то и проникало в нашу камеру, напичканную сложнейшим оборудованием, то это был лишь луч тьмы. Ее разглядывание было равносильно поискам пролетающего астероида в космосе, лишенном всех звезд, мрак которого абсолютен. Нужен был спутник, зонд, сигнальная ракета – все что угодно, способное осветить тьму по ту сторону нашего мира.
И здесь возникала другая проблема: мы не могли ничего запустить в этот космос в силу его природы. Смерть, как ни странно, вневещественна – в том смысле, что ее нет в мире вещей или для нее нет этого мира. Люди сделаны из звезд и дыхания друг друга – все элементы, из которых состоит человек, когда-то были частью нашего солнца, а воздух, который прямо сейчас наполняет наши легкие, уже был вдохнут миллионами других людей. Материя лишь бежит сквозь время по этим непрочным бугоркам и петлям, которые мы называем вещами и людьми, собираясь и растворяясь вновь и вновь. Смерть – это зафиксированный наблюдателем факт распада формы, вот почему смерти нет в мире вещей. Она – часть мира идей, проявляющаяся в словах. Точнее, в антисловах, словах особого рода – в ежесекундных криках безмолвия, беззвучной канонаде распада, неразличимом треске рвущейся ткани бытия. И человек, как говорящее и внемлящее вещество, имеет особый статус во взаимоотношениях со смертью. Человек – это материя, вдруг задумавшаяся о своем распаде. Мы слышим шепот разложения в себе и в мире как слова на незнакомом языке: нам неясны отдельные значения, но в целом понятно, о чем идет речь. И нашей команде предстояло перевести ее на понятный язык.
*
Чернота и неосязаемость смерти были препятствием для приборов. «Чернота» и «неосязаемость» были словами, которыми сознание беспрепятственно описывало смерть. Нам нужно было расширить этот словарь: посадить сознание на кончик провода и заставить течь по нему четкие разряды слов. Именно слов, потому что только ими можно было оперировать на том этапе эксперимента, к которому мы готовились.
Наш план состоял, собственно, в следующем.
Мы хотели научить операционный компьютер понимать (и принимать) слова, которые я должен буду нашептывать ему с той стороны смерти. Для этого требовалось обучить его языку – не абстрактному, а персонально моему: нескольким тысячам слов, закодированным в нейронных связях моего мозга. Конечно, первоначально мы хотели получить нечто вроде видеофиксации загробного мира, но это оказалось невозможным – по крайней мере, на том уровне развития, которого мы достигли. Дело в том, что, теоретически, полученное изображение смерти на уровне технологий оставалось бы тем же самым словом, а не образом. Все равно оно было бы итогом интерпретаций полученного из мозга сигнала. Другими словами, картинка была бы не документальным фильмом, снятым на кинопленку, а компьютерной псевдографикой, клиширующей видеоряд на основе алгоритма. Образы, которые мы видим у себя в голове, это многомерная сумма более простых связей, к которым примешаны эмоциональная окраска и личные ассоциации. Без искажений восстановить этот паззл в искусственной среде было бы неимоверно сложно. Слово тоже многомерный объект сознания, но не столь запутанный. Оно, словно архиватор, сжимает информацию в общие смысловые кластеры, которые уже можно было протащить сюда по проводам и дешифровать в нейросети. Требовалось лишь тщательно разобрать и зафиксировать мой тезаурус.
Мы начали с простейших единиц смысла, элементарных частиц: «я», «не-я», «один», «много», «свет», «тьма», «белое», «черное», «цветное», «звук», «покой», «боль», «страх», «близко», «далеко», «точка», «линия», «пространство», «пустота», «встреча» – и прочих кирпичиков лексикона, которые удобно было положить в фундамент. Дальнейшее освоение языка было похоже на разгадывание кроссворда-судоку: каждое новое знание возникало из пересечения нескольких старых. Мы работали как муравьи, по крупицам возводя громадный храм речи, в котором должно было явить себя потустороннее нечто. Но еще больше, кажется, наша работа напоминала практики авангардистов ХХ века, раскладывавших окружающий мир на простые формы, чтобы пересобрать его заново. Правда, в отличие от них, нас больше интересовал результат, а не процесс. Нам было предельно важно, чтобы процесс де– и реконструкции речи был как можно точнее: не путал порядок сборки и не оставлял после себя лишних деталей.
С каждым днем обучения нейросеть все более умело собирала сложные понятия, словосочетания, фразы. Первоначальные примитивы вроде таких – «белое пространство нужной боли» (это одна из первых промежуточных дешифраций мысли о нашем исследовательском центре) – обрастали со временем более разветвленной структурой уточнений и связей, четче и четче распознаваемой искусственным интеллектом. Некоторые удивительные речевые сборки пополнили коллекцию местного юмора и, пообтесавшись на наждаке остроумия, зажили отдельной жизнью. «Гроб похож на пароход, папа всех с собой возьмет» – это, если кто-то не понял, Ноев ковчег.
Работа шла быстро, и всего через пять месяцев побочным результатом нашего эксперимента стало воплощение мечты человечества о передаче мыслей на расстояние. Нейросеть достаточно корректно дешифровывала мои мысли, которые я, приложив некоторые усилия к концентрации, артикулировал про себя. Теперь нам оставалось научиться передавать этот сигнал в местах, где были проблемы со связью. Конечно, мы начали со снов.
Все было просто. После того, как я засыпал и переходил в фазу быстрого сна, коллеги будили часть моего мозга – ту самую, ответственную за исследования – и одновременно усиливали внешними датчиками дельта-колебания, характерные для сна. Спящий мозг словно потревоженный младенец поворачивался на другой бочок и продолжал спать, а я украдкой следил за скрытой стороной его жизни, нашептывая машине на другом конце нейропровода интимное содержание моих снов.
Мои первые реляции о царстве Морфея представляли собой какие-то тусклые отрывки, но со временем мы научились нырять в толщу сна с минимальным количеством брызг, не тревожа зыбкую ткань сновидения. Примерно еще через месяц мы обнаружили удивительную закономерность: чем лучше нейросеть расшифровывала мои послания (или я стал яснее и разнообразнее изъясняться во снах), тем более яркими мне казались эти сны после пробуждения. Спустя еще некоторое время я стал помнить все свои сновидения.
Оказалось, что мы проживаем еще одну крайне интересную жизнь, о которой обычно помним лишь случайными отрывками. Наше сознание не отключается во сне, а лишь переходит в иной ритм работы, становясь чем-то вроде неспешно вращающегося сверла, проходящего слой за слоем серый кисель беспамятства. Наши сновидения – это остающийся от его работы тоннель. Они нужны как смазка для этого сверла, выжимка дневного мира, помогающая сознанию не застревать там, где этого мира нет. Сны за ночь перетекают друг в друга подобно системе шлюзов: ландшафт их берегов может различаться, но вода в них бежит одна. Сновидение течет почти буквально: это ручей нейроэнергии, каждую ночь прокладывающий неповторимое русло по персональным изгибам психики. Он стремится соблюдать законы дневной логики (точнее, приучен их соблюдать), но стоит потоку задержаться на какой-то нестыковке, он огибает ее, подгоняемый энергией набегающей сзади волны, прикрывая сюжетную дыру каким-нибудь сюрреалистичным пуантом.
Наше открытие было настолько неожиданно и многообещающе, что мы всерьез подумывали о том, чтобы сосредоточиться целиком на изучении сна, отбросив прежние планы работ по исследованию смерти. Однако я настоял на его продолжении. Признаться, на то у меня были некоторые личные причины.
*
Дело было вот в чем. Когда я проснулся на следующее утро после возвращения с того света, я почувствовал себя несколько иным. Отголоски реанимации еще давали о себе знать, но произошло кое-что еще на другом, не совсем физическом уровне. И это «кое-что» мне нравилось.
Я почувствовал, что внутри меня пробудилось что-то вроде весны в человеческом измерении. Нечто тонкое и юное, давно забитое глиной лет, проклюнулось сквозь меня вновь, истекая тихой любовью и светом. Словно чья-то рука стерла пыль с моего сердца – и оно забилось с новой силой, чистое и радостное.
Недели через две это чувство постепенно угасло. Я был похож на пилота, самолет которого на миг вынырнул из облаков и увидел солнце, а теперь вновь рухнул в смог повседневного быта. Да, я, сколько мог, уговаривал себя, что это было лишь эхо гормональных перегрузок, но все равно тоска по этой чистоте точила меня день ото дня.
Тем сильнее было мое нетерпение перед вторым прыжком в смерть.
*
Каждый повтор добавляет нам спокойствия, но лишает чувства новизны. Перед вторым погружением (так в группе теперь называлось мое путешествие за границу смерти) мы были полны волнения почти как в первый раз, но готовились к операции буднично, даже рутинно. И когда пришло время начинать, эффект повтора сработал: автоматизм, отточенная последовательность действий – мы походили на оркестр, репетировавший целый год (на самом деле, чуть меньше, десять месяцев) и теперь с радостью демонстрировавший свою слаженность невидимому худсовету.
Впрочем, худсовет этот еще предстояло найти при погружении, и не было никакой уверенности, что это у нас получится. Но мы не думали об этом – наше внимание было поглощено процессом.
Я лежал на подиуме перед началом погружения, и в голове моей, вновь заправленной в мягкий каркас, крутилась одна фраза: «Вещь тяжелее слова. Слово тяжелее мысли…» Полубессмысленная аксиома привязалась ко мне, и вот теперь я мял ее в своем мозгу, как жвачку, для того, чтобы, очнувшись там, не позабыть о своей миссии корреспондента.
Я почувствовал, как игла снова проходит в сердце, и почти сразу же зыбкая тьма обняла и впустила меня в себя. Едва я вынырнул с той стороны ее бездонных объятий, как зашептал, будто задыхаясь: «Вещь тяжелее слова. Слово тяжелее мысли…» Зыбкий мостик из слов был кинут, и я продолжил его укреплять новыми словесными донесениями. В сущности, все дальнейшее повествование – это их отредактированный вариант.
На этот раз не было никаких мучительных воронок. Я сразу проскользнул в мягкий бархат красивого одиночества и совершенной пустоты. Мой покой был собран в смутно различимый кокон, висящий на тонкой струне, исчезающей в бесконечности. Кокон покачивался, и струна посылала во все края вселенной тот самый реликтовый звук, который я слышал в прошлом погружении. Он был настолько полон и совершенен, что вселенная не нуждалась ни в чем ином. Более того, вселенная и была этим звуком. Когда я сосредотачивал внимание на струне, то становилось видно, как она собиралась из колебаний, а затем истончалась по мере затухания звука, пока не превращалась в едва различимую линию. В тот момент, когда она должна была совсем исчезнуть, новый колебательный взрыв создавал ее заново. «Может ли он создавать что-то сложнее прямой линии?» – подумалось мне. Едва эта мысль возникла в моей голове, как струна переместилась в другую плоскость и проткнула меня, как копье. Мне показалось, будто в мою голову вбили какой-то ювелирный калейдоскоп из серебра и бриллиантов: вспыхнувшее сечение разделилось, геометрически повторяясь, на множество сверкающих граней, переливающихся светом своих отражений. Грани продолжали распадаться далее, пока не выстелили передо мной некий тоннель, похожий на чулок змеиной кожи, вывернутый наизнанку. Потом все чешуйки одновременно перевернулись, и я обнаружил, что стою посреди белоснежной капсулы поезда, мчащегося с невероятной скоростью. Поезд, несомненно, не был похож на тот, что я видел в первое погружение, но я знал, что это был именно тот поезд.
Мне трудно описать всю его футуристичность, но она точно выходила за рамки моего земного опыта и фантазии. Все детали вагона были обтекаемыми, словно морские валуны. Сам материал был похож на белый полированный до звона мрамор, но он не казался холодным, а напротив – излучал едва заметное тепло и светился изнутри. Вагон был пуст. По обе стороны от меня тянулись два ряда мест, рассчитанных на одного человека. Каждое место было плавно вписано в интерьер таким образом, будто было выточено в толще стены. Чтобы сесть в него, нужно было просунуть ноги в небольшое отверстие, словно пилоту в гоночный кокпит. Я хотел заглянуть внутрь, но вдруг случилось нечто странное.
Вагон сморщила едва заметная дрожь, он словно на миг раздвоился, а затем я ощутил некое ускорение. Пространство странным образом расфокусировалось: материал вагона словно не успевал за его формой, контуры предметов обгоняли их фактуру. Я с ужасом заметил, что и сам начал отставать от вагона, который стал растягиваться вокруг меня, превращаясь в сферу, из которой меня медленно выдавливал невидимый эфир. Я ощутил спиной некое уплотнение, показавшееся мне живым, но я не успел разобрать, что это. Стенка расступилась, и сфера исторгла меня – и тут же поглотила новая, точно такая же. Затем и эта сфера выплюнула меня в следующую, и так было бессчетное количество раз, все быстрее и быстрее. Меня словно переваривал бесконечный пищевод, проталкивая из полости в полость. Это было невыносимо. Я зажмурился, но мелькание света и тьмы било меня в самый центр головы, извлекая из нее новые волны боли. «Нейросеть пошла вразнос», – произнес в голове безучастный голос. Эти слова вызвали на миг панику, удушливую и безграничную – но они же успокоили меня. Я вспомнил, для чего я здесь, и все мороки сознания, шарахающегося в искусственной агонии, мгновенно рассыпались.
Открыв глаза, я увидел вокруг сероватую мглу, какую наблюдал обычно в подопытных снах, когда сознание перетекало из одного сновидения в другое. Туман, если можно его так назвать, сгущался и рассеивался попеременно в разных местах, словно вдыхая сам себя. Я понял, что нужно постоянно прилагать усилие, чтобы не начать различать в появляющихся комках тумана каких-нибудь сущностей, готовых увлечь сознание в новый зыбкий и беспамятный мир. Постепенно я открыл для себя способ дыхания, созвучный пульсации мглы. Я дышал (конечно, это было фантомное дыхание – физически мое тело было на шаг глубже комы), напрягая носоглотку на вдохе и отдавая затем воздух серией мелких толчков диафрагмы, – и от этого странного дыхания полутьма вокруг начала светлеть. Через какое-то время я уже смог увидеть падающую от меня тень, но едва я посмотрел на нее, как вновь случилось что-то совершенно странное. Мне показалось, что пространство вокруг захлопнулось как книжка, впечатав меня в серый размытый контур под ногами. Едва я провалился в него, как почувствовал, что я действительно и есть тень кого-то – того, кто стоял сейчас за моей спиной.
Подул странный космический сквозняк, от которого туман подо мной начал будто бы вспениваться, и я затрепетал по вздувающимся пузырям пространства двумерным чернильным пятном. Я попытался посмотреть на того, кто был позади меня, но не смог (в силах ли тень посмотреть на хозяина?). Но то, что я смог ухватить взглядом, повергло меня в парализующий трепет. Небо (было ли это небо?) рухнуло и провалилось, и теперь дрожащий зев воронки, наливавшейся кружащей тьмой, медленно полз ко мне. Я ужаснулся не столько ее виду, сколько тому, что так запросто не замечал ее раньше. Смыкающиеся своды тоннеля засасывали серо-седой туман, из которого было сделано все вокруг, и вот уже пространство под моими ногами собралось в несколько складок, которые бледными ручейками потянулись в провал. Меня тоже должно было потащить вместе с ними, но я оставался на месте, перекатываясь по колеблющемуся велуму, в который слились все измерения. Вдруг я понял, что делаю это благодаря той сущности, присутствие которой я почувствовал, – она просто придерживала меня, как человек в обыденной жизни наступает на нечаянно укатившийся пятак.
Однако беспомощность, с которой я тряпкой трепыхался по ряби распадающегося пространства, ввергла меня в такой ужас, которого я, кажется, не испытывал никогда. Я знал, что, если попаду в эту сворачивающуюся в себя огромную спираль тьмы, возврата назад не будет. Мои мысли путались в судорожном хаосе, на секунду вспыхивая искрами, которые тут же улетали в черноту. Когда искра возникала и пролетала сквозь меня, в голове моей появлялись воспоминания: поначалу понятные и яркие, а затем все более сбивчивые. Очень скоро я затерялся среди сонма полупрозрачных образов, пересекавших друг друга и населивших пространство вокруг множеством привидений. Черный, земляной лед горки из детства, прошлогодний самолет в Сеул, набор охотничьих ножей, подаренных то ли мне, то ли мной, гравировка которых воспроизвелась в голове до малейших деталей, прожорливый хруст гравия под колесами уже и не вспомнить чьей машины, везущей меня, дремлющего, на базу к озеру. Все это смешалось в один комок и зажило призрачной жизнью уже независимо от меня. Внезапно мимо пробежала стая собак, остановилась, обнюхала меня и умчалась дальше, всколыхнув туман и захлопнув его за собой, как дверь. Псиная свора выглядела очень реалистично – пожалуй, она была более реальна, чем я сам в этот момент. Тогда я понял, что уже не в силах контролировать свое сознание. Я шептал, проталкивая слова сквозь зубную дрожь: «Мне это кажется… Мне это кажется…», но в этом заклинании не было силы. Мне оставалось лишь немощно ныть, глядя на нависающую черную бездну.
Я заметил, как от провала отделилась маленькая точка и кружа начала ко мне приближаться. Она оказалась птицей – черной птицей, вороном, намного большего размера, чем обычно мне доводилось видеть. Ворон завис надо мной, а затем по хищной спирали слетел мне на грудь. То, что произошло дальше, я не смог бы представить никогда: птица словно провалилась сквозь плоть. Я почувствовал, что со мной произошел какой-то распад, мое тело стало землисто-рыхлым, разъятым на творожистые комочки. И ворон ходил по этой первородной глине, как по помойному месту, расшвыривая когтистой лапой то, что недавно еще было целым, а теперь рассыпалось и утратило даже память о единстве. Птичий клюв выхватывал из разных мест слипшиеся крошки тела и деловито поглощал их. При этом он всегда смотрел на меня хотя бы одним глазом, а иногда двумя. Каким-то образом ворон сообщил мне, что он дегустирует меня, проверяя готов ли я. Его хозяйственная неспешность, отказывавшая мне во всякой субъектности, вызвала во мне глухую злобу. Я попытался закричать, чтобы согнать ворона или хотя бы просто заявить о себе, – но вместо звука из меня вырывались лишь хлопья пепла, в который я превращался. Во мне заклокотали бессилие, отчаяние и дочеловеческий ужас быть умерщвленным, глядя в глаза пожирающей тебя силы. «Спа-сии!» – прошипел я из последних сил, давясь сухими комьями в глотке.
Ворон повернулся ко мне, удивленно наклонил голову и сорвался прочь. Чья-то рука надо мной (впрочем, я, конечно же, знал, чья) сделала взмах, полный воли и власти, окончательно стерший птицу. Затем рука сделала еще один взмах – и арка тьмы накрыла все вокруг, как раскладная крыша – кабриолет.
Это была тьма совершенно иного рода: совершенно не пугающая, а напротив, эманирующая полную безмятежность. Она была полна скрытой в ней мощи. Я не мог ничего видеть, но ощущал вокруг себя бескрайнее пространство, заряженное энергией, находившейся пока в полном покое. Отдаленно похожее впечатление я испытал лишь однажды, когда в животном вожделении одиночества (это был очень короткий отпуск, я хотел забыть о работе, но весь день удаленно пришлось заниматься лишь ей) заплыл ночью на катере далеко в море, заглушил мотор, погасил весь свет и на целый час завис между чернильно-черным морем и таким же густым беззвездным небом. Они перетекали друг в друга, как два сиамских близнеца – и в их тихих, почти бесконтактных объятьях я то ли уснул, то ли просто потерял себя ненадолго, но очнулся полным сил и энергии, словно мне вынули и перезарядили душу, а затем вложили обратно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































