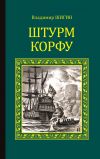Читать книгу "Сын Екатерины Великой. (Павел I)"

Автор книги: Казимир Валишевский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЦАРСТВОВАНИЕ
Глава 4
Вступление на престол
I
Около трех часов пополудни 5-го (16-го) ноября 1796 года Павел находился в Гатчине на «мельнице» и пил кофе. Внезапно прибежавший во всю прыть слуга возвестил ему о приезде Николая Зубова. Великий князь страшно побледнел. Этот мрачный гигант, брат фаворита Екатерины, мог приехать только с враждебными намерениями. Прошлой ночью Павел видел дурной сон, воспоминание о котором все еще его преследовало, а более серьезные причины к беспокойству поддерживали в нем с некоторых пор постоянную тревогу.
– Мы погибли, дорогая! – прошептал он на ухо жене. Однако лакей не казался взволнованным.
– Сколько их? – спросил его государь.
– Они одни, ваше высочество…
Сняв шляпу, Павел набожно перекрестился и глубоко и облегченно вздохнул.
Ростопчин дает формальное опровержение этого рассказа, приведенного свидетелем-очевидцем. Павел будто бы вовсе не испугался, предположив, напротив, что Зубов принес добрую весть: о возобновлении недавно прерванных переговоров о замужестве великой княжны Александры Павловны со шведским королем. Но Ростопчина там не было. С другой стороны, по данным «Гоф-фурьерского Журнала», еще раньше Зубова приехал один офицер, – может быть, поляк Илинский, о котором говорит третий свидетель, – привезший записку Салтыкова, возвещавшую о происшедшем с Екатериной ударе.
Это неважно. Даже узнав о событии, угрожавшем опасностью жизни его матери, Павел не мог еще вполне успокоиться. Может быть, Зубов явился для того, чтобы сообщить ему последнюю волю умирающей, а какова она? Но гигант, бросившись навстречу наследнику, упал на колени, и это разрешало все сомнения. Павел, при всем своем возбуждении, должен был увидеть, что его долгое ожидание приходит к концу.
При овладевшем им, вполне понятном, волнении, он обнаружил некоторое смущение. Ударяя себя по лбу, как он всегда делал, когда был сильно озабочен, он расспрашивал о подробностях происшествия и о возможных его последствиях, прерывая свои вопросы все одним и тем же восклицанием: «Какое несчастье!», которое, быть может, отвечало совершенно искреннему движению его сердца. Такие события, затрагивая сокровенные глубины человеческого существа, вызывают даже в самых черствых натурах хотя бы мгновенные вспышки нежности бескорыстия. А Павел обладал от природы любящим сердцем, и дело шло о его матери!
Тем не менее, вместе с охватившим его вполне понятным волнением, он обнаруживал и беспокойство. Он плакал, требовал лошадей, сердился, что не достаточно скоро запрягают, ходил взад и вперед быстрыми шагами, как человек, который не может усидеть на месте; но, когда карета была подана, он не торопился садиться. Он волновался, говорил сам с собой: «Застану ли я еще ее в живых!» Целуя поочередно жену, Зубова и Кутайсова, он заметно старался выиграть время. У него оставались сомнения, и ему было страшно.
Новости однако прибывали. По дороге из Петербурга в Гатчину тянулась длинная вереница саней. Курьеры не останавливались на станциях. Один из поваров Зимнего Дворца и рыбный подрядчик тоже послали курьера. Как ни спешил Ростопчин, его опередили. На полдороге он встретил Николая Зубова, который возвращался впереди наследника и разносил начальника почтовой станции в Софии.
– Лошадей, или я запрягу тебя самого! Лошадей для государя!
– Какого государя?
Четыре года спустя, при восшествии на престол Александра, Мария Федоровна повторила тот же вопрос.
Павел уехал только в 5 часов вечера и вовсе не спешил. Было 8 часов, когда он подъехал к воротам столицы. Около Чесменского дворца он приказал остановиться, вышел из экипажа и беседовал с Ростопчиным о красоте ночи, тихой, ясной и относительно теплой. Он расчувствовался, смотря на луну, как этого и требовала сентиментальность века, и, заметив на его глазах слезы, его собеседник забыл разницу их положений. Он схватил его руки.
– Ах! ваше высочество! какая минута для вас. В ответ на это Павел его крепко обнял.
– Подождите, дорогой мой, подождите. Я прожил сорок два года; Бог был мне поддержкой; может быть Он мне даст силы и разума выдержать бремя, возлагаемое Им на меня.
Значит, в этот момент он больше не сомневался, что должен немедленно начать царствовать. А между тем смерть еще не завершила своего дела. По последним свидетельствам, врачи не решались высказаться определенно. Но, увидав Зубова у своих ног, Павел получил еще новые данные для учета грядущих событий. Уже большая часть двора императрицы теснилась около сына. А между тем первоначальная тревога наследника имела до некоторой степени свои основания.
II
Среди сановников, собравшихся вокруг умирающей государыни, было сначала, судя по всему, много замешательства. Там находились; оба Зубова, Платон и Николай, а также Безбородко и Алексей Орлов. Никто из этих людей не питал очень доброжелательных чувств к великому князю. Все, кроме того, знали о последних намерениях Екатерины. Слух о существовании завещания императрицы, лишающего Павла прав престолонаследия, не имел, в сущности, другого подтверждения, кроме всеобщей и очень распространенной в то время веры в это предположение. С тех пор один А. М. Тургенев, в своих пометках на полях мемуаров Грибовского, высказался совершенно утвердительно в этом смысле, упрекая Безбородко в выдаче документа Павлу. Автор знаменитой строфы, затронувшей этот факт, Державин, упомянувший о нем, как поэт, оказался более сдержанным в качестве историка. Но перед смертью Екатерина могла прийти в сознание и заговорить. Александр, ставший уже популярным, мог начать действовать.
По свидетельству графини Головиной, преданный Гатчинскому помещику Салтыков принял будто бы меры, чтобы внук не подходил близко к бабке. Предосторожность эта была излишня. Молодой великий князь из чувства сыновнего уважения и столь же по нерешительности своего характера ничего не предпринимал, кроме того, что попросил Ростопчина отправиться в Гатчину, и то когда Павел был уже в дороге.
Один Алексей Орлов в этот трагический момент выказал себя способным к инициативе, и то не в том смысле, который мог напугать законного наследника. По свидетельству Ростопчина, это он распорядился послать в Гатчину Николая Зубова.
По приезде, Павел устроился в кабинете, прилегающем к той комнате, где кончалась его мать. Обе комнаты были так расположены, что те, кому было нужно получить распоряжения сына, должны были проходить мимо умирающей. «Эта профанация самодержавного величия, говорит графиня Головина, этот недостаток благочестия… неприятно поразил всех». Его грубый эгоизм одержал верх над материальными заботами, требовавшими его внимания, и Павел не заметил сделанной им непристойности.
Екатерина боролась со смертью до следующего вечера. Только утром 6 ноября врачи объявили ее состояние безнадежным. Но в стране, где так долго царила ее твердая воля, кончина великой государыни еще ничего не изменяла. По преданию, Безбородко, поддавшись уговорам Ростопчина, позволил себя убедить передать будущему императору все бумаги императрицы. По другим рассказам, эту любезность оказал Платон Зубов. В «Гоф-фурьерском Журнале» значится: «6-го ноября, утром, после заявления врачей, что надежды больше нет, бумаги императрицы были опечатаны заботами великого князя Александра, графа Безбородко и генерал-прокурора графа Самойлова и в присутствии князя Платона Зубова».
Совершенно невероятно, чтобы Павел не позаботился составить предварительно хотя бы краткую опись этих документов, и следующий рассказ связывался с их осмотром: Безбородко и Зубов будто бы обратили внимание наследника на какой-то конверт, перевязанный черной ленточкой. Обмен немых вопросов, взгляд, указывающий на пылающие рядом в камине огромные дубовые поленья, и конверт обращен в пепел.
Один современник, передающий будто бы рассказ, слышанный им от самого Платона Зубова, говорит, однако, что Павел сломал печати на двух конвертах, из которых в одном был проект указа, объявляющего его отречение от престола, а в другом – распоряжение о водворении его в замок Лоде. И, наконец, будто бы он положил в карман, не читая, третью бумагу, в которой и было завещание, предмет стольких противоречивых догадок. Но, по другой версии, эта последняя бумага была найдена только несколько дней спустя после смерти Екатерины великим князем Александром, которому, вместе с князем Александром Куракиным и, кажется, с Ростопчиным, было поручено просмотреть предварительно опечатанные бумаги покойной. Александр, потребовав о своих сотрудников хранить молчание об этой находке, бросил в огонь документ, передающий ему наследование престолом под регентством Марии Федоровны. Когда все было кончено, Павел спросил сына:
– Вы ничего не нашли, касающегося меня?
– Ничего.
– Слава Богу!
Однако привычка Павла всех подозревать делает этот рассказ совершенно неправдоподобным.
Наконец, по свидетельству княгини Дашковой, благодаря разборке этих бумаг, сын Екатерины нашел письмо Алексея Орлова, которое, устанавливая ответственность автора за убийство Петра III, объявляло императрицу совершенно непричастной к делу, и Павел будто бы поторопился уничтожить это свидетельство. Но в тот момент, когда княгиня, бывшая в ссоре с его матерью, писала свои мемуары, она имела несравненно более серьезные причины досадовать на сына.
Одно несомненно, что наследник, совершенно успокоенный обстоятельствами, сопровождавшими последние минуты Екатерины, не дождался ее кончины, чтобы вступить в права наследования и начать распоряжаться. Первой его заботой было призвать Аракчеева и указать ему, какое место в своем доверии и своем управлении он ему предназначил. Подведя его к Александру, он соединил их руки:
– Соединитесь и помогайте мне.
Прискакав верхом из Гатчины, будущий великий фаворит был покрыт грязью и не имел во что переодеться. Александр провел его к себе и дал ему одну из своих рубашек. Аракчеев, говорят, велел себя в ней похоронить и хранил ее с тех пор, как святыню, в сафьяновом футляре.
Вчерашний фаворит, Платон Зубов, смотрел на обломки своего счастья. Задыхаясь от горя и тоски, в лихорадочном жару, он бродил по комнате своей повелительницы и не мог добиться, чтобы ему дали только стакан воды! Ростопчин приписывает себе великодушие в оказании ему этой услуги. Накануне генерал Голенищев-Кутузов, будущий герой Наполеоновских войн, приготовлял Платону Александровичу кофе и подавал его ему в постель! Павел не обнаруживал еще никакой враждебности по отношению этого померкшего величия; но, заметив князя Федора Барятинского, одного из предполагаемых сообщников Алексея Орлова в Ропше, он приказал ему оставить дворец и заместил его, как обер-гофмаршала, графом Николаем Шереметевым.
Екатерина еще жила. Только в 9 час. 45 мин. вечера главный лейб-медик Роджерсон заявил, что «все кончено». И тотчас же, если верить Тургеневу, повернувшись по-военному на каблуках у дверей комнаты покойной, надев на голову огромную шляпу и взяв в руку длинную трость, составлявшую принадлежность обмундирования, введенного в Гатчине, новый император закричал хриплым голосом:
– Я вам государь! Попа сюда!
Эта подробность кажется преувеличенной. Но вот другое свидетельство, очень близкое к первому, в письме великой княгини Елизаветы, супруги Александра, написанном матери несколько месяцев спустя.
«О! я была оскорблена недостатком скорби, выказанной императором… В 6 часов вечера (в день смерти Екатерины), мой муж, которого я не видала целый день, пришел в своем новом мундире, император более всего торопился переодеть своих сыновей в эту форму!.. Мой муж повел меня в спальню (где только что скончалась императрица), велел мне опуститься на одно колено и поцеловать руку императора… Оттуда прямо в церковь для принесения присяги… Вот еще отвратительное впечатление, которое мне пришлось испытать… видеть его таким самодовольным, таким счастливым!.. О! это было ужасно».
Так как на приготовление потребовалось довольно много времени, то принесение присяги, предшествуемое чтением манифеста о восшествии на престол, происходило уже в полночь. Этот манифест, составленный в самых обыкновенных выражениях Трощинским, начальником канцелярии Безбородко, ничем не напоминал документ, написанный Павлом вместе с Петром Паниным двенадцать лет назад. Во время церемонии новый император заметил отсутствие Алексея Орлова. Это не могло уже более волновать его, но он возмутился:
– Я не хочу, чтобы он позабыл 28 июня.
Это был день трагического события в Ропше.
Изнуренный, в свои шестьдесят лет, усталостью и волнениями двух последних дней, Орлов просто отдыхал в постели, с которой и было приказано Ростопчину его стащить.
Генерал Архаров, этот наводивший на всех ужас полицейский, сопровождал его. Видя, что старик совершенно теряет силы, они взяли на себя смелость просить его только расписаться. Но, поднявшись и встав перед иконой со светильником в руке, вместо свечи, чесменский герой захотел предварительно громко произнести слова присяги. Он не обнаружил ни малейшего смущения.
В то же время Александр вместе с Аракчеевым, по приказанию отца, расставлял по улицам караульные будки, выкрашенные в прусские цвета, белый и черный, и ставил в них часовых.
Павел, наконец, царствовал!
III
Толпа любит перемену, и поэтому наступление нового царствования обыкновенно приветствуется радостными манифестациями. На этот раз ликование не было всеобщим, а в некоторых кругах преобладало даже обратное чувство. «Не хватает слов, пишет один гвардейский офицер (Саблуков), выразить скорбь, испытанную и проявленную каждым офицером и каждым солдатом… Весь полк буквально обливался слезами… Мне говорили, что то же самое имело место в других полках, и что всеобщее горе выражалось таким же образом в приходских церквах». Массон подтверждает это наблюдение еще резче: «Важнейшие обитатели столицы пребывали в немом ужасе. Страх и всеобщая ненависть, внушенные Павлом, точно пробудили в этот момент любовь и сожаление, заслуженные Екатериной».
Состарившаяся и знававшая неудачи покойная императрица, находясь в могиле, может быть и не вызывала таких лестных чувств, но те, которые возбуждал к себе Павел были еще менее лестными. «Это будет, как в Гатчине», говорили про себя. И новый государь не замедлил оправдать это опасение. Караульные будки прусского образца дополнили ночью обстановку неожиданного для всех события, так давно им обдуманного и подготовленного.
«Все переменилось меньше чем через день», говорит князь Чарторыйский, «костюмы, лица, наружность, походка, занятия». Утром 7-го ноября, до полудня, двор казался совершенно новым. Гатчинцы выступали на сцену. «Милосердный Боже, какие костюмы! – замечает Саблуков. Несмотря на нашу печаль о смерти императрицы, мы держались за бока со смеху при виде этого маскарада». Массон сравнивает эту картину с крепостью, взятой приступом. А Шишков – с неприятельским нашествием.
«Весь блеск, вся величавость и важность двора исчезли, читаем мы в другом месте. Везде появились солдаты с ружьями. Знаменитейшие особы, первостепенные чиновники стояли с поникшею головой, неприметные в толпе народной. Вместо них незнакомые люди приходили, уходили, бегали, повелевали». И еще: «Дворец был обращен в кордегардию. Везде стук офицерских сапог, бряцанье шпор»…
Не покажется ли вам, что эта картина напоминает Тюильри на следующий день после 10 августа 1792 года?
Император появился в свою очередь в знакомом уже нам смешном наряде. Он произвел смотр одному из гвардейских полков, Измайловскому. «Во время церемониального марша было видно, как он ворочал глазами, надувал щеки, пожимал плечами, топал ногой, чтобы показать свое неудовольствие. Потом он пришпорил свою лошадь Помпона и поскакал галопом навстречу Гатчинским командам, торжественно вступавшим в С.-Петербург».
В то же время, по свидетельству Саблукова, столица внезапно приняла «вид немецкого города, существовавшего два или три века назад». Как это недавно было в Павловске и Гатчине, полицейские сновали по улицам, срывая с прохожих круглые шляпы и разрывая их на куски, срезая полы фраков, сюртуков и шинелей. Даже племянник английского посланника, Витворта, очень элегантный молодой человек, не избег этой участи.
Перемены не ограничивались подробностями костюма. «Не только наш дом на Черной Речке, но весь Петербург и вся Россия были перевернуты вверх дном», уверяет Греч, а более чуткие натуры с грустью испытывали впечатление нравственного развала. «Давя все и добираясь до самых незначительных сторон жизни, говорит еще Саблуков, деспотизм давал себя еще больнее чувствовать оттого, что он следовал за относительно широкой свободой личности». Когда говорили громогласно, то новую эпоху называли: «Возрождением»; вполголоса: «Царством власти, силы и страха»; а совсем тихо, с глазу на глаз: «Затмением свыше».
Эти свидетельства должны быть приняты с осторожностью. Перемены, представленные ими в слишком ярких красках, на самом деле не были ни так резки, ни так широки. Указ, запрещавший круглые шляпы, высокие сапоги, длинные панталоны, башмаки с завязками и предписывавший, как установленную указом форму – треуголку, зачесанные назад волосы, напудренные и заплетенные в косу, башмаки с пряжками, короткие панталоны, стоячий воротник и проч., был опубликован только 13-го января 1797 г., и Екатерина уже тоже неоднократно отменяла ношение «больших галстухов». «Свобода личности», которою она предоставляла наслаждаться своим подданным, имела тоже очень узкие границы. С другой стороны, если решение изменить все, сделанное его матерью, обратилось у Павла впоследствии в крайность, то вначале он старался этим не увлекаться и кое-что щадил. Он в первый момент спешил насладиться полученной властью и был слишком счастлив, чтобы ей злоупотреблять.
Удовлетворившись несколькими карательными распоряжениями, вызванными особенно болезненными личными его счетами, он начал даже с того, что утвердил в должностях большинство из высших чиновников и офицеров, служивших при дворе, которых недавно собирался выгнать хлыстом. Оставив старика Остермана номинальным руководителем иностранных дел, которые в действительности в последнее время вела сама Екатерина вместе с Безбородко, Марковым и Зубовым, он простер свое уважение к его заслугам до того, что возвел этого состарившегося дипломата в звание канцлера. Один Марков был уволен из этого ведомства, а при дворе гофмаршал Колычев, посланный потом в Париж, разделил опалу Барятинского.
Отставки, вначале очень немногочисленные, имели главной своей причиной необходимость освободить место слугам и друзьям нового государя. Вместе с Аракчеевым, назначенным с. – петербургским комендантом и награжденным чудным имением Грузино, которое он потом прославил, не был, разумеется, забыт и Кутайсов. Одновременно с должностью гардеробмейстера ему поручили главное наблюдение за придворной прислугой.
В бумагах императрицы Павел нашел лист производств, предположенных на 1-е января. Он в нем ничего не изменил. Курляндец фон дер Ховен фигурировал там как сенатор. Павел его не выносил. Он никогда не сказал с ним ни слова, но допустил его в это высокое учреждение.
Прислуге Екатерины пришлось хуже. Оба ее любимых камердинера пострадали; один, Захар Зотов. – «Захарушка», – подвергся заключению в Петропавловскую крепость, где он сошел с ума, а другой – Секретарев, был сослан в Оренбург. Екатерина получила этого второго слугу в наследство от Потемкина и, разделяя опалу камердинера, два прежние секретаря князя Таврического, Попов и Гарновский, были тоже уволены от должности. Новый государь не пощадил даже духовника императрицы, отца Савву, назначенного ею и его духовником. Отданный под суд и оправданный, священник был уволен от службы и отослан в провинцию. Однако Павел назначил ему пенсию в 6000 рублей.
Он оказался не менее щедр по отношению к первой камер-юнгфере покойной, Марии Савишне Перекусихиной и к ее кафешенку Осипу Моисееву. Под влиянием своей радости, он был более склонен к щедрости, чем к взысканию. Милости, отличия и награды сыпались на его подданных, «уже не дождем, а ливнем», по выражению Роджерсона. Он давал даже тем, кого удалял, и подарил, например, не только 150000 рублей старому своему другу Александру Куракину на уплату долгов, но еще по 100000 рублей Маркову и Попову на покупку домов. В три недели он истратил таким образом более миллиона. Производившееся в то же время пожалование земель, тысячами десятин, велось еще более щедро, а что касается орденов, то Павел их не раздавал, а рассыпал, по словам одного современника. Ему хотелось дать даже тем, кто не желал брать, и он поссорился из-за этого с московским митрополитом, своим прежним духовником.
Наряду со щедростью, он проявил также необыкновенное милосердие, заботясь, видимо, о том, чтобы с ним делили его радость и чтобы его любили. Он освободил всех содержавшихся «по тайной экспедиции» и даровал всеобщую амнистию всем чинам, находившимся под судом или следствием, кроме тех, кто содержался по особо важным преступлениям, как то: смертоубийство или похищение казенного имущества. Вместе с Новиковым и Радищев, автор знаменитого «Путешествия из С.-Петербурга в Москву», был возвращен из ссылки.
29 ноября 1796 года были также освобождены и поляки, заключенные частью в Петербурге со времени последней войны за независимость, частью работавшие при сооружении Рогервикского порта.
По свидетельству Роджерсона, Екатерина, относясь с уважением знаменитому победителю при Мацеиовицах, которого она однако снисходительно называла «мой бедный дурачок Костюшка», сама собиралась в скором времени освободить героя, и тюрьма, которую она хотела отпереть, вовсе не походила на темный каземат, изображенный на гравюрах тог времени. Бывший диктатор занимал помещение в нижнем этаже самого лучшего здания в столице, знаменитого Мраморного дворца. Но Павел мечтал сделать лучше. Он хотел пойти вместе со своим сыном Александром и лично объявить польскому герою свое милостивое решение его участи. С давних пор он оплакивал его горькую долю и радовался, что может теперь ее облегчить.
Свидание было трогательное. Костюшко с беспокойством осведомлялся о судьбе своих товарищей по заключению, и Александр, со слезами, обнял его несколько раз, а Павел, если верить одному из заключенных, Немцевичу, тоже расчувствовался и дал волю своей обычно несдержанности в словах.
– «Я знаю, что вы много страдали, что с вами долго дурно обходились; но во время прошлого царствования так относились ко всем порядочным людям, ко мне – первому. Мои министры были категорически против вашего освобождения. Я один отстаивал свое мнение и не, знаю, как мне удалось одержать верх. Вообще эти господа желали бы водить меня за нос; по несчастью, у меня его нет…»
При этих словах он провел рукой по лицу.
– «Вы свободны, но обещайте мне сидеть смирно… Я всегда был против раздела Польши: раздел этот несправедлив и противен здравой политике; но это сделано. Чтобы восстановить ваше отечество, потребно согласие трех держав. Есть ли малейшая вероятность, чтобы Австрия и в особенности Пруссия уступили свои части? Неужели я один должен потерять свою и тем ослабить себя, в то время как другие усиливаются?..»
Костюшко, по-видимому, обнаружил при этом столько же скромности, сколько и достоинства. Он изъявил желание отправиться в Америку, на что и последовало разрешение. Осыпанный почестями, к которым присоединились несколько подарков, предложенных самым деликатным образом, он не счел нужным от них отказываться. Он принял специально для него заказанную дорожную карету, столовое белье, посуду, чудную соболью шубу и даже некоторую сумму денег – 60000 рублей по русским источникам и только 12000 по польским – взамен земли, ранее предоставленной в его распоряжение. Мария Федоровна прибавила еще подарки от себя. Во время неволи, герой полюбил заниматься вытачиванием из слоновой кости и самшита. Она подарила ему великолепный токарный станок, стоивший 1000 рублей, а также коллекцию камей, сделанных ею собственноручно. В ответ на это он преподнес императрице табакерку собственной работы, и все расстались наилучшим образом.
Продолжение было менее приятное. В 1798 году, в Вашингтоне, бывший диктатор узнал о победах передовых польских отрядов под знаменами французов. У него явилась надежда вновь принять на себя командование армией и опять сразиться за независимость своей родины. Он сел на первый корабль, уходивший в Европу, и, приехав в Париж, отослал обратно Павлу полученные деньги. Это было и ненужно и непоследовательно, раз он оставил у себя шубу и все остальное. Такой бесполезный шаг сопровождался еще письмом, и было бы желательно, чтобы содержание последнего не наложило тень на славную память героя. Письмо начиналось так:
«Ваше Величество, я пользуюсь первыми минутами свободы, вкушаемой мною под покровительственными законами величайшей и великодушнейшей, нации, чтобы вернуть Вам подарок, который проявленная Вами доброта и жестокое поведение Ваших министров заставили меня принять…»
Однако его надежды на получение командования не оправдались. Пруссия этому воспротивилась. Он не вернул и денег. По приказанию царя они были отосланы обратно и положены в банк Беринга в Лондоне на имя славного воина, который не тронул приносимых ими доходов, однако распорядился ими в своем завещании!
Этот случай, – увы! – еще более утвердил в Павле его известный нам взгляд на людей и на хорошее отношение к ним. Но и его стремление благодетельствовать не было совершенно свободно от посторонних влияний. Плохо продуманная историческая критика занимала в нем главное место, и в то же время ничем не оправданные строгости, по меньшей мере чрезмерные, или неразумные порывы мщения перемешивались с проявлениями великодушия и щедрости. Эта последняя черта не замедлила обнаружиться более резко.
IV
В манифесте о своем восшествии на престол наследник Екатерины не последовал внушениям Петра Панина. Напротив, 26 января 1797 года он приказал вырвать из печатных 1762 года Указных книг листы, содержащие манифест о вступлении на престол покойной государыни, а также все другие официальные постановления, относившиеся к июньскому перевороту. Отмена распоряжений, отданных Екатериной в сентябре 1796 года о новом рекрутском наборе; отозвание армии, посланной в Персию; восстановление в Лифляндии и Эстляндии прежних земских учреждений, уничтоженных императрицей, указывали также с самого начала на решительный поворот во внутренней и внешней политике государства. Павел хотел, кроме того, чтобы спешное возвращение войск, посланных в Персию, совершилось без ведома главнокомандующего, которым был другой брат бывшего фаворита, Валерьян Зубов, чуть было не взятый при таких условиях в плен персами. Казачий атаман Платов, осмелившийся предупредить эту катастрофу, подвергся заключению в крепость. Но забота о получении удовлетворения за государственный переворот, лишивший его, как он упорно продолжал думать, власти, заслонила вскоре все остальное в уме Павла.
Прежде чем приступить к мщению, он и здесь начал с вознаграждения за прежние преследования, призывая в Петербург и осыпая почестями и вниманием опальных товарищей Петра III, офицеров, стоявших в 1761 году на стороне государя. «Со всех концов империи, точно в день воскресения мертвых, стекались старики, умершие в гражданском отношении тридцать пять лет тому назад», говорит Головкин. А между тем, вечно непоследовательный Павел, приняв вначале на короткое время угрожающий вид, относился теперь особенно милостиво к «главному лицу в событии 28 июня», Алексею Орлову. В недалеком будущем он собирался его сослать, но пока, в ноябре 1796 года, в «Гоф-фурьерском Журнале» упоминалось два раза о присутствии этого гостя за императорским столом, где, по случаю траура, приглашенных бывало очень мало!
Но каковы были истинные чувства Павла по отношению к отцу, за которого он мстил, делая вид, что уважает его память? Мы знаем, что он не был уверен (а может быть, только так говорил), действительно ли этот человек его отец. Несколько месяцев спустя он пригласил бывшего польского короля, Понятовского, поселиться в Петербурге; он позвал его обедать и, если верить племяннику короля, то за десертом Павел убеждал его засвидетельствовать, что он может назвать себя его сыном. Что же касается Петра III, то это был «пьяница, неспособный царствовать».
Достоверность этого факта едва ли допустима; но и истинную мысль Павла очень трудно распознать во всех его действиях, вплоть до двойного погребения Екатерины и ее супруга, подробности которого слишком хорошо известны, чтобы было необходимо их здесь воспроизводить. По мнению Ростопчина, эту мысль внушил Павлу Плещеев, вследствие говорившей в нем ненависти, тогда как под влиянием мистически направленных мыслей, поддерживаемых в государе этим же другом, Павел думал, наоборот, осуществить таким путем за гробом примирение обоих виновников его существования, которых жизнь вооружила друг против друга. Следует заметить, что, по воле Екатерины, Петр III покоился не в общей усыпальнице русских государей в Петропавловской крепости, а в Александро-Невской лавре. Может быть, соединяя оба гроба, Павел не имел другого намерения, как привести все в порядок. Автор аллегорической картины, изображающей похоронную процессию и посвященной Павлу, французский художник А. Анселен, видел, однако, в этой церемонии апофеоз Петра III «к радости русского народа и к ужасу Алексея Орлова». «Убийца», действительно, участвовал в процессии, неся корону, которой муж Екатерины не успел официально короноваться и которой Павел хотел увенчать его в могиле, со всей приличной случаю торжественностью. Но если принять во внимание, что он недавно присутствовал, как нам известно, на обедах, то эта роль может быть считалась и почетной.
Другой рисунок Анселена «Встреча Петра III в Елисейских полях» изображает Орлова и Барятинского умирающими от змеиных укусов. На гравюре Валькера, сделанной тогда же с картины Луизы Перон Лабруе, апофеоз, как и похороны, двойной: Екатерина появляется вместе с супругом.
Очень вероятно, что Павел сам не мог точно объяснить смысл устроенных им манифестаций, и Алексей Орлов, участвуя в процессии, рисковал только схватить бронхит. Мороз был трескучий. Потом он получил распоряжение отправиться за границу, но мог, ведя там роскошную жизнь, мирно дожидаться восшествия на престол Александра. В 1798 году, находясь в Карлсбаде, он устроил в именины Павла блестящий праздник, в благодарность за который получил любезное письмо от императора.