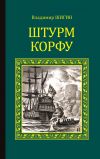Читать книгу "Сын Екатерины Великой. (Павел I)"

Автор книги: Казимир Валишевский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Впрочем, личный деспотизм Павла, как ни был он грозен, проявлялся лишь в довольно узкой области вследствие ограниченного умственного кругозора деспота и его малой изобретательности в способах действий. Даже и в непосредственной близости государя, при дворе и в высшем петербургском обществе, от него не столько терпели, сколько рассказывали. Госпожа Виже-Лебрён, сама, по ее словам, запуганная, не испытывала однако необходимости сократить время своего пребывания в России, и, описав все неприятности и беспокойства, пережитые ей вместе с прочими обитателями столицы, она прибавляет: «Все только что прочитанное нисколько не мешает тому, чтобы Петербург был для артиста настолько же полезным, сколько и приятным местопребыванием. Император Павел любил искусства и покровительствовал им. Большой любитель французской литературы, он привлекал и удерживал своей щедростью актеров, которым был обязан удовольствием видеть на сцене наши шедевры, и достаточно было обладать музыкальным или художественным талантом, чтобы быть уверенным в его благосклонности. Дуаен, писавший исторические картины, так же пользовался вниманием Павла, как раньше Екатерины. Император заказал ему плафон для нового Михайловского замка… В смысле увеселений общества Петербург не оставлял ничего желать».
Таков был удел высших классов общества; впрочем, при этом режиме они не пользовались никакими привилегиями. Благосклонность Павла направлялась охотнее к низшим слоям, которым, кажется, уж нечего было жаловаться на новый режим, – напротив! хотя Коцебу и злоупотребил, несомненно, гиперболой, сказав: «Народ был счастлив, никто его не стеснял». Но все относительно, и для большинства публики Россия Екатерины II, конечно, не была раем. Если Павел не хотел отменить крепостное право, он пытался, большей частью случайно и по прихоти, как поступал всегда, ослабить его естественные последствия. Он старался внести в эту область умеряющее начало, и этим приобретал несомненное право на снисходительность и даже признательность потомства.
В итоге неистовства государя внушили, кажется, больше страха его подданным, нежели причинили зла, и в то же время большинство широко вознаграждались его великодушными порывами. Впрочем, нам еще придется вернуться к этому вопросу. Но неудача политического порядка, каковы бы ни были его достоинства, находит себе чаще объяснение не в худших, а в лучших его сторонах, да сверх того Павел и не ограничивался тем, что покровительствовал крестьянам, или разыгрывал из себя мецената в области искусства и литературы, у него были еще и другие очень разнообразные и возвышенные стремления, которым вовсе не отвечали его приемы управления, только что ставшие нам известными. Вследствие всего этого, если в своем целом русские того времени и не терпели так много, как это утверждали до сих пор все-таки, что бы теперь ни говорили, управление народом при жизни этого государя шло наперекор здравому смыслу.
Глава 6
Окружающие государя
I
Среди сотрудников императора Павла был некий Глинка. Вот его прохождение службы на протяжении четырех лет: произведен в действительные статские советники 5 апреля 1797 г.; назначен эстляндским вице-губернатором 30 мая; архангельским губернатором 31 августа; уволен в отставку 31 декабря того же года; назначен новгородским губернатором 5 апреля 1798 г.; переведен на ту же должность в Петербург 22 декабря; уволен за упущения в делах от службы 2 марта 1800 г.; произведен в тайные советники и назначен сенатором две недели спустя; 14 июня получил в дар 5000 десятин земли в Саратовской губернии.
Как показывает этот пример, на чиновниках, служивших при сыне Екатерины, отражалось непостоянство его образа мыслей, и необходимо ознакомиться с этой вереницей лиц, прежде чем приступить к рассмотрению событий, в которых они принимали участие. Как внешняя, так и внутренняя история царствования находится в тесной связи с создавшими ее быстрыми переменами, а, с другой стороны, огромная драма, в которой Павлу принадлежала первая роль, со всеми ее перипетиями, была бы непонятна, если бы предварительно не вглядеться в физиономию ее главных участников. Некоторые из них, давнишние товарищи гатчинского помещика, или сотрудники его матери, нам уже знакомы. Насчет других достаточно сделать несколько кратких указаний.
Стремясь к идеалу самодержавной власти, который мог для него быть лишь несбыточной мечтой, Павел, пытаясь осуществить свою грезу, видел, как она постоянно ускользает от его усилий. Между его волей и возможностью ее проявить всегда становились другие люди с волей более сильной, оспаривавшие и вырывавшие из его рук то самое всемогущество, которого он так страстно добивался. Обманувшийся и раздраженный, он всегда сокрушал могущество соперника, но лишь для того, чтобы уступить другим предмет своих разбитых желаний. И, помимо капризов, в этом и заключалась главная причина явления, которое мы будем рассматривать.
Еще более странные перемены карьеры, чем те, о которых мы только что упоминали, происходили за эти четыре года. Граф Миних, назначенный сенатором 25 декабря 1796 года, за три дня до того был уволен в отставку тайным советником. Уволенный 17 июня 1799 года указом, объявляющим его неспособным к несению каких-либо обязанностей, киевский губернатор Милашов был 8 июля восстановлен в прежней своей должности.
«Едва успевали прочесть в газете о новом назначении, пишет княгиня Дашкова, как лицо, назначенное на ту или другую должность, бывало уже перемещено».
Как указывалось выше, Павел, однако, вначале благоразумно сохранил большую часть служащих, завещанных ему Екатериной. Вице-канцлер с 1775 г. и номинальный руководитель в международных отношениях со времени смерти Панина (1783), старик Остерман стоял во главе этого ведомства лишь для декорации. Сохраняя это положение, Павел из любви к внешности не мог удержаться, чтобы не внести в него изменение по форме. Ему нужен был канцлер. Остерман получил этот титул, но не удовольствовался им. Потеряв голову от такого высокого назначения, он стал завидовать Безбородке в том, что он фактически ведет дела, и должен был с 21 апреля 1797 г. уступить ему свое место.
Павлу хотелось назначить на этот пост прежнего защитника его отца, Семена Воронцова, бывшего в то время как бы в почетной ссылке, послом в Лондоне. Но сосланному там нравилось. Проводя жизнь в удовольствиях, он предпочитал отдавать им свои досуги, остающиеся от службы, и те часы, когда его не мучила его сердечная болезнь. Безбородко, сам уже утомленный, охотно бы уступил место любому конкуренту, но, по словам Ростопчина, «место держало его сильнее, чем он за него держался», вследствие его полной неспособности отдать отчет в нескольких миллионах рублей, израсходованных при исполнении различных поручений. Очень вероятно, что из-за этого Павел не стал бы бесконечно терпеть присутствие на таком важном посту единственного человека, который, по свидетельству Кобенцеля, «был в состоянии делать ему представления», и смерть второго канцлера, в апреле 1799 г., только предупредила опалу, намечавшуюся в самом близком будущем.
Государь принял без сожаления известие об этой утрате. «У меня все Безбородки!» будто бы сказал он одному иностранному дипломату. По свидетельству Ростопчина, хотя покойный, только за последние шесть месяцев своей жизни получивший 16000 душ, имел чистого дохода 180000 рублей и 80000 десятин земли, не переставал брать обеими руками, особенно вымогая деньги у раскольников, которым обещал свое покровительство; вывозя из-за границы беспошлинно массу товаров, он на их продаже получал громадные барыши. Это была школа Екатерины; но тот же самый человек умел ловкой и твердой рукой вести внешнюю политику России по следам, намеченным императрицей, и упрочить ее престиж. Павел не только не был способен выбрать новых сотрудников, но и употребить с пользой тех, которые остались ему от предшествующего царствования. Что он воспользовался Николаем Архаровым, чтобы предупредить или сломить предполагаемое сопротивление Алексея Орлова, это было в порядке вещей. Екатерина требовала подобных же услуг от этого полицейского, безусловно ловкого, но таланты которого были преувеличены де Сартином, бывшим с ним в переписке. Оценивая правильно его, как человека, и его способности, великая государыня строго и твердо держала его у себя в подчинении. Павел сразу призвал его на пост военного губернатора столицы, и это оказалось гибельным. Сделавшийся в России традиционным в этой сфере способ действий нового проконсула, так как Архаров метил на эту роль, состоял в том, чтобы приводить в отчаяние жителей превышением власти, – грубостью, притеснительными мерами или инквизиторским усердием, – и держать государя в постоянной тревоге донесениями о революционном движении, которое он вызывал своими действиями.
Этот чересчур ловкий плут, как говорят, и погубил себя этой самой ловкостью, слишком зарвавшись далеко в своей предприимчивости. Сопровождая императрицу при возвращении с коронации, он задумал разыграть около самой государыни агента-провокатора, – роль, в которой он так изощрился. Для этого он завел с ней разговор, где делал ехидные намеки на переворот 1762 года, с льстивыми инсинуациями, о смысле которых можно догадаться. Как ни была, по его мнению, наивна Мария Федоровна, однако она сумела не попасть в ловушку. Она передала разговор своему мужу, и 17 июня 1797 г. Николай Петрович был удален, и при своем падении увлек за собой брата Ивана, который хотя и шел той же дорогой в Москве, где занимал такую же должность, но заставил о себе сожалеть, потому что, любя хорошо пожить, проявлял широкое гостеприимство.
В гражданской среде, помимо этих лиц, наследие Екатерины заключало в себе одни посредственности. Героические времена прошли, и фаворитизм дал почувствовать свое вредное влияние. В военной среде славный Румянцев был уже несколько лет в отставке, столько же из-за своего расстроенного здоровья, сколько и из-за ревнивой ненависти внушенной им Потемкину, а другой великий человек оставался еще полон силы в свои почти семьдесят лет, предназначенный после блестящей карьеры на другие еще более блестящие подвиги. Время и придворные интриги пощадили Суворова.
Впрочем, будущий князь Италийский умел, когда хотел, быть очень ловким придворным. Но, доказав свои таланты в этом отношении при князе Таврическом и его августейшей покровительнице, он должен был, по разным причинам, отказаться воспользоваться ими при новом государе. Для начала Павел удостоил его лишь равнодушным взглядом, в котором за презрением скрывалась открытая враждебность. Убежденный сторонник мира, он не думал, что будет нуждаться в этом грозном завоевателе, а Рымникский герой был ярым представителем той самой традиции и школы, которую стремился уничтожить создатель гатчинских команд. О Суворове говорили, что он тоже был в числе лиц, подписавших манифест, которым Екатерина хотела лишить престола своего сына. Наконец в физическом, как и в моральном отношении, хотя он и являлся кумиром своих солдат, но для других мог считаться менее приятным.
Во время пребывания в Петербурге Густава IV, в 1796 году, один из придворных заметил необыкновенное сходство между грозным воином, финское происхождение которого известно, и герцогом Зюдерманландским, сопровождавшим короля, и портрет которого графиня Головина набросала в своих «Воспоминаниях» в следующих выражениях: «Невысокого роста, со смеющимися глазами, рот сердечком, маленький заостренный живот и ноги, как зубочистки».
«Манеры полишинеля, дающие ему вид старого шута», прибавляет Ростопчин. Массон по свойственной ему привычке еще более сгущает краски: «Чудовище, говорит он о Суворове, содержащее в теле палача душу обезьяны». В 1784 году, в письме к Потемкину, где он ходатайствовал о самостоятельном командовании, предмет этих нелестных описаний сам очертил себя следующим образом:
«Служу я более 40 лет и почти 60-летний; одно мое желание, чтобы кончить Высочайшую службу с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей… Наука просветила меня в добродетели. Я лгу, как Эпаминонд, бегаю, как Цесарь, постоянен, как Тюрен, и прямодушен, как Аристид. Не разумея изгибов лести и ласкательств, к моим сверстникам часто не угоден. Не изменил я моего слова ни одному из неприятелей; был счастлив, потому что я повелеваю счастьем».
Оригинальность, доведенная до чудачества, о чем свидетельствует эта исповедь, развивалась в нем лишь постепенно. Десять лет назад переписка Суворова с князем Таврическим не обнаруживала ничего подобного и выказывала его проницательным наблюдателем и точным докладчиком событий, о которых он должен был доносить своему начальнику, и вместе с тем подчиненным, старавшимся сохранить благосклонность фаворита разными услугами, доходившими даже до того, что он послал ему, по его просьбе, трех крымских девушек и одного мальчика!.. Но, начиная с 1798 года, послания русского Цезаря, ставшие из обычно длинных по-царски короткими, обнаруживают умственное расстройство, которое казалось бы несовместимым с выполнением обязанностей, налагающих тяжелую ответственность. В них постоянно встречаются остроумные изречения, перемешанные с совершенно непонятными восклицаниями, в особенности, когда автор пользуется французским языком, что он делает охотно, и только тогда отчетливо выступают: неукротимая, по-прежнему одушевляющая его энергия, снедающая его жажда деятельности, не покидающая уверенность в собственной гениальности и сожаление о невозможности употребить в дело свои еще сохранившиеся силы так, как этого желает его ненасытное честолюбие.
«Моя честь мне дороже всего, пишет он 18 августа 1788 г. из Кинбурна; Бог ее защитник. После этого… я не спичка. Моя рана? Шутка! Два врача и еще третий кричали при своих разглагольствованиях и кончили тем, что удрали от меня, как скаковые лошади. Но она была смертельна и, кажется, мне еще придется с ней провозиться до будущей недели. Вы знаете, что врачи существуют, чтобы скрывать от нас правду… Я чувствую в настоящую минуту и прежние мои раны, но я хочу служить, пока я жив». В одной записке, написанной в то же время, встречается следующая фраза: «Если бы я был Юлием Цезарем, я бы назвался первым полководцем в свете».
Для честолюбца такого склада и нрава не было места в толпе покорных марионеток, выдрессированных Павлом для исполнения его желаний и капризов. Сталкиваясь, причуды этих людей делали почти невозможным продолжительное согласие между ними. Суворов не одобрил военных реформ государя и определил их со свойственной ему живостью в выражениях: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец – природный русак». В январе 1797 г. он навлек на себя строгий выговор нарушением, впрочем, в каком-то пустяке, нового устава. Но, в особенности, он восстановил против себя Павла тем, что открыто разделял отвращение Семена Воронцова к развлечениям «плац-парада». Он говорил, что хорош только для войны, а тщательно разуверенный, но слишком короткий шаг, предписанный солдатам, с которыми он имел обыкновение бежать к победе, был для него предметом отвращения. «Верное средство, ворчал он, чтобы делать только тридцать верст вместо сорока, идя на врага!» Сердясь, порицая и насмехась, он удалился в свое Кобринское имение на Волыни и кончил тем, что подал в отставку. По приказанию императора Ростопчин ответил, что желание фельдмаршала было предупреждено, и 6 февраля 1797 г. после развода был отдан следующий приказ:
«Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь, что так как войны нет – ему нечего делать, за подобный отзыв отставляется от службы».
По уставу эта мера влекла за собой лишение права на ношение мундира, и Павел не находил, чтобы данный случай заслуживал исключения.
Пойманный таким образом на слове, Суворов наделал массу нелепостей. Он торжественно похоронил свой мундир и ордена, отказался принять письмо императора, потому что оно было адресовано фельдмаршалу графу Суворову, «существу, которого больше не было на свете». Он устроил зрелище всем своим кобринским соседям, проскакав вместе со всеми деревенскими мальчишками верхом на палочке, а в апреле был перевезен в Кончанское, свое родовое имение, довольно скромное, находившееся в Новгородской губернии. Поместившись, как княгиня Дашкова, в крестьянской избе, он сделал вид, что удовлетворен вполне. Одетый в панталоны и рубашку, или летом даже вовсе без рубашки, он продолжал играть с молодыми парнями, жил в согласии с их отцами, устраивал свадьбы, примирял семейства, а в праздничные дни читал в церкви Апостол, пел на клиросе и звонил в колокола.
В глубине души он скучал и особенно нетерпеливо переносил надоедливый надзор городничего, приставленного к его особе, по обычаю того времени. Он жаловался также на материальные заботы. Поссорившись с женой, Варварой Прозоровской, племянницей Румянцева, он отказал ей в выдаче денег на ее содержание, ссылаясь на свою собственную бедность, хотя у него оставалось 50000 рублей годового дохода и великолепный дом в Москве. Когда один деревенский сосед, очень богатый, но человек низкого происхождения, приехал его навестить в экипаже, запряженном восьмеркой лошадей, он велел запрячь восемьдесят в свою карету, поехав отдавать ему визит, и на обратном пути пересел в телегу в одну лошадь. В сентябре, не будучи в состоянии долее терпеть, он запросил пощады: «Великий Монарх, сжальтесь над бедным стариком! Простите, ежели в чем согрешил!»
Павел оказался непреклонным; он надписал на полях письма: «Ответа нет». Но в следующем году он, в свою очередь, почувствовал сожаление. Так как его мирные стремления рассеялись и вступление в коалицию против Франции становилось неизбежным, то он послал Кончанское племянника сосланного, князя Горчакова, с милостиво вестью, приглашавшей знаменитого воина в С.-Петербург.
Суворов не торопился ответить на призыв: он путешествовал медленностью, способной вывести из себя в высшей степени нетерпеливого государя, и, приехав, наконец, заставил его дорого заплатит за скуку, испытанную им в своем уединении. Он появился на «плац-параде», чтобы только сделать вид, будто ровно ничего не понимает том, что там происходит, беспрестанно выказывая на лице немой вопрос и покачивая головой, что доставляло большое удовольствие присутствующим. Он обладал большим талантом мистификатора. Напрасно Павел, чтоб его задобрить, ускорял шаг солдат, которых заставлял маневрировать; фельдмаршал внезапно сказался больным, спросил свою карету и пробовал раз десять в нее садиться, устраивая так, что шпага, которую он, согласно уставу, носил прицепленной сзади, задевала за дверцу. Но, главное, он решительно отказался снова поступить на службу, на одну из вновь учрежденных должностей, инспектора армии, для замещения которой Павел не хотел считаться со служебным старшинством. Побывав уже главнокомандующим, Суворов заявил, что слишком стар для того, чтобы учиться новым обязанностям. Если он не получит такой же власти, с полной свободой действий и с правом производства в любой чин, то он предпочитал возвратиться в Кончанское. И через три недели он туда вернулся, а вскоре после того обратился за разрешением отбыть в Нилову пустынь, где намеревался «окончить свои краткие дни в службе Богу». Но и на этот раз он не получил ответа.
Между тем Павел еще не покончил с этим ужасным человеком, пролившим единственный луч славы на его столь темное царствование. Однако они оба не были созданы для того, чтобы жить когда-нибудь в добром согласии, у государя вряд ли дело обстояло бы лучше и с самим Румянцевым, хотя он и поторопился вернуть славного фельдмаршала из полуопалы, которой он подвергся в предшествующее царствование. Смерть, сразившая героя турецких войн в декабре 1796 года, только предупредила, по-видимому, назревавший уже разрыв.
В отношении флота Павел полагал, что получил лучшее наследство после матери в лице Ивана Чернышева, президента Адмиралтейств-коллегии с 1769 года, и эта самонадеянность характеризует недостаток его суждения. Не имея никаких способностей и ни малейшего интереса к службе, на которую он поступил совершенно случайно, этот приятный светский человек, обещавший тоже продержаться недолго, играл в этом ведомстве такую же роль, как старик Остерман в делах иностранных. Чтобы заменить его в одном деле, которого он не мог выполнить сам, Екатерина дала ему в помощники серьезного моряка, Ивана Голенищева-Кутузова. Павел не сумел сделать разницы и вместе со странным титулом «фельдмаршала флота» поручил Ивану Чернышеву командование эскадрами. «Marin d’eau douce, maréchal d’eau salée», острили петербуржцы.
Морской штаб был в не очень блестящем состоянии со времени увольнения иностранных офицеров, которым Екатерина была обязана своими морскими победами. В сентябре 1796 г. совет Директории получил от одного из своих агентов, Барре де Сен-Лё, жившего довольно долго в России, следующую записку по этому поводу: «Адмирал Мордвинов – главнокомандующий в Черном море. Он моряк вопреки самому себе… Вице-адмирал Рибас – самый неспособный военный и самый хитрый интриган, какой только может существовать. Контр-адмирал Пустошкин умеет говорить только глупости». Барре допускал при этом возможность подкупить большинство из этих командиров и даже самого Мордвинова, хотя он и «порядочный человек».
Лучший из русских адмиралов, прославившихся в предшествующее царствование, Василий Чичагов, был уже не у дел из-за возраста и болезненного состояния. Сын этого храбреца, Павел, получивший образование в морском училище в Англии, был теперь в чине капитана первого ранга и считался очень достойным офицером. Но так как его отец приехал в Петербург для лечения болезни, не спросив на это разрешения, Павел грубо заставил его покинуть столицу. Оскорбленный со своей стороны этой несправедливостью, жертвой которой считал себя, сын подал в отставку, и пронесся слух, что он собирается поступить в английский флот. Павел Васильевич действительно просил паспорт для того, чтобы жениться в Англии на одной молоденькой англичанке. По воле случая в этот же самый момент царь, снисходя на лестные указания английского правительства, пригласил его занять должность помощника командира во вспомогательной эскадре, которую он собирался послать к берегам Голландии. Чичагов почуял ловушку. Он предполагал также, что окажется под началом товарища моложе его по службе. Он выразил поэтому желание поступить лучше в Балтийскую эскадру. Но государь увидел в этом поступке только ослушание, и из-за этого произошла бурная сцена, послужившая предметом самых разнообразных рассказов.
Потребовав непокорного в Павловск, государь будто бы так рассердился, что даже его ударил, после чего адъютанты государя раздели офицера до рубашки, разорвали на клочки его мундир и сорвали ордена. Достоверно лишь то, что произошел жаркий разговор, во время которого Павел, вероятно, не смог себя «сдержать» и в результате которого Чичагов был на довольно короткий срок – с 21 июня до 1 июля 1799 года – посажен в крепость. Желание дать удовлетворение Англии одержало затем верх в сознании государя, и он в очень деликатной форме принес публичное извинение. По его словам, он дал себя убедить, что Чичагов был увлечен революционными идеями. Однако он не хочет обращать на это внимания.
– Если вы якобинец, вообразите, что я ношу красную шапку, как глава всех якобинцев, и служите мне!
Чичагов получил главное начальство над эскадрой, назначенной действовать совместно с Англией, и женился на мисс Проби.
Недостаток в подходящих людях вынуждал наследника Екатерины не раз идти на подобное примирение. В этом наследии Павел не пренебрегал даже любовниками своей матери. Один из самых незначительных среди них, Завадовский, получивший графство во время коронования нового государя, потом назначенный в Государственный Совет и в Сенат, пользовался вдобавок еще особенным благоволением Марии Федоровны, которая привлекла его, в качестве сотрудника, в Воспитательное общество, состоявшее под ее руководством. Он последовательно управлял, и довольно неумело, Дворянским и Ассигнационным банками и не избежал в 1799 году увольнения от службы, мотивированного хищением в несколько тысяч рублей, в котором он, кажется, не принимал никакого участия, но получил скоро возможность снова войти в милость. Однако он ей не воспользовался; Павел царствовал уже несколько лет, и для большинства людей, входивших с ним в соприкосновение, отставка становилась благодеянием. В 1797 году старший сын государя сам мечтал добиться каким-нибудь образом освобождения от своих многочисленных обязанностей. Завадовский дождался восшествия на престол Александра и выступил тогда в качестве председателя Законодательной комиссии. Со своей стороны Павел, объявивший когда-то, что разгонит хлыстом всех сотрудников своей матери, с удовольствием сдержал бы свое слово. Однако этих людей, признаваемых такими злонамеренными, нужно было заместить, а материала не было, равно как и умения им воспользоваться.
II
Пользовавшиеся покровительством Нелидовой, оба Куракина были вначале предназначены к управлению, под руководством государя, внешними и внутренними делами империи. Старший, Александр Борисович, будущий посланник в Париже при Наполеоне, был другом детства Павла и его спутником во время путешествия на Запад. Скомпрометировав себя в 1782 г. оскорбительной для Екатерины и перехваченной ею перепиской, он стал от этого еще милее своему сообщнику и пользовался вместе с благоволением фаворитки и благосклонностью Марии Федоровны. Осыпанный почестями и богатством, он занимал пост вице-канцлера, но показал себя совершенно неспособным даже на самую скромную роль. В 1798 году, когда положение Нелидовой снова пошатнулось, и он заговорил об отставке, Павел удивился:
– Зачем же ему покидать место? Ведь он, и оставаясь на нем, ничто!
Несмотря на свою склонность к восточной роскоши, распутству и хищениям, младший, Алексей, был лучше и обладал некоторыми качествами государственного человека и некоторыми идеями, давшими ему место среди предшественников преобразовательной работы следующего века. В бытность свою министром внутренних дел при Александре I, он, сделал опыт со своими крестьянами, и тем положил начало освобождению крепостных. При Павле он, вероятно, проповедовал некоторые либеральные меры, которые, хотя и были плохо поняты и еще хуже применены к делу, но обнаружили в этом смысле прогресс и послужили к чести царствования. Однако в бытность генерал-прокурором, членом Государственного Совета или министром Уделов, он только прозябал на этих постах. В борьбе с завистью государственного казначея Васильева, находившего, что этот соперник «берет на себя слишком много по своему положению», и ненавистью Ростопчина, обращавшегося с ним, как «с бездельником, который крадет, все путает и выпрашивает без всякого стыда», Алексей Борисович не мог удержаться и в 1798 году разделил опалу брата.
За отсутствием Воронцова, который с каждым годом все решительнее отвечал отказом на все просьбы заменить старшего Куракина, Павел не нашел в октябре 1798 года никого другого, кроме родного племянника самого канцлера, уже ослабевшего и близкого к смерти, Виктора Кочубея, тоже малоросса. При жизни дяди этот выбор являлся чистейшей формальностью и впоследствии уже больше не удовлетворял государя, избравшего Никиту Петровича Панина, тоже молодого человека, не достигшего еще тридцатилетнего возраста.
Сын и племянник двух прежних вдохновителей «претендента», пруссоман, как его дядя, дипломат, но приверженец сильной власти, как его отец, генерал; убежденный сторонник союза с Англией, но заклятый враг республиканской Франции, он тоже был другом детства Павла. Этим и объясняется его быстрое возвышение. Будучи в 1795 году, в двадцать четыре года, гродненским губернатором и командиром бригады, Никита Петрович через три года оставил военную карьеру для дипломатической и был сразу назначен полномочным министром в Берлин. С этого времени он присоединил к блестящим способностям раннюю зрелость ума и безграничную веру, иногда недостаточно обоснованную, в свои таланты и правильность своих стремлений. Обладая властной натурой, он принадлежал к той категории людей, которые, как противовес бездействию и раболепству ее бюрократического организма, всегда появлялись из недр России, чтобы время от времени, часто ей на пользу, дать восторжествовать свободной инициативе. При Павле подобный темперамент не мог найти благоприятной почвы своему развитию, и это обстоятельство быстро довело Никиту Петровича сначала до неблаговидных поступков, а потом, когда он уже очутился в безвыходном положении, сделало из него заговорщика, что погубило его карьеру и повредило репутации.
В 1799 году он был назначен вице-президентом коллегии Иностранных Дел; но там уже распоряжался Ростопчин, и хотя не получал пост канцлера, оставленный вакантным, однако имел преобладающее значение, которым твердо решил воспользоваться в смысле своих политических симпатий, правда, очень непостоянных, но неизменно склонных окружать одинаковым пренебрежением друзей и врагов своего государства. Сохранив за собой право личного доклада государю, что и доныне остается предметом самых жадных исканий, он предоставлял своему коллеге одни неприятные стороны службы, устраивая еще так, чтобы тот получал такого рода высочайшие напоминания:
– Чтобы поменьше разговаривал с иностранными послами и помнил, что он только инструмент.
Никита Петрович начал скоро завидовать своему предместнику, который, будучи счастливым супругом нежно любимой жены, Марии Васильчиковой, удалился в свое имение Диканька, Полтавской губернии, и там ожидал восшествия на престол Александра, когда он вновь принял управление департаментом, в котором раньше только промелькнул. При Павле Панину не долго пришлось ждать своей очереди, чтобы последовать за Кочубеем в отставку. В ноябре 1800 года, после «перлюстрации» депеш прусского посла, графа Лузи, было донесено императору, что вице-канцлер не одобряет объявленного в это время запрещения английским судам выхода из русских портов. Панин, дававший в этот день большой дипломатический обед, мог добиться лишь с большим трудом, чтобы объявление об его увольнении было отложено на несколько часов. Высланный в Москву 15 ноября 1800 года в качестве простого сенатора, он был вынужден месяц спустя удалиться в свое имение, где, однако, злоба Ростопчина не переставала его преследовать.