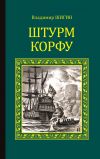Читать книгу "Сын Екатерины Великой. (Павел I)"

Автор книги: Казимир Валишевский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Последний начал с того, что отказался от попытки, которую считал невыполнимой. Его русский коллега доводил выражение враждебности по отношению к представителю Франции до того, что избегал встречаться с ним в обществе! Это был барон Крюденер, муж будущей эгерии Александра I и один из самых ярых галлофобов русского дипломатического корпуса. Некоторые разведки, произведенные первым датским министром, графом Бернсторфом, и испанским послом Нормандесом, обнаружили в нем действительно полную недоступность для начатия каких бы то ни было переговоров в этом духе. В то же самое время, в разных других столицах, агенты Республики встречали подобный же прием.
Все оставалось в этом положении до июня 1797 г., когда, после отозвания Крюденера, заменивший его полномочный министр Васильев, потом его преемник Качалов, зять Сергея Плещеева, внезапно, по собственной инициативе, вошли в переговоры с Грувелем, а когда последний в свою очередь ушел, то с его заместителем Дезожье. Оба французских дипломата были крайне удивлены проявлением чувств, которых они вовсе не ожидали.
«Устраним дипломатические хитрости», говорил Качалов Дезожье; ваше правительство предложило сближение, мое этого желает. Есть ли у вас или у г. Грувеля полномочия, чтобы вести переговоры? Я знаю, что в Берлине Колычев уже переговаривается с Кальяром; но он не пользуется доверием императора. Мы не воюем между собой. Поэтому нам не надо возвращать завоеванного. Мы должны только протянуть друг другу руку.
Сношения, начать которые не удалось в Копенгагене, действительно завязались в Берлине, где Талейран, заменявший в этот момент Делакруа в руководстве внешними делами, находил своевременным сосредоточить эти переговоры, которые, казалось, принимали такой хороший оборот. Торопя Кальяра действовать и желая использовать добрые услуги Пруссии, не отдавая себя однако целиком в ее руки, Делакруа не раз натыкался вначале на тяжелые неудачи. Он хотел, чтобы французский посол прямо вступил в переговоры со своим русским коллегой посредством официальной ноты, и он заставил своего подчиненного дать ему этот урок дипломатического savoir-vivre: «Человек мало просвещенный и крайне осторожный, г. Колычев не принял бы, конечно, подобного документа от правительства, которого не признает его государь… Эти вопросы формы заслуживают несомненно пренебрежения, но, к несчастью, они связывают еще всех министров, за исключением министров Республики». С другой стороны Берлинский кабинет стремился удержать эти переговоры исключительно в своих руках. Он уже сделал некоторые шаги в Петербурге и добился там первого результата: Павел подписал указ, который снимал запрещение, наложенное на вина и другие продукты потребления французского происхождения. Тем же путем Кальяр должен был передать в Россию ноту, текст которой он составил вместе с Гаугвицем в следующих выражениях:
«Нижеподписавшемуся… поручено Директорией сообщить министрам Его Величества о желании Республики восстановить мир и дружеские связи, существовавшие до войны между Францией и Россией, и о намерении Директории начать переговоры по этому вопросу».
Нота была отправлена в феврале 1797 г. Ответ заставил себя ждать. В продолжение следующих четырех месяцев, повинуясь точным распоряжениям, Колычев соглашался, хотя и неохотно, не избегать более своего французского коллеги, он оставался нем, и из Петербурга никакое эхо не отвечало также на призыв Франции. Среди хлопот о своем короновании, разочарований, которые ему доставляла в этот момент прусская политика, и его обычной нерешительности, Павел упускал время. Только 3 июня, находясь на водах, в Пирмонте, Фридрих-Вильгельм уведомил своего уполномоченного в Париже, Сандоза, о сообщенном ему, наконец, решении царя. Под видом объяснительной ноты, предъявленной не представителю французского правительства, но врученной графом Безбородко Тауентцину, она дала начатым переговорам совершенно неожиданный оборот.
«Его Императорское Величество, говорилось в ней, очень расположен выслушать предложения, которые поручено господину Кальяру ему передать… Он охотно согласится на все, что может восстановить добрые отношения между Россией и Францией, в особенности если они могут оказаться полезными союзникам. Он не хочет ничего другого, как направить свои усилия к сближению воюющих держав и восстановлению спокойствия, и он готов принять непосредственное участие в общем успокоении, с условием разделить его с Его Величеством, королем Прусским, и выступить в качестве посредника».
Случайно или умышленно, Павел дался в обман относительно намерений Директории. Его просили согласиться на примирение с Францией при посредстве Пруссии, а он предлагал выступить в качестве посредника между Францией и коалицией! Однако он не давал никаких указаний, в каком смысле он собирался приступить к выполнению поручения, которого добивался, и по следующей причине: он еще далеко не пришел в этом вопросе к определенному решению. Две другие инструкции, написанные 15 и 19 апреля, первоначально предназначенные для князя Репнина, красноречиво об этом свидетельствовали. В одной из них, подтверждая необходимость «обуздать домогательства Франции», царь соглашался, чтобы «в случае крайней необходимости» Рейн сделался границей Республики; в другой, предлагая для умиротворения собрать конгресс в Лейпциге, или каком-либо другом немецком городе, он хотел, чтобы французские притязания относительно этой самой границы «были категорически отвергнуты»!
Французское правительство могло, очевидно, лишь с величайшим недоверием отнестись к предложению посредничества, представленному в такой неопределенной форме. В Берлине Кальяр сначала не отдал себе отчета. Он весь предался радости, узнав, наконец, о переговорах, которых так долю добивались. Прусский министр Финкенштейн предложил позвать их обедать вместе с Колычевым. Итак, начнутся переговоры! Французский посол принял приглашение и остался очень доволен своим русским коллегой. Он не был упрям! Не имея еще права взять на свою ответственность принять визит представителя Республики, и еще менее поехать к нему лично, чтобы иметь возможность так или иначе поболтать без свидетелей, Колычев предложил встретиться в городском парке, нынешнем Thiergarten. Можно бы сказать – любовное rendez-vous!
Кальяр покорно согласился на это неприличие, и они поболтали; но немедленно выяснилось, что у них не было никаких шансов прийти к соглашению. Вскоре действительно Талейран высказал свое мнение по поводу посредничества царя и, конечно, находил его абсолютно неприемлемым. «Оно дало бы, говорил он, России средство вмешиваться во все дела Германии и оказывать на них огромное, и тем более опасное влияние, что, когда она присоединится к Австрии, оба императорских двора представят совместно силу большую, чем Пруссия и протестантская сторона». Таким образом, согласие на ведение переговоров с Россией должно было ограничиться восстановлением мира и добрых отношений между обоими государствами, возобновлением торговых сношений как с самой дружественной нацией, по конвенции 11 января 1787 г., и обещанием дальнейшего соглашения для нового торгового договора.
В то же время Колычев был замещен в Берлине Паниным, человеком, менее всего созданным для того, чтобы помочь сближению, оказавшемуся таким трудным вследствие разницы в идеях и намерениях той и другой стороны. Нам известны симпатии и предубеждения этого дипломата. Его жена, дочь графа Владимира Орлова, сопровождающая его в Берлин, сама обнаружила там галлофобию, доведенную до причудливости. Однажды она при свидетелях изорвала в клочки портрет, для которого позировала, потому что художник выразил намерение отправиться в Париж для усовершенствования своего таланта! С другой стороны. Лондонский и Венский дворы, предупрежденные теперь о переговорах, начатых в Берлинском «парке», употребляли все усилия, чтобы положить им конец. Они сами договаривались с Республикой, первый в Лиле, второй в Монбелло и Удине, но кричали очень громко, что Россия «обесчестит себя», последовав их примеру. Старания французских эмигрантов в Петербурге, деятельность графа де Сен-При, которого Людовик XVIII представил, как своего министра, усиленные попытки самого принца Конде были направлены к одной и той же цели, и это отзывалось на инструкциях преемнику Колычева.
Считая лично переговоры, начатые с «цареубийцами», «позорными», он имел однако приказание их продолжать, но не принимать для них ни одной из баз, указанных Талейраном. Нет больше возврата к прежним торговым договорам: высшие интересы противились привозу в Россию предметов роскоши французского производства. Не могут быть даже более восстановлены дипломатические сношения между обоими государствами: они могут послужить средством для проникновения революционной заразы. Но о чем тогда и для чего договариваться? Панин был, правда, предупрежден, что эти слова о незаинтересованности не имели ничего безусловного. Он должен был оказаться непримиримым лишь в вопросе об эмигрантах, в случае, если притязания Франции дойдут до желания запретить России свободное проявление ее гостеприимства. Наконец, он не замедлит порвать всякие сношения, если «дерзость французского правительства дойдет до того, что оно предложит возвратить прежние польские территории, присоединенные к империи».
В общем, посредник получил повеление исключительно отрицательное, и в доброй половине напрасное, так как Директория не обнаруживала ни малейшего намерения препираться из-за эмигрантов, принятых в России, или из-за Польши. Кроме того, соглашение с республикой, поставленное на такую почву, без всякого видимого повода, находилось еще в зависимости от ее согласия на посредничество, которого, в особенности при этих условиях, как это можно было вполне ясно предвидеть в Петербурге, Париж не захочет.
Это был провал, и Безбородко, принужденный составлять свои инструкции под диктовку государя, это предвидел. Тем не менее, он настоял, чтобы переговоры, даже лишенные всякого смысла, продолжались. В этой пустоте, думал он, соприкосновение обеих сторон приведет, наконец, к чему-нибудь реальному, воплотив намерение прийти к соглашению, которые там все-таки обнаруживались. Он вовсе не любил революционной Франции, но находил, что какое-нибудь соглашение с ней становилось естественным следствием нового порядка вещей, созданного в Европе победами Бонапарта. Раз Австрия после Пруссии выбыла из числа воюющих, и сама Англия делала вид, что хочет за ними последовать, ради чего Россия, не принимавшая прямого участия, должна была быть одна замешана. Определенная логика события должна была восстать перед представителями обеих стран и привести их к соглашению.
Рассуждение было бы правильно, если бы Россия имела в Берлине своим представителем какого-нибудь Качалова. Но там, где мысль самого Павла неуверенно колебалась, Панин представлял, в этот момент, противоположный полюс. Получив, в сущности, свободу следовать личным, известным нам, соображениям, он не замедлил ей воспользоваться. С первого слова он вопросом о посредничестве сделал Кальяра неспособным вести переговоры. Это было, по его утверждению, необходимым началом всяких полезных переговоров. Он сделал однако вид, что готов приступить к редактированию проекта договора; обсуждал статьи, предлагал исправления и кончил даже тем, что принял текст, который, уверял он, вполне его удовлетворяет. Но когда дело было доведено, после бесчисленных и многотрудных конференций, до благополучного конца, он заявил, что не имеет полномочий говорить от имени своего государя. Все, что он мог сделать, это передать проект в Петербург.
Бедный Кальяр дошел однако до последней границы уступок, которых можно было от него ожидать, и даже перешел ее. Не потому, что, как обвиняли его немецкие историки, он будто допустил, чтобы во вступительной части французского текста русское правительство стояло раньше правительства Республики. Как искусный дипломат, Кальяр был неспособен на такое забвение приличий. Щадя обидчивость царя, он только согласился на то, чтобы Директория принимала участие в договоре от своего имени, как договаривающаяся сторона, а не от имени Республики, по установленной формуле. В Париже на это не обиделись; но проект возбудил там другие, более веские, возражения.
Историк, вообще хорошо осведомленный, обвинял французского дипломата в том, что он подписал договор, в котором находилась следующая статья: «Каждый подданный одной из договаривающихся держав, пребывая во владениях другой, посягнувший на ее безопасность, подвергнется тотчас же ссылке, и ни в коем случае не может быть потребован своим правительством». Как заметил Сорель, это не только означало бы – со стороны Директории отказ от революционной пропаганды, а со стороны России небрежение делом короля Людовика, так как одна жертвовала французскими, а другая польскими эмигрантами, но жертва коснулась бы самых существенных прав обоих правительств, и Кальяр тем более не был таким человеком, чтобы на это пойти. На самом деле он ничего не подписывал. Он только согласился на предварительное редактирование известного числа статей и именно не согласился принять ту, которую предлагал Панин. Он предложил ему взамен другую, составленную так: «Отдельные представители каждой из двух наций будут иметь возможность свободно путешествовать во владениях другой и будут пользоваться покровительством правительства. Вполне понятно, однако, что вышеупомянутые путешественники не могут никаким образом вмешиваться во внутреннее управление, чтобы поддерживать сношения, нарушающие общественный порядок». Разница была большая. Тем не менее, этот самый текст был признан неприемлемым в Париже. «Директория, – писал Талейран, – никогда не согласится на такие неопределенные, такие бесполезные условия, которые дали бы самовластному и капризному правительству случай преследовать по самым пустяшным поводам французов, оказавшихся в России, I и отвергать даже наши требования».
Но в Петербурге проект был еще хуже принят. Безбородко нашел его условия «вполне скромными и подходящими». Только он не обладал властью заставить разделить свое мнение. Павел, все более поддававшийся одновременным внушениям Австрии и Англии, несмотря на то, что претендовал показать им свою независимость, не сумел придать серьезного характера этим самым переговорам, которые он параллельно вел с республикой. Он даже не хотел, чтобы говорили о восстановлении мира и дружбы между обоими государствами: он не считал себя в войне с Францией и не желал сделаться ее другом. Он хотел также, чтобы заключение какого-либо соглашения с этой державой было поставлено в зависимость от благоприятного исхода переговоров, начатых между ней и Австрией и Англией. В этом смысле был составлен рескрипт Панину и, так как именно в это время английские и французские полномочные министры покинули Лиль, то это означало разрыв.
Вследствие вмешательства Безбородко, рескрипт не был отослан, и другое послание просто приглашало русского министра прекратить переговоры, стараясь, однако, удержать французского коллегу в мирном настроении. Огорченный, что ему не удалось добиться лучших результатов, Витворт, однако, полагал, что выраженная таким образом забота Павла щадить республику происходила от зарождающейся в нем симпатии к правительству этой страны, а также не от недостатка дружбы к союзникам. Как всегда, царь повиновался чувству страха. «Его лучшим другом будет всегда тот, кого он будет больше бояться». Но можно угадать, какое применение дал Панин этим новым инструкциям.
Кальяр остолбенел, когда в первых числах октября 1797 г., назначив ему опять свидание «в парке», русский посол «начал свою очень сухую, серьезную, очень замысловатую речь, в которой слова медленно следовали одно за другим», чтобы объявить своему коллеге, что, «по изменившимся обстоятельствам, император видит себя вынужденным отложить до более благоприятного времени начатую работу». Что изменилось за один месяц во Франции или в Европе? Кальяр вообразил, что в Петербурге получили известие о происках роялистов, разрушенных переворотом 18 фруктидора (4 сентября 1797 г.). Но нет! Панин уверял, что не получал никаких указаний, оправдывающих это подозрение. В то же время он дурачил своего коллегу, проявляя большое любопытство по поводу контрпроекта договора, полученного, по словам Кальяра, из Парижа. Русское правительство, значит, не оставляет намерения о договоре! Через несколько дней новая просьба о свидании со стороны Панина, по-видимому, подтверждала это предположение. Переговоры возобновятся! Увы! на этот раз французский посол прибыл «в парк» по дурной осенней погоде для того, чтобы узнать, что царь рассержен: русский консул, Загурский, был арестован на острове Занте французскими властями, с нарушением международного права, и, вследствие этого, Кальяр должен считать переговоры окончательно прерванными.
В письме, написанном несколько дней спустя к Семену Воронцову, русский министр приводил другую причину разрыва; отказ со стороны Франции от предложенного Россией посредничества. Но ни по этой, ни по другой причине, как ни был сердит Павел на происшедшее в Занте, его представитель в Берлине не получал распоряжения прервать переговоры. Сообщив лорду Эльджину о том, как он издевается над французским послом, и стараясь только вовлечь Пруссию в антиреволюционпую коалицию, он, как Воронцов в Лондоне, следовал только своему собственному мнению. Спустя несколько недель, в декабре, он остановил Кальяра на улице, чтобы сказать ему, что если Директория даст России полное удовлетворение по поводу Загурского, то можно будет возобновить переговоры.
Разумеется, Талейран не ставил никаких затруднений по этому вопросу: но, хотя переговоры и были возобновлены, они дали не больше результатов, чем прежде. Не обращая внимания на формальные приказания, предписывавшие ему войти в сношения с представителем республики, хвастаясь перед Воронцовым и другими лицами, состоящими с ним в переписке, что он с ними вовсе не считается, Панин ничего не щадил, чтобы дискредитировать злополучного Кальяра и скомпрометировать его правительство, и вкладывал в эту игру столько же интриги, сколько и недобросовестности, которые Павел не замедлил вскоре испытать на самом себе. Он заявлял, что подкупил шифровщика министра, и хвалился сделанными таким путем открытиями, приписывая французской дипломатии проект, чисто вымышленный, о восстановлении Польши, в котором, по слухам, принимал участие принц Генрих.
В 1796 г., еще при жизни Екатерины, Директория действительно получила записку, автор которой, очень плохо осведомленный, основывался на бракосочетании принцессы Луизы Прусской с принцем Антоном Радзивиллом, чтобы приписать такого рода намерения Берлинскому кабинету. Делакруа сообщил этот документ даже не Кальяру, а второстепенному агенту Парандье, которого содержал в Пруссии на жалованье в тысячу ефимков в год и которого по большей части употреблял для собирания сведений об умственном движении в присоединенных к этому государству польских провинциях. Этот корреспондент, хотя и большой полонофил, и женившийся вскоре после того на польке, счел известие фантастическим. Принц Генрих был действительно сторонником восстановления Польши, но не пользовался вовсе влиянием, а свадьба принцессы Луизы имела своим поводом только несметные богатства, впрочем неправильно приписанные этой относительно не очень богатой ветке знаменитого польского рода. С тех пор Парандье продолжал посылать Директории донесения о том же самом предмете, к которым Кальяр прибавлял иногда комментарии в том же смысле, и это было все. Французские историки сами допустили существование интриги, в которой будто бы принял участие представитель республики в Берлине в пользу польского дела.
Директория была так мало расположена выйти в этом отношении из соблюдения условий, которые предписывали ей обстоятельства и обязательства, принятые по Базельскому договору, что немного позже было достаточно полученного из Берлина указания, чтобы она отказалась от предположения принять Костюшко в армию на Рейне.
Сам Павел не поверил доносам Панина. Но последний тотчас же перешел на другой предмет. Обвиняя Гаугвица и его сотрудников и сопоставляя их политику с политикой их государя, он выставил их собирающимися вести переговоры с Кальяром о наступательном союзе. Это опять было далеко от истины. Только в мае 1798 г., т. е. несколько месяцев спустя после того, как прекратились все сношения между ним и его русским коллегой, Кальяр получил предписание добиться от Пруссии такого рода соглашения. Он потерпел полную неудачу, и это было причиной его отозвания и замещения Сиэйсом, на которого Парижский кабинет возлагал больше надежд, а тем временем все сильнее обнаруживались «переменчивые желания» Павла.
Раздраженный донесениями своего посла в Берлине, царь был склонен сначала дать ему распоряжение – ниспровергнуть прусского министра! Панин сказал, что он в состоянии это сделать; но те средства, которые он предложил пустить в ход, не понравились царю. Он хотел, с одной стороны, чтобы Россия приняла угрожающее положение, «выдвинув вперед пушки», а с другой стороны, предложил перлюстрировать переписку Кальяра. Павел нашел первое средство неосторожным, а второе бесчестным; но совершенно сбитый с толку оборотом, приданным его послом переговорам, относительно которых он сам не знал, на какую ногу он хочет их поставить, он решился 5/16 февраля 1798 года повелеть окончательно прекратить начатые переговоры с Кальяром.
Директория, со своей стороны, больше не настаивала. Инструкции, данные в мае 1798 года «гнусному Сиэйсу», как называл его Панин, не заключали в себе ни одного слова относительно России. Они только касались предстоящего усилия для окончательного приобщения Пруссии к французским планам как войны, так и мира, и отражения натиска, который вместе с князем Репниным и князем Рейссом производили в тот же самый момент Петербургский и Венский дворы, чтобы волей или неволей бросить ее в ту самую коалицию, которой целиком отдался сам Павел.
VI
Витворт хвастался тем, что русский канцлер вполне ему предан, и что ему не раз случалось в этом убедиться, но Безбородко был искренно огорчен неудавшейся попыткой, для достижения успеха которой, хотя в него и не очень верили, он приложил все свои старания. В этом малороссе за личиной добродушия скрывалось огромное уменье к притворству, и если он оставался предан союзному плану, принятому Екатериной, он не хотел, чтобы Россия играла в нем рабскую и низкую роль. В письме к Семену Воронцову, написанном в сентябре 1797 г., он высказал так свои личные взгляды:
«Теперь я должен ревелировать два ваши сомнения: одно, касающееся до войск принца Конде, другое до связи нашей с Австрией. Французы весьма равнодушно на первое взирают, да еще и рады были, что мы берем сию армию в свою службу и землю, выведя ее из близости, ибо там все она им омбражи делала. Что до второго касается, мы, конечно, не кинемся на французов за австрийцев; да сии последние и сами нам теперь сказали, что, ежели воспалится вновь война, они от нас никакой помощи не требуют, а единственно домогаются, чтоб мы удерживали короля Прусского от деятельного в ней участия».
После подписания Кампоформийского договора канцлер горячо протестовал против того, чтобы Россия оказала вооруженную поддержку Австрии, из-за нарушения обязательств, принятых последней на себя. Но он не был хозяином. Пренебрегая умом и опытом своего министра, Павел в ловушку, от которой его напрасно предостерегали. Ловко применяясь к его вкусам, принц Фердинанд Виртембергский превосходно помогал Витворту и Дитрихштейну, толкавшим государя в эту западню. Он воодушевленно говорил об участии России в новой войне против Франции, ставшей неизбежной после всего происшедшего в Берлине. «Каша заварилась! Возгордившись своими успехами, правительство республики считало, несомненно, обращение со своим представителем равным объявлению войны. Спорить о том, будет ли эта война, или нет, больше нечего; надо подумать о способах провести ее с пользой».
Так как государь еще сопротивлялся, принц принимал угрюмо-грустный вид. «Махнув уже рукой на всех монархов, он видел, что ему следует махнуть и на императора Павла!»
8 июня 1798 года, после жарких прений, царь сдался; на другой день он продиктовал принцу штат армии, от 60 до 70000 человек, которая будет двинута к прусской границе, и в следующие дни Дитрихштейн и Витворт думали только о том, как бы его сдержать, так он, по-видимому, рвался в сражение!
В этот момент Венский двор еще вовсе не был готов вновь выступить в кампанию. Он даже еще не решился окончательно попытать опять счастье в войне и во всяком случае не хотел на это идти, пока не будут испробованы все средства к достижению соглашения с республиканским правительством, и в то же время ему хотелось, чтобы Павел отверг предложения этого правительства. Он еще не привел окончательно в порядок своих сил, и Тугут сомневался в дарованиях генералов, которые должны были командовать ими. Он не очень доверял решениям Павла, находил желания Англии слишком деспотическими и считал Пруссию безвозвратно проданной французам. Он должен был считаться также с конгрессом в Раштадте, где, при содействии Берлина, Германия энергично противилась возобновлению войны. В силу всех этих причин он продолжал переговоры с Директорией.
Но Павел не хотел ничего этого знать. Настолько же воинственный теперь, насколько он раньше был миролюбивым, он строил планы кампании и составлял проекты прокламаций: «Кто не со мной, тот против меня!»
Приказав своему послу в Константинополе, генералу Тамаре, возбудить вопрос о союзе с Турцией, он устроил пышный прием одному черногорскому разведчику, Николаю Черноевич-Давидовичу, и надеялся соединить в союзе против Франции, не сумеем сказать каким образом, полумесяц со знаменем южных славян! Правда, он вдохновлялся в этом еще и по другой причине: с 1767 г., когда один из многочисленных Лже-Петров III (Степан Малый) появился в Черногории, отношения России с этой страной были натянуты. Поэтому Павел охотно отказался даже и здесь от политики своей матери. Но это могло быть нежелательно для Австрии из-за Боснии, которую черногорцы требовали уже назад, тогда как в Вене намеревались сделать из нее предмет обмена с Францией. Сын Екатерины об этом не думал. Он, по своему обыкновению, не знал меры, и принцу Фердинанду пришлось скоро самому постараться охладить несколько его пыл. Павел теперь давал больше, чем от него требовали!
Пока было достаточно, чтобы Австрия заручилась твердым обещанием получить русский корпус, который она своевременно употребит на пользу общих интересов. Но призванный таким образом к действительности, Павел тотчас же спохватился и возвратился к своим сомнениям. Он вычислил предстоящий расход и пришел в ужас. Если бы еще Англия согласилась взять на себя содержание этого корпуса! Принц Фердинанд протестовал.
– Как! разве вы не заявили, что не хотите продавать свои войска, как ландграф Гессенский? Вы миллионы раздаете своим фаворитам, и задумываетесь над тем, стоит ли пожертвовать несколько сот тысяч на спасение Европы!
Аргумент подействовал, и вследствие настояний принца получить письменное подтверждение, «потому что великих всегда двое, один говорит, другой пишет, а считаются только с последним», Павел подписался на клочке бумаги. Но на другой день он, по-видимому, в этом раскаялся. Безумие, которое он собирался совершить, предоставляя золото и кровь своего народа на пользу дела, в котором он не был заинтересован, ясно представлялось его уму. Республика в это время уже утратила для него свой неприятный характер; она постепенно успокаивалась, и он не имел более никаких серьезных причин начинать войну против нее; но взятие в этот момент французами Мальты оказало на него решительное влияние и дало определенное направление его желаниям. На этот раз он попался окончательно и сделался совсем послушен этой коалиции иностранных интересов, пленником которой он стал. Но он уже давно ступил ногой в эту западню.