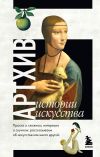Текст книги "Взгляните на картины"

Автор книги: Кеннет Кларк
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Веласкес
«Менины»

Веласкес. Менины. 1656
Наше первое ощущение: мы не снаружи, а внутри этой сцены, чуть правее королевской четы, чье отражение смотрит на нас из зеркала в глубине. С нашего места хорошо виден строгий интерьер (единственное украшение – копии с картин Рубенса работы дель Масо) в покоях дворца Алькасар, где и разворачивается повседневная сценка из жизни королевской семьи. Инфанта, донья Маргарита, не хочет позировать художнику: Веласкес пишет ее с тех пор, как она научилась держаться на ногах, а сейчас ей уже пять, и с нее довольно! Однако нынче особый случай: прямо на полу стоит холст гигантского размера, и, значит, на портрете инфанта будет изображена вместе с венценосными родителями, так что девочку любыми способами нужно уговорить. Ее фрейлины, которых по традиции называют португальским словом meniñas, как могут увещевают маленькую госпожу; на помощь призвали придворных карликов Марибарболу и Николасито, чтобы поднять ей настроение. Но карлики не столько забавляют инфанту, сколько беспокоят – как беспокоят и нас с вами, – и пройдет еще некоторое время, прежде чем художник сможет приступить к работе. Насколько известно, гигантский официальный семейный портрет так и не был написан.
После всего, что теоретики успели поведать нам о природе искусства, довольно странно начинать разговор о великой картине с утверждения, будто бы на ней отображен эпизод реальной жизни. Но ничего не поделаешь – таково мое первое впечатление, и если бы кто-то сказал мне, что его первое впечатление в корне отлично от моего, я воспринял бы это с долей скептицизма.
Разумеется, остановив взгляд на полотне Веласкеса, мы вскоре с удовлетворением замечаем, что атрибуты иллюзорного мира видимостей здесь также присутствуют. Холст разделен на четыре равные части по горизонтали и на семь по вертикали. Менины вместе с карликами образуют треугольник; основание под ним занимает одну седьмую общей высоты, а вершина располагается на отметке четыре седьмых; внутри большого треугольника – три малых с инфантой в центре. Однако эти и другие композиционные приемы – не более чем прописные истины сложившейся традиции. В XVII веке любой итальянский мазила мог построить точно такую же схему, но результат ни в коей мере не заинтересовал бы нас. Как ни удивительно, вся эта математика – ничто по сравнению с абсолютным чувством правды: никакого педалирования, никакой натужности. Вместо того чтобы лихо сыпать эффектами, выставляя напоказ свой ум, прозорливость, мастерство, Веласкес предоставляет нам самим до всего докапываться и делать выводы. Он не подмигивает зрителю и не льстит модели. Испанская гордость? Как сказать. Представим на минуту, что «Менин» написал бы Гойя – уж кто не испанец до мозга костей! – и сразу станет понятно, что сдержанность Веласкеса не сводится к особенностям национального характера. Подобный тип сознания, щепетильно-отстраненного, чуткого к нашим чувствам и безразличного к нашим мнениям, наверное, чаще встречался в Греции времен Софокла или в Китае времен Ван Вэя[8]8
Ван Вэй (699–759) – китайский поэт, живописец, музыкант эпохи Тан.
[Закрыть].
Спрашивать, каким был Веласкес, почти бестактно, ведь художник всегда старательно прятался за своими работами – по ним и следует судить о нем. Как и у Тициана, мы не обнаружим у него никаких признаков импульсивности и нонконформизма; как и жизнь Тициана, жизнь Веласкеса представляет собой непрерывную историю успеха. Но на этом сходство заканчивается. Они жили при разной температуре. Читая о Веласкесе, мы ничего не найдем о его страстях, желаниях, всплесках эмоций; точно так же мы не видим, чтобы чувственные образы распаляли его воображение. В молодости он пару раз воспарил на облаке поэтического вдохновения – как в «Непорочном зачатии», – но с годами это прошло, как чаще всего и бывает, хотя, наверное, правильнее было бы сказать, что его поэтичность поглотило стремление к целостности.
Веласкес родился в 1599 году, а уже в 1623-м получил должность придворного живописца. С тех пор он уверенно шел вверх по карьерной лестнице. В 1643 году его всесильный покровитель граф-герцог Оливарес впал в немилость и лишился всех постов – и в том же году Веласкес был возведен в чин камергера и назначен помощником распорядителя всех дворцовых работ, а в 1658-м, к ужасу сановников, король наградил художника орденом Сантьяго. Через два года Веласкес умер. Имеются подтверждения того, что королевская семья считала его своим другом, но нет упоминаний о кознях интриганов и завистников, отравлявших жизнь многим итальянским художникам той эпохи. Скромность и добронравие – похвальные качества, однако их было бы явно недостаточно, чтобы обезопасить себя. По-видимому, Веласкес прекрасно разбирался в людях и обстоятельствах. При этом мысли его были заняты почти исключительно проблемами живописи – и здесь ему опять-таки повезло: он ясно понимал, чего хочет достичь. Задачу он поставил перед собой невероятно сложную, для ее реализации понадобилось тридцать лет упорного труда, но в конце концов он своего добился.
Поведать всю правду о зрительном впечатлении, каково оно есть, – вот цель. Еще в XV веке ее провозгласили итальянские теоретики искусства, – провозгласили, сами в нее не веря, иначе не рассуждали бы о ней в терминах изящества, величия, правильных пропорций и прочих абстрактных понятий. Сознательно или бессознательно, все они верили в Идеал, полагая задачей искусства довести до совершенства то, с чем природа не справилась. Это одна из самых живучих эстетических теорий, но она чужда испанской душе. «История, – говорил Сервантес, – есть нечто священное, ибо ей надлежит быть правдивою, а где правда, там и Бог, ибо Бог и есть правда»[9]9
Мигель де Сервантес. Дон Кихот. Ч. II, гл. 3. Перевод Н. Любимова.
[Закрыть]. Веласкес вполне осознавал ценность идеального в искусстве. Он покупал античные памятники для королевской коллекции, копировал Тициана, дружил с Рубенсом. Но ни то, ни другое, ни третье не уводило его от намеченной цели – рассказать всю правду о том, что он видит.

Веласкес. Непорочное зачатие. 1620
В какой-то мере это сугубо техническая проблема. Не так уж трудно написать небольшой неодушевленный предмет, чтобы он казался «настоящим». Но едва дело доходит до фигуры в некоем антураже – «Oh alors!»[10]10
Зд.: возглас огорчения, досады и т. д., вроде «Ох-хо-хо!» (фр.).
[Закрыть], как говаривал Дега. А написать крупномасштабную композицию с группой людей, где ни один не затмевает другого, и каждый с кем-то взаимодействует, и все дышат одним воздухом… Для этого требуется поистине необычайное дарование.
Когда мы смотрим вокруг, наши глаза перемещаются с места на место, а остановившись, фокусируются в центре овального цветового пятна, которое чем дальше от центра к периметру, тем больше размывается и искажается. Каждая следующая фокусная точка вовлекает нас в новую систему отношений, и, чтобы написать сложную группу вроде «Менин», художник должен постоянно держать в голове общую непротиворечивую схему отношений, которую он сумел бы воспроизвести на холсте. Вы можете использовать любые вспомогательные средства – ту же перспективу, – но конечная правда о целостном визуальном впечатлении упирается в одно: верность тона. Непроработанный рисунок, грязный цвет – все не важно: если тональные отношения верны, картина сложится. По неведомой причине тональная верность не достигается путем проб и ошибок, она требует чутья, какого-то особого, почти физического свойства, как абсолютный слух в музыке. Но зрителю, который ее улавливает, она доставляет чистейшее, непреходящее наслаждение.
Веласкес в наивысшей степени обладал этим даром. Всякий раз при виде «Менин» я не могу сдержать восторженного возгласа – настолько верны здесь тональные переходы. Серая юбка стоящей фрейлины, зеленая – второй, опустившейся на колени; оконный проем справа, в точности как у его современника Вермеера; и конечно, сам художник, скромно отодвинувший себя в тень, но отнюдь в ней не потерявшийся. Лишь одна фигура смущает меня – неприметный придворный, так называемый гвардадамас, за спиной у Марибарболы, который кажется совсем бесплотным; думаю, он пострадал от какой-то давней реставрации. Не вполне устраивает меня и голова стоящей фрейлины, доньи Исабель де Веласко: слишком черные тени. В остальном же все на своем месте, как в евклидовой геометрии, и, куда ни посмотри, за частностью вырастает весь комплекс отношений.
Надо бы просто радоваться и не задавать вопросов, но невозможно долго смотреть на «Менин» и не спросить себя, как это сделано. Помню, в 1939-м, когда картина висела в Женеве[11]11
Имеется в виду выставка испанских картин в Женеве, куда во время Гражданской войны в Испании республиканское правительство эвакуировало часть картин из Прадо.
[Закрыть], я каждый день с утра пораньше, еще до открытия галереи, подкрадывался к ней, точно охотник к добыче, как будто боялся спугнуть ее. (В Прадо такой номер не проходит: картина висит в затемненном зале, где царит благоговейная тишина, но всегда кто-нибудь есть.) Охоту я начинал с максимально возможного расстояния, обеспечивающего полную иллюзию, а затем шаг за шагом осторожно приближался, пока то, что несколько минут назад было кистью руки, лентой, куском бархата, не растворялось в цветном салате из искусных мазков. Я надеялся уяснить для себя что-то очень важное, поймать тот заветный момент, когда происходит превращение, но этот миг столь же неуловим, как мгновение между бодрствованием и сном.

Веласкес. Менины. Деталь с автопортретом
Люди прозаического склада ума, начиная с Паломино[12]12
Антонио Паломино (1655–1726) – художник и биограф, прозванный «испанским Вазари».
[Закрыть], утверждали и продолжают утверждать, что Веласкес наверняка писал какими-то специальными, длинными кистями, однако на картине «Менины» кисти у него нормальной длины; кроме того, в левой руке он держит муштабель (палочку-подпорку для правой, рабочей руки), и, значит, завершающие легкие прикосновения делались с очень близкого расстояния. Просто – как все вообще чудесные превращения в искусстве, его волшебство достигалось не техническим фокусом, который можно разгадать и описать, а молниеносным творческим озарением. В тот миг, когда кисть Веласкеса превращала реально видимое в живопись, он совершал ни больше ни меньше акт веры, отдаваясь ему всем своим существом.
Полагаю, Веласкес открестился бы от столь высокопарной интерпретации. В лучшем случае сказал бы, что его святой долг – представить королю правдивое изображение. Если бы наш художник пожелал прибавить несколько слов, то мог бы вспомнить, что на заре своей карьеры наловчился писать головы в римской манере, но счел их безжизненными. Затем от венецианцев он научился изображать фигуры так, чтобы они казались созданными из плоти и крови, но при этом на холсте не возникало иллюзии окружающего их воздушного пространства. В конце концов он справился и с этой проблемой, в частности благодаря более широким движениям кисти, однако досконально объяснить, как добиться нужного эффекта, он, увы, не может.

Веласкес. Менины. Деталь с портретом карлицы Марибарболы
Примерно так хорошие художники обычно говорят о своей работе. Но после двух веков существования эстетики как философской дисциплины такой ответ нас не удовлетворяет. Ни один разумный человек сегодня не верит, что цель искусства – подражание. С тем же успехом можно утверждать, будто история есть перечень всех известных нам фактов. Любая творческая деятельность неизбежно включает в себя процедуру отбора, а отбор подразумевает, во-первых, способность постигать взаимоотношения вещей, а во-вторых – наличие в нашем сознании некой априорной схемы-образа (паттерна). Творческая деятельность не является исключительной прерогативой художников, ученых или историков. Все мы прикидываем расстояния, сопоставляем цвета, рассказываем истории. Каждый день мы так или иначе занимаемся простейшим творчеством. Раскладывая щетки для волос, мы уподобляемся художнику-абстракционисту, поражаясь сиреневой тени – импрессионисту, а угадав чей-то характер по форме подбородка – портретисту. Эти спонтанные мысли и действия не анализируются нами и никак не связаны между собой, покуда великий художник не сольет их воедино, не увековечит и тем самым поведает миру о своем собственном чувстве гармонии.
С учетом всего вышесказанного я возвращаюсь к «Менинам» и с удивлением понимаю, какой необычный, явно отмеченный печатью индивидуальности отбор фактов произвел Веласкес, замаскировав его под нормальное оптическое впечатление. Он мог провести своих современников, но нас не проведешь! Для начала рассмотрим организацию форм в пространстве – наиболее красноречивое, всегда личностно окрашенное выражение нашего чувства гармонии; затем перейдем к обмену взглядами, создающими свою систему отношений. Наконец, не забудем о действующих лицах. Их взаиморасположение, при кажущейся естественности, на самом деле очень хитроумно. Да, главной доминантой сцены, бесспорно, выступает инфанта благодаря особой ауре достоинства (несмотря на юный возраст, она привыкла повелевать) и царственной красоте бледно-золотистых волос. Но от инфанты наш взгляд сразу смещается к приземистой фигуре с недовольным лицом – ее карлице Марибарболе – и к ее собаке, которая отрешенно смотрит перед собой, нахмурив брови и ни на кого не обращая внимания, словно погруженный в раздумья философ. Это те, кто находится на переднем плане. А кто на самом дальнем? Король с королевой, низведенные до отражения в темном зеркале на дальней стене. Испанскому монарху картина, скорее всего, представлялась буквальным переносом на холст бытовой дворцовой сцены, чем-то заинтересовавшей художника. Но как быть нам? Можно ли исходить из того, что Веласкес сам не ведал, что творил, когда вот так взял и перевернул общепринятую шкалу ценностей?
В большом зале Веласкеса в Прадо мне бывает слегка не по себе от его почти сверхъестественного проникновения в психологию человека. Я начинаю понимать, что ощущают медиумы во время спиритических сеансов, когда сетуют на присутствие посторонних духов. В данном случае главный из таких раздражающих элементов – Марибарбола. В отличие от других персонажей, безропотно (то есть с полным пониманием придворного этикета) исполняющих свои роли в tableau vivant[13]13
Живая картина (фр.).
[Закрыть], Марибарбола бросает дерзкий вызов зрителю, и это действует как боксерский удар под дых. Мне вспоминается до странности обостренный интерес художника ко всем этим карликам-шутам, любимцам королевского двора. Разумеется, отчасти он писал их по обязанности, но не удивительно ли, что в главном зале Веласкеса в Прадо изображений шутов и шутих ровно столько же, сколько портретов членов королевского семейства (по девять в каждой категории)? Такое соотношение не объяснишь официальными предписаниями, за ним явно просматривается личный выбор Веласкеса. Помимо всего прочего, этот выбор мог быть продиктован и чисто профессиональными соображениями. Шутов легче заставить долго сидеть неподвижно, чем особ королевской крови, – соответственно, у художника больше времени для пристального изучения их лиц и характеров. Но нет ли здесь чего-то более существенного – интуитивного понимания, что сама физическая неполноценность делает их портреты более реалистичными, чем портреты монаршей семьи? Снимите с последних толстый панцирь высокого положения – и что мы увидим? Нечто бледно-розовое, невыразительное, вроде очищенных вареных креветок. Им не дано пронзить нас умным вопрошающим взглядом Себастьяна де Морры или сварливой независимостью Марибарболы. И я пытаюсь вообразить, что сталось бы с «Менинами», если изъять из картины Марибарболу и вставить на ее место грациозную придворную даму. Нам по-прежнему казалось бы, что мы находимся внутри сцены, изысканность колорита и безупречность тона никуда не делись бы… Но температура сразу бы упала: мы потеряли бы целое измерение в том, что зовется правдой жизни.

Веласкес. Портрет карлика дона Себастьяна де Морры. Ок. 1645
Диего де Сильва-и-Веласкес (1599–1660). Менины (Фрейлины). Холст, масло. 3,13 × 2,76 м
Картина написана в 1656 году для короля Испании Филиппа IV в мадридском дворце Алькасар. Картины на стенах – копии, выполненные Хуаном дель Масо с оригиналов Рубенса и Йорданса. Инфанта Маргарита, дочь Филиппа IV и его второй жены Марианны Австрийской (дочери императора Фердинанда III), впоследствии стала императрицей Австрийской, и два других ее портрета кисти Веласкеса находятся в Вене. Фрейлина, стоящая на коленях и протягивающая инфанте красный сосуд с (?) шоколадом, – донья Мария Агустина Сармьенто; вторая фрейлина – донья Исабель де Веласко. Имена карликов – Марибарбола и Николасито. Дуэнья-гувернантка – донья Марсела де Ульба; рядом с ней придворный-гвардадамас, повсюду сопровождающий инфанту. Мужчина в дверях – дон Хосе Ньето Веласкес, предположительно родственник художника. На груди у Веласкеса орден Сантьяго (Святого Иакова), которым король наградил его 12 июня 1658 года. Таким образом, легенда, будто бы король, увидев картину, произнес: «Здесь кое-чего не хватает» – и самолично дорисовал крест, не имеет под собой основания. Крест написан очень профессионально и был добавлен если не самим Веласкесом, то дель Масо.
Картина впервые упомянута в дворцовом инвентаре 1666 года. Во время пожара 1734 года ее спасли и поместили в новом дворце, где за ней закрепилось название «Семья Филиппа IV». После открытия Прадо в 1819 году картину передали в музей; название «Las Meniñas» (Менины», или «Фрейлины») появилось в каталоге 1843 года, составленном Педро Мадрасо.

Веласкес. Менины. Деталь с портретом инфанты Маргариты
Рогир ван дер Вейден
«Снятие с креста»

Ван дер Вейден. Снятие с креста. Ок. 1435
Перед нами своего рода продукт «двойного препарирования» – как будто художник воспроизвел живописными средствами уже существующее произведение искусства. Что это могло быть? На ум моментально приходят ассоциации с полихромной скульптурой. (Стоит вспомнить, что даже на пике славы Рогир не гнушался заказами на роспись скульптурных произведений – точно как древнегреческий Никий, раскрашивавший статуи Праксителя.) Будучи помещены на абстрактном золотом фоне, фигуры на картине скомпонованы таким образом, что создается впечатление горельефа. Вдобавок сцена отличается формальным совершенством, представляя подобие классического фриза, а персонажи, кажется, отрешены от всякой весомости и материальности. Но изощренность, благородная утонченность целого удивительным образом сочетается с потрясающим реализмом деталей. Детали эти буквально гипнотизируют. Я внимательно в них всматриваюсь, и какое-то время мною владеет только одна мысль: с какой виртуозной точностью они исполнены и какой мощный объемно-стереоскопический эффект создают!
Подобное сочетание строгой композиционной слаженности и живой выпуклости форм вызывало восхищение во все века. «Я утверждаю, что как ученые, так и неученые одинаково похвалят те лица, которые, словно изваянные, кажутся выступающими из картины»[14]14
Цит. по: Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве: В 2 т. Т. 2. М., 1937. С. 53. Перевод А. Г. Габричевского.
[Закрыть], – говорит в трактате «О живописи» Леон Баттиста Альберти. Строки эти написаны в 1435 году – тогда же, когда Рогир ван дер Вейден, вероятно, и создал свое «Снятие с креста». Не утратили они актуальности и во времена Роджера Фрая – ибо как еще можно трактовать многократно повторяемые в его сочинениях слова о «пластических достоинствах»? И в этом смысле характерно, что настоящее мастерство живописца, как мы читаем у Альберти, заключается в умении изображать черты, напоминающие скульптурные. Итальянец говорит именно о подобии изваяниям (а не о «натуроподобии»), а это предполагает умение художника сознательно упрощать каждый элемент картины ради большей выразительности и непосредственности восприятия. Рогир был наделен этим даром в высшей степени. Лицо Богоматери в этой его работе, бесспорно, один из величайших примеров «осязательной ценности»[15]15
Концепция «осязательной ценности» (тактильности) изобразительного искусства восходит к труду Б. Беренсона о флорентийских живописцах (1896), оказавшему влияние и на Р. Фрая.
[Закрыть] живописного образа. В нем также нашло воплощение классическое винкельмановское понимание красоты как «единства в многообразии». Выражение лица передано скупыми, лаконичными средствами; в рисунке глаз, носа и губ прослеживается однородность форм, присущая, скорее, абстрактному искусству. Но достаточно сравнить этот объемно моделированный овал со стилизованными изображениями (скажем, африканскими масками) – и поразишься острой наблюдательности и скрупулезности Рогира. Художник ни на дюйм не отступает от жизненной правды, и каждая деталь у него несет удвоенную смысловую нагрузку. Скатывающиеся по щекам Девы слезы усиливают впечатление от пластической выразительности ее лика. Каждый мазок – результат строго выверенного движения (под стать руке гравера), но, если присмотреться, становится ясно, что твердость эта – не механического, а нравственного порядка. По сути, мы находим тут наглядное подтверждение замысловатой фразе из «Описательного каталога» Блейка[16]16
Этот каталог У. Блейк написал к своей персональной выставке 1809 года.
[Закрыть]: «Что отличает честность от подхалимства, как не жесткая проволочная линия правоты и уверенности в действиях и намерениях?»[17]17
Цит. по: Блейк У. «Описательный каталог картин» выставки 1809 года (фрагменты) // Мастера искусства об искусстве: В 7 т. Т. 4. М., 1967. С. 309. Перевод Е. А. Некрасовой.
[Закрыть]

Ван дер Вейден. Снятие с креста. Деталь с изображением Богоматери
О жизни Рогира ван дер Вейдена нам известно не много, но, судя по всему, человек это был и в самом деле высоконравственный. Родился он в 1399 году в Турне, в семье мастера по выделке ножей, а в 1427 году, успев стать довольно известным художником, поступил в ученики к Роберу Кампену – одному из авторитетнейших живописцев города. Прояснить обстоятельства того далекого времени с помощью документов – затея безнадежная: источники столь раннего периода вообще редко дают внятную картину, а в данном случае запутывают окончательно. И тем не менее я почти на сто процентов уверен, что именно Кампен был тем самым художником, который известен как Флемальский мастер. Для творчества последнего характерна выразительная скульптурная «лепка» форм. А поскольку эта же манера явственно проступает в ранних работах Рогира, ряд историков искусства пытался (правда, неубедительно) доказать, что этот мастер и Рогир – одно и то же лицо.
Рогир завершил свое обучение в 1432 году, а уже к 1435 году разбогател настолько, что смог (возможно, за счет гонорара за «Снятие с креста») вложить крупную сумму денег в процентные бумаги, выпускавшиеся городскими властями Турне. Год спустя ему было даровано пожизненное звание официального живописца города Брюсселя. Слава его в дальнейшем только росла и распространилась далеко за пределы родины. Нидерландец получал лестные отзывы от знатных итальянских ценителей искусства; побывал в Риме, Флоренции и Ферраре. Но основную часть времени художник предавался созерцательной жизни и прилежному труду, одинаково добросовестно выполняя все поступавшие заказы, даже самые незначительные. Он не отставал от новейших веяний и, когда в середине XV века в моду вошел более изысканный и эффектный стиль, был готов ему соответствовать. Впрочем, вершина позднего творчества Рогира – «Распятие» писалось не на заказ. Работа была создана мастером по его собственному желанию и принесена им в дар картезианскому монастырю в Схёте[18]18
Ныне Схёт (Scheut) является районом Андерлехта. Монастырь не сохранился.
[Закрыть] (сегодня произведение находится в Эскориале). Эта сильнейшая вещь приближается к откровениям Данте и поздним рисункам Микеланджело. Любые разговоры о патетике образного языка, декоративных приемах, сочности колорита, меткости наблюдений и прочей внешней эстетике и технике кажутся здесь неуместными. Осмелюсь утверждать, что во всей живописи трансальпийской Европы едва ли найдется что-либо равное по благородной сдержанности и строгости.

Робер Кампен (Флемальский мастер). Нераскаявшийся разбойник. 1440
Это лишний раз подтверждает, с личностью какого масштаба и духовной глубины мы имеем дело. Но вернемся к «Снятию с креста». Работа была заказана гильдией арбалетчиков Лёвена для принадлежавшей им капеллы Богоматери, «что за городскими стенами» (Notre-Dame-hors-des-Murs). Хотя точный год создания картины неизвестен, у меня почти нет сомнений, что это первое крупное произведение, выполненное Рогиром после ухода из мастерской Кампена, недаром оно во многом перекликается с творчеством его наставника. Та же углубленная сосредоточенность на форме, какую мы видим на створке с нераскаявшимся разбойником, тот же повышенный интерес к документальности, а местами даже сходная трактовка жестов и мимики. Бесспорно, именно Рогиру предстояло стать великим новатором по части изобразительных мотивов, но все-таки направление поисков указал ему не кто иной, как Кампен. Его современник Ян ван Эйк по-своему подходил к пространственным проблемам, демонстрируя непревзойденный талант в понимании нюансов световоздушной среды. Кампен же, напротив, предпочитал менее эфемерные субстанции, с любовью изображая дубовые скамьи, медную и оловянную утварь, обычные предметы домашнего обихода. Сильнейший отпечаток на его манеру, очевидно, наложили произведения реалистической бургундской пластики (главные образцы которой относятся к рубежу XIV и XV веков и, стало быть, в описываемый период даже не успели еще утратить яркость раскраски). Это свое пристрастие к материальной стороне бытия – в противоположность отвлеченным оптическим экспериментам – Кампен передал и своему ученику. Однако Рогир был в гораздо большей степени наделен даром идеализации. Его можно назвать представителем чистого «классического искусства» в том смысле, в каком этот термин употребляется в специальной литературе. В центре его творчества – человек, который мыслится не как часть и продолжение Природы, но как обособленная единица, уникальное творение Божье. Взирая на род людской во всем его многообразии, художник вычленяет ряд сущностных свойств, каждое из которых отражает некоторую грань человеческого духа. Одновременно он показывает, что свойства эти глубоко переплетены, причем не случайным образом, а согласно непреложным законам судьбы или предопределения. В тесном пространстве «Снятия с креста» перед нами, как на сцене, разыгрывается драма в истинно софокловском понимании.
Базовая геометрия картины предельно проста: вертикально ориентированные фигуры вписаны в вытянутый прямоугольник, заключенный между двумя консолями готического рисунка. Замкнутое живописное поле насыщено движением, но ритм этого движения не ровный, а мучительно-рваный, запинающийся; он то и дело спотыкается о неестественно вывернутый локоть: сперва – левая рука Христа, затем – согнутый под более острым углом локоть Богоматери и, наконец, изломанная поза Марии Магдалины, точка высшего напряжения всей композиции. Распростертое в центре тело Спасителя кажется невесомым, парящим в воздухе, словно лунный серп. Изображая хрупкую красоту его застывшей, почти безмятежной фигуры, Рогир явно отходит от манеры своего учителя. У последнего мы не найдем подобной плавности линий: по крайней мере, если судить по фрагменту с распятым разбойником, Кампен тяготел к узловатым силуэтам и перекрученным суставам в духе феррарской школы. Тут, продолжая тему параллелей с итальянским искусством, нельзя не упомянуть о «Снятии с креста» кисти Фра Анджелико, которое было написано, вероятно, в одно десятилетие с рогировским и созвучно с ним по настроению. В обоих случаях налицо неспешный тон повествования и отрешенно-просветленное состояние, выражающее покорность и даже бесстрастность. Такая трактовка темы могла бы смутить, если бы не наша уверенность, что оба художника были глубоко набожными людьми, воспринимавшими Страсти Христовы как важнейший факт бытия.
По всей видимости, Рогир ощущал некое духовное родство с благочестивым флорентийцем. В своем «Положении во гроб», хранящемся ныне в Уффици, он фактически повторяет композиционную схему картины Анджелико на тот же сюжет (речь о панели, которая некогда являлась центральной частью пределлы алтаря Сан-Марко). И вместе с тем сравнение с Анджелико убеждает, что Рогир остался по большому счету свободен от итальянских влияний. Колористика его работ прочно укоренена в достижениях североевропейских мастеров иллюминирования, между тем как у итальянцев в эту эпоху все еще сильны тенденции к тускловато-матовой гамме, характерной для фресковой живописи. Вновь обратившись к «Снятию с креста», мы заметим лишь некоторые случайные пересечения. Контрастное сопоставление синего и красного (в данном случае – одеяний Богоматери и святого Иоанна) вполне типично для палитры Филиппо Липпи или Уччелло. Другое дело – бледно-лиловый и травянисто-зеленый тона платья Марии Магдалины, оттеняющие алый цвет ее рукавов. Подобные сочетания, скорее, из репертуара их соотечественника Джентиле да Фабриано (к слову сказать, еще одного итальянского мастера, чьим творчеством, как доподлинно известно, восхищался Рогир). Употребление Рогиром ярких, чистых оттенков красного и синего, бесспорно, питалось традициями цветовой символики, восходящими к средневековому витражному искусству, и этим обстоятельством – не меньше, чем техническим мастерством, – объясняется необыкновенная глубина и звучность красок. Некоторые флорентийцы, в том числе Гирландайо, стремились подражать этому эффекту, но тщетно: без опоры на традицию и соответствующих знаний искомая яркость колорита оборачивалась кричащей вульгарностью. В передаче драпировок Рогир тоже весьма далек от своих великих итальянских современников. Его беспокойный рисунок не дает глазу расслабиться ни на секунду: ни потешиться убаюкивающей игрой линий, ни отдохнуть на легко читаемых, приятно предсказуемых формах. Известная нехватка «нерва» в выражении лиц сполна компенсируется напряженными изгибами и резкими изломами складок.

Ван дер Вейден. Снятие с креста. Деталь с изображением Марии Магдалины
И все же о лицах рогировских персонажей стоит сказать особо, – о лицах, жестах, пластике движений. Достигая идеализации, не разрушающей индивидуальность (задача нетривиальная!), художник и здесь выступает наследником могучей готической традиции. Взгляните на фигуры королей и святых на порталах великих французских соборов Шартра и Амьена: где еще универсальное и характерное соединены столь убедительно? Итальянцам, пришедшим вслед за Мазаччо и Донателло, эта высота до конца так и не покорилась. Альберти предостерегал живописцев, что портрет реалистический всегда будет притягательнее идеализированных изображений, даже если последние «гораздо более совершенны и привлекательны». Мастера Высокого Возрождения вняли его словам и сделали все, что было в их силах, стремясь избежать чрезмерной идеализации. Но вместе с тем, зачарованные «правильностью» и гладкостью античной скульптуры, они боялись позволить себе даже лишнюю морщинку на челе портретируемого, а уж изобразить пухлый двойной подбородок (к тому же небритый), как у рогировского Никодима, который вполне подтверждает справедливость предупреждения Альберти, было для них и вовсе немыслимо. Нидерландец был не столь щепетилен, и это дало потрясающий результат. Даже если допустить, что Никодим писался с реального человека, художник каким-то чудом перенес его в вечность. Теперь это уже не портрет конкретной личности, а эпический образ.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?