Текст книги "Лесовик"
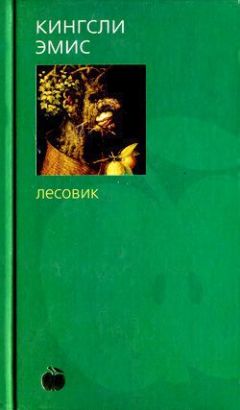
Автор книги: Кингсли Эмис
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Я несколько забежал вперед в преддверии разговора на эту тему, которой Джек уже коснулся, беседуя со мной в баре, куда к тому моменту начали перекочевывать из большого зала первые посетители, закончившие обедать, и стали прибывать клиенты из других окрестных ресторанчиков, решившие провести вторую половину вечера в нашем заведении. Я сказал Джеку:
– Полагаю, сейчас ты поведаешь мне, что все эти напасти происходят из-за злоупотребления спиртным.
– По крайней мере, эти вещи очень связаны между собой.
– Прошлый раз, когда мы обсуждали этот вопрос, ты говорил, что увлечение алкоголем может привести к эпилепсии. Но ведь нельзя нажить себе одновременно и то, и другое.
– Почему бы и нет, если в основе одна и та же причина. В любом случае вопрос об эпилепсии – очень тонкая штука. Я не могу гарантировать, что у тебя никогда в жизни не будет эпилептического припадка или что ты никогда не сломаешь ногу; но я берусь утверждать, что в данный момент никаких симптомов эпилепсии у тебя не наблюдается. Однако должен сообщить тебе еще кое-что, а именно: во всем этом кроется нечто более сложное, чем просто зависимость между твоими выпивками и твоими судорожными подергиваниями. Стресс. Все дело в стрессе.
– Спиртное снимает все стрессы.
– Поначалу. Послушай, Морис, только давай без этого. Ты двадцать лет не расстаешься с бутылкой, так что не мне читать тебе лекции о порочном круге, и как люди опускаются шаг за шагом до самой последней стадии, и все такое прочее. Я же не требую от тебя полностью отказаться от спиртного. Это было бы совсем глупо. Чуть сбавь свою дозу. Старайся продержаться до вечера без крепких напитков. И начать желательно как можно скорее, если ты вообще собираешься дотянуть до шестидесяти. Ладно, оставим эту тему на сегодня, – мне совсем не хочется, чтобы ты сейчас сидел за столом, как костлявая на пиру. Пойди-ка опрокинь стаканчик своего любимого, потом пробегись между столиками, извинись перед людьми, что там у тебя кусочки собачьего дерьма попадаются в пудинге вперемешку с почками и говядиной, а я пока развлеку разговорами наших птичек.
Примерно так, как он расписал, все дальше и происходило; в конечном итоге я освободился намного позже, чем предполагал, – по причине обстоятельного и громогласного обзора моих блюд, с которым выступил балтиморский гость, прочитавший свой доклад с такой скоростью, будто он обращался к огромной аудитории законченных дебилов. Выслушав все и ответив столь же витиеватыми фразами, я откланялся и отбыл на нашу жилую половину.
Из спальни моей дочери доносился мужской голос, бубнивший о чем-то авторитетно и отчасти брюзгливо, с сильным центральноевропейским акцентом. Тринадцатилетняя Эми, худенькая и бледненькая, сидела на кровати, наклонившись вперед, поставив локти на колени и подперев голову руками. Окружающие предметы говорили более чем красноречиво о ее возрасте и интересах: цветные фотографии певцов и актеров, вырезанные из журналов и прилепленные к стене клейкой лентой, простенький проигрыватель в розовом пластмассовом корпусе, пластинки и их кричаще-яркие конверты, причем первые, как правило, отдельно от вторых, разбросанная одежда, которая кажется слишком узкой для той или иной части тела, целая батарея пузырьков, баночек и маленьких пластиковых бутылочек, выстроенных на крышке туалетного столика вокруг телевизора. На экране волосатый мужчина говорил лысому оппоненту: «Но последствия этого полномасштабного наступления на доллар, конечно же, проявятся далеко не сразу. Потребуется какое-то время, прежде чем мы станем свидетелями каких-то мер, предпринятых для его спасения».
Я сказал:
– Доченька, я ума не приложу, на кой черт ты смотришь это?
Эми пожала плечами, не меняя своей позы.
– Там другого нет ничего?
– Музыка по одному каналу… Ну, как всегда: скрипки и все такое… А по второму скачки.
– Ты ведь любишь лошадей.
– Люблю, но не таких.
– А чем эти тебе не нравятся?
– Все по линеечке.
– Что ты имеешь в виду?
– Все рядами.
– Не понимаю, почему ты решила, что нужно обязательно включать телевизор и смотреть что попало. В любом случае нельзя ведь… Мне хотелось бы хоть иногда видеть тебя с книгой в руках.
– Но вы должны понимать, что этот вопрос изначально никак не связан с Международным валютным фондом, – сказал высокомерно с экрана волосатый мужчина.
– Доченька, сделай потише, ради бога. А то ничего не слышно… Вот так лучше, – сказал я после того, как Эми, не отрывая глаз от экрана, потянулась худой рукой с длинными пальцами к коробочке дистанционного управления у себя под боком и превратила голос волосатого типа в удаленные выкрики. – Теперь послушай, сегодня к нам на ужин пришли доктор Мейбери с женой. Они поднимутся сюда наверх с минуты на минуту. Что если тебе накинуть сейчас ночную рубашку, почистить зубы, заглянуть к нам на минутку и поговорить с ними немного, а потом сразу спать?
– Нет, не хочется.
– Но они же нравятся тебе. Ты всегда говорила, что они тебе нравятся.
– Папа, мне не хочется.
– Ну тогда пойди и скажи спокойной ночи деду.
– Я уже сказала.
Стоя около ее кровати и страдая от мысли, что я не знаю, как сделать жизнь своей дочери счастливой, я наткнулся взглядом на то место у окна, где висела фотография ее покойной матери. Не знаю, как так произошло, ведь я не сделал при этом никакого движения, но Эми, не отрывая взгляда от экрана, похоже, догадалась, куда я смотрю. Она зашевелилась слегка, словно у нее затекли ноги. Я вдруг сказал, стараясь придать голосу бодрости:
– Знаешь что, завтра утром мне снова нужно в Болдок. У меня там дела, но на них уйдет минут пять, так что давай ты поедешь со мной и мы выпьем там чашечку… Возьмем тебе пепси-колу.
– Ладно, папочка, – сказала Эми примирительно.
– Ну, я заскочу еще раз минут через пятнадцать, чтобы пожелать тебе спокойной ночи, и надеюсь, что к тому времени ты уже будешь в кровати. Не забудь почистить зубы.
– Ладно.
Время волосатого типа истекло, с экрана полились похвалы какому-то шампуню, расточаемые с таким жаром, будто дикторша вот-вот достигнет оргазма, и, когда я закрывал за собой дверь, ее восторги уже заполнили всю маленькую комнату. Эми еще не вышла из подросткового возраста, но даже раньше, когда она была помладше, у нее появилась чисто женская манера взирать на вещи с демонстративным безразличием, а то и с холодностью, при виде которой вам начинает казаться, будто за этим стоит какая-то причина, но на лице у нее написано, что никаких причин нет и не может быть, как нет и самой этой манеры. Сейчас я не предоставил ей возможности продемонстрировать свою безучастность, но это меня не спасало. Я все равно терялся каждый раз, и время от времени меня ужасало, что какая-то причина все-таки существует, но я старался отогнать от себя вопросы. Мы с Эми никогда не затрагивали в наших разговорах смерть Маргарет (она погибла в дорожном происшествии за полтора года до этого) и не касались того периода жизни, когда она ушла от меня три года назад, забрав с собой Эми; мы не разговаривали особо о Маргарет и упоминали ее имя разве что по необходимости. В конце концов мне придется придумать, как решить все эти проблемы – и с манерой поведения, и с тайными причинами. Что если начать прямо завтра во время поездки в Болдок? Это вполне реально.
Я спустился по наклонному коридору в нашу столовую – просторное помещение с низким потолком и прекрасным камином, который был обнаружен мной под кирпичной кладкой викторианской эпохи: семнадцатый век, геральдика, резьба по камню. Магдалена, жена Рамона, невысокая, коротконогая и толстая женщина лет тридцати пяти, расставляла на овальном столе чашки с охлажденным картофельным супом. Окна были открыты, шторы раздвинуты, и когда я зажег свечи, их пламя почти не колебалось, застыв на фитилях. Свежему ветру со стороны Чилтернских холмов едва хватало сил дотянуть до наших мест. Воздух, им принесенный, казался ничуть не прохладнее нашего. Когда Магдалена, бурча себе под нос что-то вполне дружелюбное, удалилась, я высунулся в окно, выходящее на передний двор, но от этого мне мало полегчало.
Смотреть было не на что, только пустая комната отражалась в большом квадратном оконном стекле. Моя коллекция статуэток замерла на своих привычных местах: неплохая копия древнегерманской терракотовой головы старика на подставке у входа в столовую, юная парочка елизаветинского периода поглядывает рассеянно друг на друга из квадратных ниш в дальней стене, бюсты морского офицера и пехотинца наполеоновской эпохи над камином и милая девушка в бронзе, предположительно французской работы конца девятнадцатого века, тоже на подставке у окна, слева от меня, расположенная таким образом, чтобы по утрам на нее падало солнце. Стоя спиной к комнате, я не мог как следует разглядеть девушку, а что касается всех остальных статуэток, они как будто лишились того удивительно точного равновесия между одушевленным и неодушевленным, которое постоянно присутствует в них, когда смотришь на них прямо. В оконном стекле они казались металлом, из которого только что выпорхнула жизнь. Я повернулся и стал к ним лицом: да, они вновь обрели душу.
Тишина стояла почти полная: шоссе А-595 проходит настолько далеко, что шум машин не доносится до нас, и в тот момент никто не топтался перед домом; но, прислушавшись, я начал различать приглушенный гомон голосов на первом этаже, хотя опять же не представлялось возможным выделить чей-то один голос среди других. Я загадал: если в течение минуты не раздастся никакого отчетливого звука, я иду к буфету в спальне и наливаю себе виски. Я начал отсчитывать мысленно: одна – тысяча – две – тысячи – четыре – тысячи… Уловка с тысячами помогает выдерживать определенный ритм, и, пользуясь этим приемом в течение многих лет, я натренировался до такой степени, что могу гарантировать точность в пределах плюс-минус двух секунд на каждую отсчитываемую минуту. Очень помогает, когда, скажем, ты варишь себе на завтрак яйцо, а под рукой нет часов; но, надо сказать, в этой уловке больше моральной, чем практической пользы.
Я только добрался до тридцати восьми тысяч и собирался поздравить себя с выходом на последнюю треть дистанции, как до моего слуха донесся отчетливо прозвучавший и в какой-то мере ожидаемый звук из гостиной через коридор напротив – что-то среднее между кряхтением и покашливанием. Это мой отец, услышав, как удаляются шаги Магдалены, но не желая, чтобы подумали, будто он воспринял это как прямое приглашение к столу, решил, что ему пора оторваться от кресла и привлечь всеобщее внимание. Из-за него я лишился своего виски, и ничего не оставалось как только утешить себя: ладно, не страшно.
Я слушал, как он ступает – медленно и твердо, и в следующее мгновение скрипнула дверь. Он буркнул что-то устало-брюзгливое, увидев, что его опередил на пороге Виктор Гюго, который путался у него под ногами чаще, чем у всех остальных. Виктор – голубоглазый кастрированный сиамский кот, которому шел тогда третий год. Он, как всегда, заскочил в комнату с таким видом, будто за ним кто-то гонится, будто он удирает от преследователя, который не представляет, быть может, непосредственной угрозы, но от которого лучше будет поберечься на всякий случай. Заметив мое присутствие, Виктор приблизился, опять же с характерным для него выражением неуверенности, как будто задаваясь вопросом: кто я такой, а вернее, что я такое? – при этом давая свободу самым смелым догадкам. То ли я нитрат калия, то ли октябрь будущего года, то ли христианство, то ли шахматная головоломка, требующая, возможно, знания одного из вариантов контргамбита Фалькбеера? Подойдя ко мне вплотную, Виктор перестал задавать себе вопросы и повалился на мои туфли, как слон, получивший смертельное ранение от прямого попадания пули. Виктор был одной из причин того, что в гостиницу «Лесовик» не допускали собак. Мысленное усилие, необходимое для их идентификации, могло оказаться для него непомерной нагрузкой.
Отец плотно закрыл за собою дверь и кивнул безучастно в мою сторону. Обликом я весь в него: такого же роста и с той же легкой склонностью к полноте, и цвет его волос, каштаново-рыжий, вкрапления которого местами сохранились в седине, тоже унаследован мною. Но его крупный вздернутый нос и широкие ладони с сильными, как у пианиста, пальцами уступили во мне место менее мужественным чертам, доставшимся от матери.
Безучастность, с какой он кивнул мне, была следствием совсем не характерного для него приглушенного беспочвенного недовольства, с которым он смотрел в последнее время по сторонам, как будто охватывая взглядом сразу весь мир. Вот еще один человек, чья жизнь была для меня загадкой. Распорядок дня – жесткий, с единственной поблажкой чуть дольше полежать в постели по воскресеньям; а так – в любую погоду, ровно в десять – пешком в деревню: «взглянуть, что там и как» (хотя там ничто и никогда не менялось, по крайней мере для глаза такого горожанина, как я или он), покупка сигарет («Пиккадилли», по десять штук в пачке) и свежего номера «Таймс» (он возражал против доставки газеты на дом) в магазинчике на углу, посещение чайной «Дейнти», где он заказывал чашку кофе с шоколадным печеньем, обстоятельное ознакомление с газетой (он прочитывал ее от первой до последней страницы) и затем, в двенадцать ноль-ноль, две кружки светлого эля «Каридж» в «Королевских шпагах», первые отгаданные слова в кроссворде и дружеская болтовня «кое с кем из старых хрычей» на темы, которые остались недоступными для меня, когда в одно ленивое воскресное утро я составил ему компанию, прогулявшись вместе с ним по его любимому маршруту. Возвращение в «Лесовик» в час пятнадцать с точностью до секунды, обед из холодных блюд в своей комнате, после чего можно немного подремать, дорешать частично или до конца кроссворд, почитать книжонку в мягкой обложке про преступников и детективов – я покупал их время от времени для него в Ройстоне или Болдоке. К шести или к половине седьмого – здесь допускалось некоторое послабление – он перекочевывал в гостиную, настраиваясь на стаканчик виски – первый из двух перед ужином – и настраиваясь также, полагаю, на общение с людьми, потому что он ничего с собой не приносил, даже кроссворд. Но все мы, и Джойс, и Эми, и я, занятые своими делами, не находили возможности посидеть и поговорить со стариком, так что он посылал за газетой, как сегодня, или развлекал себя разглядыванием обоев. Если мне случалось заглянуть в гостиную и я находил его в таком вот состоянии (что повторилось и сегодня), у меня невольно опускались руки: не могу же я силой усаживать человека за чтение, подсовывать ему головоломки с акростихами, требовать, чтобы он изучил латынь или взялся за конструирование моделей; и пусть ему лучше нашпигуют голову кабачковой икрой (это его собственное выражение), чем он согласится смотреть телевизор. Он оглядел столовую – теперь его недовольство обрело более определенную направленность, и казалось, еще секунда, и он поймет, что именно в окружающей обстановке раздражает его больше всего. Взгляд отца упал на обеденный стол и скользнул по приборам.
– Гости, – сказал он, продемонстрировав неожиданную сдержанность.
– Да, зайдут Джек Мейбери с Дианой. Точнее, они уже…
– Знаю, знаю, ты говорил мне утром. А он тот еще гусь, тебе не кажется? Непростой тип, я хочу сказать. Этакий вид у него всегда: я самый добросовестный, я самый способный из практикующих специалистов, во всей Англии такого не сыщешь, каждому я лучший друг, и это все, чем я могу похвастать. Он мне не нравится, Морис. Хотелось бы, честное слово, чтобы было наоборот, потому что мне от него только польза – как от врача, я имею в виду, здесь у меня к нему никаких претензий. Но чтобы он понравился мне как человек – не думаю. Я как-то не замечаю большой любви между ними. Вполне объяснимо. Эти ее манеры – будто сейчас она скажет: «Ты просто прелесть», тогда как ты калека, у тебя ни рук, ни ног. Ну, я в свои восемьдесят в какой-то степени заслуживаю такого отношения, но она ведет себя так со всеми. Внешность – да, очень привлекательная, с этим не спорю. Кстати, а ты не того… а?
– Нет, – сказал я, мечтая выпить поскорей. – В этом плане ничего такого.
– Я видел, как ты пялишься на нее. Ты нехороший человек, Морис.
– Что особенного, если я и смотрел на нее?
– Особенное в том, что ты бабник. Но в любом случае не связывайся с ней, послушай моего совета. Не стоит того, чтобы потом из-за такой вот потаскушки нажить кучу хлопот. Когда имеешь дело с женщиной, есть много другого помимо постели. Кстати, пока не забыл: я собирался поговорить с тобой о Джойс. Она несчастлива, Морис. Нет, я не утверждаю, что она совсем несчастное существо, я не в этом смысле, и она действительно отдает всю себя делам и заботам о гостинице – тут тебе крупно повезло. Но настоящего счастья у нее нет. Я вот что хочу сказать: она явно думает, что у тебя с ней никогда не дошло бы до свадьбы, если б тебе не понадобилась женщина, которая стала бы матерью для Эми. Но проблема с Эми осталась, хотя можно было бы ее решить, а ты взвалил это на нее, вместо того чтобы прийти ей на помощь и вместе разобраться. Джойс – молодая женщина, не забывай об этом. Я понимаю, у тебя много дел, на твоих плечах гостиница, и ты добросовестно относишься к своей работе. Но нельзя за своими делами не замечать остального. Возьмем, к примеру, сегодняшнее утро. Какой-то гусь поднял шум из-за того, что Магдалена капнула немного чаем в его апельсиновый джем. И Джойс, да будет тебе известно, черт возьми, утихомирила его очень даже искусно, а чуть позже она сказала мне…
Он замолчал: до его слуха, не менее чуткого, чем мой, донесся звук – открылась дверь на нашу половину. Затем, услышав голоса, он поднялся из-за стола, чтобы быть на ногах к тому моменту, когда в комнату войдут.
– Потом доскажу, – сказал он громким шепотом, выразительно работая губами.
Вошли супруги Мейбери и Джойс. Я направился к буфету – позаботиться о напитках для сегодняшнего ужина и заметил, что Диана последовала за мной. Джек переключился на моего отца, проявляя к нему снисходительную терпимость; в его понимании – не может быть и речи о том, чтобы человек находился в добром здравии, когда ему семьдесят девять лет. Джойс оставалась с ними.
– Занят делом, Морис? – то ли утвердительно, то ли вопросительно сказала Диана, умудряясь превратить даже короткое высказывание в образчик преувеличенно отчетливой дикции, даже интонацией давая понять, что она без особых усилий возвысила нас до уровня, весьма далекого от банального обмена заезженными фразами, характерного для обычных бесед.
– Привет, Диана.
– Морис… я хотела спросить у тебя, если ты, конечно, не возражаешь…
И опять, даже в малом, вся она здесь, Диана. Так и подмывало ответить: «Да, возражаю, если тебе так хочется знать, еще как возражаю!» – и это было бы почти правдой, но я поймал себя на том, что мой взгляд блуждает по глубокому вырезу ее серпентиново-зеленого шелкового платья, где истинная суть Дианы предстает в куда более выпуклой форме, и только прокряхтел что-то в ответ.
– Морис… почему у тебя постоянно такой вид, будто кто-то преследует тебя, а тебе необходимо скрываться? – Она выговаривала слова очень отчетливо, будто в мои обязанности входило их считать. – Откуда в тебе это чувство загнанности?
– Разве? Почему загнанность? Что ты хочешь этим сказать? Насколько я знаю, у меня нет причин от кого-то скрываться.
– Тогда откуда этот загнанный вид, будто тебе все время что-то не дает покоя?
– Не дает покоя? А что может не давать мне покоя? Есть заботы: налоги, счета за каждый месяц, старость и кое-что еще в том же роде, но, в конце концов, все мы…
– Все же от чего именно ты хочешь спрятаться?
Снова подавив в себе искушение ответить колкостью, я скользнул взглядом по ее плечу, покрытому ровным загаром. Джек с моим отцом говорили одновременно, а Джойс пыталась слушать их обоих. Я сказал, понизив голос:
– Расскажу тебе обо всем как-нибудь в другой раз. Например, завтра после обеда. Жди меня на развилке в половине четвертого.
– Морис…
– Что? – спросил я, почти процедил сквозь зубы.
– Морис, чем объяснить эту твою невероятную настойчивость? Чего именно ты добиваешься от меня?
Я чувствовал, как крупная капля пота стекает у меня по груди.
– Я настойчив потому, что хотел бы получить кое-что от тебя, и, если ты не догадываешься, что это такое, я, может быть, скоро объясню тебе. Придешь завтра на развилку, договорились?
В эту секунду Джойс обратилась ко всем:
– Прошу за стол. Наверное, все уже умирают от голода. Я-то уж точно сейчас умру.
Даже и не стараясь скрыть своего торжества по поводу того, что обстоятельства вдруг преподнесли ей подарок, что-то вроде уважительной причины оставить мой вопрос без ответа, Диана отошла от меня. Я открыл бутылочку уортингтонского пива «Белый щит» для отца, подхватил бутылку «Батар-Монтраше» урожая 1961 года, уже откупоренную для нас официантом из бара за полчаса до этого, и двинулся следом за ней. Каких-то пять секунд – и шансы на то, что она придет завтра на встречу со мной, упали почти до нуля, поскольку теперь она оказалась в удивительно выигрышном положении: в следующий раз ей можно смотреть без стеснения мне в глаза и отвергать любые обвинения в нарушении данного слова. С другой стороны, вполне можно было ожидать, что она рассудит по-иному и придет в условленное место у развилки, с тем чтобы, не застав меня там, зачислить меня в разряд беспардонных обманщиков, после чего непременно устроить мне допрос – это почему я не держу своего слова, и почему я такой эгоист, и не считаю ли я, что подобное поведение объясняется отсутствием у меня уверенности в себе? – и этот допрос мне придется вытерпеть, как и весь спектакль в целом. Если Диана с ее характером зайдет так далеко, что явится на свидание, это будет означать, что она и от меня ожидает (впрочем, вполне неосознанно) таких же смелых действий. Поэтому в любом случае мне придется ехать на развилку. Честно говоря, я и так не сомневался все это время, что поеду туда.
Я налил всем и занял свое место в резном кресле орехового дерева эпохи королевы Анны; хотя в доме имелись и более старинные вещи, для меня это кресло оставалось самым любимым. Диана сидела справа от меня, за ней, лицом к двери, сидел отец, затем Джек, а Джойс была от меня по левую руку. Когда мы ели холодный картофельный суп, отец сказал:
– Такое впечатление, что все кому не лень свободно разгуливают по гостинице. Я хочу сказать, разгуливают здесь, наверху, где им вообще нечего делать, когда в банкетном зале не проводится никаких мероприятий. Полчаса назад какой-то гусь вышагивал взад-вперед по нашему коридору, будто по собственной квартире. Я уже вскочил и собрался посмотреть, какого дьявола он тут топчется, но этот тип уже убрался. И это уже не первый случай за неделю. Морис, неужели нельзя что-нибудь сделать? Повесь какую-нибудь табличку, что ли.
– Но у входа в коридор уже висит…
– Нет, я имею в виду – повесь внизу у лестницы, чтобы вообще не лезли сюда, наверх. Превратили гостиницу в сумасшедший дом. Ты сам разве не замечал ничего, Морис? Наверное, замечал.
– Да, помню пару случаев, – сказал я равнодушно, думая о Диане и наблюдая за ней краем глаза. – Кстати, раз уж ты заговорил об этом, какая-то женщина болталась тут у нас на этаже около лестницы часа четыре назад. – Мне только теперь пришло в голову, что после нашей встречи я больше не видел женщину ни в баре, ни в обеденном зале, ни где-нибудь еще. Она нашла, вероятно, то, что искала – женский туалет, – на первом этаже и затем ушла, когда я замещал Фреда за стойкой. Очевидно, так все и было. Краем глаза я увидел, что Диана положила ложку и принялась пристально изучать мое лицо. Меня не прельщала перспектива снова выслушивать ее вопросы, продиктованные размеренным слогом: это почему я такой, да из-за чего я вдруг стал каким-то другим, да понимаю ли я, что я теперь какой-то не такой. Я встал, сказал, что мне надо заглянуть к Эми и пожелать ей спокойной ночи. Направившись в ее комнату, я нажал по ходу дела на звонок, чтобы Магдалена поднялась к нам наверх.
Выражение лица и поза Эми изменились лишь в том смысле, что в прошлый раз она сидела на краю кровати, а в данный момент – в самой кровати. На экране телевизора молодая женщина обвиняла в чем-то пожилую женщину, которая всю передачу сидела к ней спиной, и дело не в отсутствии такта и воспитания – просто нужно, чтобы зрители постоянно видели ее лицо наряду с лицом ее обвинительницы. Я смотрел на экран несколько секунд в надежде дождаться того момента, когда они, закончив разговор, повернутся друг к другу. Мне в голову пришла странная мысль: как изменились бы отношения между людьми, если бы установился такой обычай – приступая к разговору, вы и ваш собеседник всегда разворачиваетесь и смотрите в одну и ту же сторону.
Затем я подошел ближе к Эми:
– Когда кончается эта передача?
– Уже почти кончилась.
– Смотри, сразу потом выключай телевизор. Ты почистила зубы?
– Да.
– Умница. Ты не забыла, завтра утром мы едем в Болдок.
– Я помню.
– Тогда спокойной ночи.
Я наклонился и поцеловал ее в щеку. И в ту самую секунду из столовой донеслись, быстро сменяя друг друга, звуки: то ли негодующий, то ли болезненный выкрик моего отца, неразборчивые торопливые слова Джека, глухой звук – будто что-то ударилось о мебель, громкие голоса. Я велел Эми оставаться в кровати и вернулся бегом в столовую.
Когда я открыл дверь, мимо меня проскочил Виктор, его хвост стоял трубой, а шерсть поднялась дыбом. Прямо напротив входа Джек с помощью Джойс тащили моего отца под руки к ближайшему креслу. Около обеденного стол, там, где отец сидел до этого, лежал опрокинутый стул, на полу валялось что-то из посуды и столового серебра. Растеклось немного спиртного. Диана, наблюдавшая за действиями остальных, повернулась ко мне с испугом в глазах.
– Он вдруг посмотрел пристально в угол, потом встал, что-то выкрикнул, а потом ноги у него будто подкосились, он ударился об стол, а Джек подхватил его, – тараторила он, забыв на этот раз о размеренной дикции.
Я прошел мимо нее.
– Что с ним?
Джек опускал тело отца в кресло. Уложив его, он сказал:
– Кровоизлияние в мозг, судя по всему.
– Он умрет?
– Вполне возможно.
– Скоро?
– Не знаю.
– Что-нибудь можно сделать?
– Если он действительно умирает, я здесь бессилен.
Я посмотрел на Джека, он на меня. На его лице ничего не было написано. Он держал руку на пульсе отца. Мне казалось, что все мое тело, весь я состою из лица и груди, а ниже живота уже ничего нет. Я встал на колени перед креслом и услышал тяжелое, хриплое дыхание. Глаза отца были открыты, неподвижные зрачки скошены влево. Никакой реакции. В остальном выглядел он вполне нормально – будто просто присел отдохнуть.
– Отец, – позвал я, и мне показалось, что он слегка пошевелился. Но я не знал, что еще сказать. Я задавал себе вопрос: что происходит в его мозгу, что он думает, какая картина стоит в его воображении, – возможно, нечто не имеющее отношения к трагедии, нечто приятное – поля и солнце. Или что-то неприятное, что-то уродливое, что-то загоняющее тебя в угол. Я представил себе отчаянное, затянувшееся усилие понять, что же происходит, и огорчение, настолько огромное, что перед ним меркнет сама боль, потому что недостает спасительного свойства боли отключать сознание, отключать ощущения, чувство собственного «я», чувство времени – все, кроме себя самой. Эта мысль привела меня в ужас, но она также подсказала мне – четко и неоспоримо, какие именно слова мне следует сказать теперь.
Я наклонился ниже:
– Отец! Это я, Морис. Ты слышишь меня? Ты понимаешь, где находишься? Отец, это я, Морис. Скажи, что происходит вокруг тебя в данный момент? Ты видишь что-нибудь? Опиши, что ты чувствуешь? О чем ты думаешь?
За моей спиной Джек заметил холодно:
– Он не слышит тебя.
– Отец, ты слышишь меня? Кивни головой, если да.
Медленным механическим голосом, словно граммофонная пластинка, которую проигрывают на слишком маленькой скорости, отец проговорил:
– Морис…
Затем, менее отчетливо, он произнес несколько слов, которые, похоже, были «кто» и «там напротив».
Затем он умер.
Я встал и отвернулся. Диана посмотрела на меня, в ее глазах уже не было прежнего страха. Прежде чем она успела что-то сказать, я прошел мимо и остановился рядом с Джойс, которая, опустив голову, смотрела на сервировочный столик. На нем стоял поднос с пятью приготовленными блюдами и несколькими салатницами.
– Я не могла сообразить, что надо делать, – сказала Джойс, – поэтому и попросила Магдалену, пусть пока все остается здесь. Он умер?
– Да.
Она сразу разрыдалась. Мы обнялись.
– Ему было уже много лет, и все случилось очень быстро, так что он не мучился.
– Мы не знаем, мучился он или нет, – сказал я.
– Он был таким приятным стариком. Просто не верится, что его больше нет в живых.
– Надо пойти и сказать Эми.
– Хочешь, я пойду вместе с тобой?
– Нет, лучше я сам.
Телевизор был включен, Эми сидела в кровати, но поза изменилась.
– Дедушке стало плохо, – сказал я.
– Он умер?
– Да, но все случилось в одно мгновение, и ему не было больно. Он даже не понял, что с ним происходит. Ты сама знаешь, он был очень старый, этого следовало ожидать в любую минуту. Так всегда бывает с очень старыми людьми.
– А я собиралась поговорить с ним, мне очень многое надо было ему сказать.
– Поговорить с ним?
– О разных вещах. – Эми встала, подошла и положила руки мне на плечи. – Жалко, что твой папа умер.
Я заплакал после этих слов. Я сел на кровать и сидел несколько минут, а Эми держала мою руку и гладила меня по голове. Когда я перестал плакать, она отослала меня, сказав, что не надо волноваться за нее, с ней все в порядке и она прощается со мной до завтра.
В столовой обе женщины сидели на подоконнике, Диана обнимала Джойс за плечи. У Джойс голова была опущена, белокурые волосы упали на лицо. Джек подал мне высокий стакан, до половины наполненный виски, слегка разбавленным водой. Я выпил его разом.
– Как Эми? – спросил Джек. – Ладно, загляну к ней через минуту. Теперь надо будет перенести твоего отца в спальню. Ты поможешь мне или, может, позвать кого-нибудь снизу?
– Я сам. Перенесем его вместе с тобой.
– Тогда поехали.
Джек взял моего отца под мышки, а я – за ноги. Диана пошла вперед открыть для нас дверь. Прижимая голову отца к своей груди, Джек следил, чтобы она не слишком моталась из стороны в сторону. Он продолжал говорить на ходу:
– Уложим его в кровать, и, если не возражаешь, я скажу Палмеру, пусть поднимется сюда и просто побудет рядом с ним. Сегодня мы больше ничего не сможем сделать. А завтра утром первым делом я вызову нашу фельдшерицу, чтобы подготовить его к похоронам. Я тоже подъеду со свидетельством о смерти. Кому-то нужно будет отвезти свидетельство в Болдок и там зарегистрировать, а также договориться в похоронном бюро. Ты сможешь съездить?









































