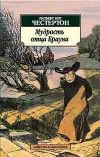Читать книгу "Окончательный диагноз"

Автор книги: Кит Маккарти
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Кит Маккарти
Окончательный диагноз
Моим родителям
Пролог
Письмо шлепнулось на циновку из волокон кокоса, сулившую гостеприимство, надежду на которое, впрочем, тут же рассеивал единственный обитатель дома. Оно пролежало там до самого вечера, пока его не поднял уставший и, как всегда, раздраженный доктор Уилсон Милрой.
Он отнес его в кабинет и не сразу распечатал, не догадываясь о степени важности содержимого. Когда же он прочитал письмо, его недовольная мрачная физиономия расплылась в непривычно широкой улыбке.
«Мы не можем закрыть на это глаза».
Чарльз Хантер возглавлял правление клиники и получал жалованье за то, что изрекал подобные фразы. Однако Джеффри Бенс-Джонс, начальник медицинской службы, придерживался другой точки зрения. Так что его реплика: «Конечно нет, Чарльз» – преследовала лишь одну цель – выиграть время, необходимое для того, чтобы оценить возможные последствия. «Кстати, оно не подписано», – продолжил он, разглядывая письмо. Они сидели в кабинете Бенс-Джонса, который имел право на два кабинета – начальника медицинской службы и невролога-консультанта, где он и встречался с Хантером между приемом пациентов. Бенс-Джонс уже привык к тому, что Хантер приходил в возбуждение от подобных вещей, и всегда прибегал в таких случаях к политике умиротворения.
– Какая разница! Согласно утверждениям нашей полиции, стукачи не обязаны подписываться.
– Да. – Впрочем, с точки зрения начальника медицинской службы, это было серьезным недостатком, так как это правило развязывало руки всем недовольным и смутьянам. – Однако, я полагаю, прежде всего надо решить, что мы предпримем.
Хантер промолчал, но Бенс-Джонс знал, что его собеседник с этим не согласен.
– Мы не можем сделать вид, что у нас нет этих улик, – произнес он, указывая на стопку бумаг, лежавших перед Бенс-Джонсом. – У нас уже достаточно неприятных инцидентов, связанных с доктором Людвигом, и в большинстве случаев он проявил профессиональную некомпетентность.
– Все не так просто, Чарльз, – вздохнул Бенс-Джонс. – За последние несколько лет гистопатология кардинально изменилась. И объем работы гистопатологов увеличился в десятки раз.
Хантера удивила бы подобная пламенная речь, будь она произнесена представителем любой другой специальности, но он знал, что начальник медицинской службы женат на гистопатологе. Бенс-Джонс снял очки и принялся задумчиво посасывать дужку, и его глаза тут же превратились в два слабых, безжизненных и водянистых сгустка.
– Разве это не относится к медицине в целом? – заметил Хантер.
Бенс-Джонс вздохнул, подтверждая это предположение.
– И что ты хочешь сделать?
Его давно уже ждали в амбулаторном отделении, и пациенты наверняка начали терять терпение.
– Да, мы не можем это проигнорировать, однако я бы не стал спешить с выводами. В отделении гистопатологии и без того хватает проблем.
Хантер ничего не ответил. После чего Бенс-Джонс снова надел очки, показывая тем самым, что решение принято.
– Я переговорю с Алисон фон Герке. Возможно, ей удастся убедить Тревора Людвига пораньше уйти на покой. Слава богу, ему уже за шестьдесят, так что до пенсии осталось немного.
– Но мне придется зарегистрировать письмо и начать расследование. Мы не можем сидеть сложа руки.
– Конечно, конечно. – Бенс-Джонс встал. – Если Людвиг заупрямится, ему придется за все ответить. По-моему, это справедливо.
Хантер предпочел бы более жесткие меры, но он знал, что Бенс-Джонс прежде всего врач и будет защищать своих коллег до последнего. Поэтому он смирился и отказался от дальнейшей полемики.
У него были тонкие изящные пальцы с ухоженными ногтями и безупречной кожей. С привычной легкостью они завязали узел на галстуке и выровняли его перед зеркалом. Сидевший на кровати с жадным восторгом неотрывно следил за его действиями.
Человек перед зеркалом обернулся, вздернув подбородок, в ожидании восхищения:
– Как я выгляжу?
Его приятель встал с кровати, совершенно не смущаясь собственной наготы.
– Прекрасно. Разве что, может быть… – И он едва заметным движением разгладил галстук. – Вот так.
Между ними повисла неловкая пауза.
– Жаль, что тебе надо идти. Второй снисходительно улыбнулся.
– Мне тоже, но… – Несмотря на незаконченность фразы, его собеседник все понял и отвернулся с опечаленным видом. – Я вернусь до полуночи, – добавил он, прикасаясь к гладкой каштановой коже своего приятеля. – Просто это одна из тех скучных академических обязанностей, которыми должны заниматься профессора.
Собеседник ответил медленным печальным кивком, который заставил второго сделать шаг вперед и обнять его, после чего последовал долгий и страстный поцелуй. Когда он наконец закончился, им не сразу удалось перевести дыхание.
Второй подхватил пиджак и решительно двинулся к двери. Не доходя до нее, он обернулся и тихо произнес:
– Я люблю тебя.
– И я тебя, – ответил Амр Шахин. А когда Адам Пиринджер вышел из спальни, он снова откинулся на кровать, и лицо его осветилось сладострастной улыбкой.
Часть 1
Холодным весенним вечером в 20.38 миссис Дженни Мюир вышла с работы – из огромного безликого учреждения в одном из самых неблагополучных районов города, которое походило на уродливый космический корабль, опустившийся посреди останков разлагающейся цивилизации, – и направилась в сторону дома. У нее болела голова, и ее тошнило. В последнее время головные боли преследовали ее все чаще, с каждым разом становясь все сильнее, а за ними, как цепной пес, следовала тошнота. Уже в третий раз за месяц она была вынуждена отпрашиваться с работы и понимала, что, если это произойдет еще раз, ее уволят. Однако этот приступ был самым сильным: боль зарождалась где-то внутри глазниц, плотным обручем охватывала череп и опускалась вниз к лицу и даже шее. На этот раз кроме тошноты, поднимавшейся из желудка и заполнявшей рот желчью, она сопровождалась еще и потерей зрения: глаза словно заволокло туманом, а на сетчатке мелькали какие-то черные пятна. По крайней мере, сегодня ей удалось отработать большую часть положенного времени, и она была вынуждена обратиться к начальнице лишь за полчаса до окончания работы. Конечно, идеальной ее работу в этот вечер назвать было трудно – чистая халтура, а она была совестливым человеком и терпеть не могла халтурщиков, которыми изобиловал окружающий мир, включая ее мужа и сына.
До автобусной остановки было недалеко, однако ждать автобус пришлось долго. Она закрыла глаза и попыталась справиться с накатывавшими волнами тошноты. Именно поэтому она не обратила внимания на своего соседа, стоявшего рядом под искореженным навесом. Однако, к несчастью для Дженни Мюир, это отсутствие интереса не было взаимным.
Наконец в облаке дизельных выхлопов подъехал автобус, и Дженни поняла, что вскоре будет вынуждена продемонстрировать всем содержимое своего желудка. Салон автобуса был почти пуст и ярко освещен, так что свет резал глаза, словно ей под веки загнали острые иголки.
Дженни заплатила шоферу, из-за боли плохо сознавая, что делает, и направилась в конец автобуса. Она опустилась на сиденье и вцепилась в металлический поручень прямо перед собой. Автобус тронулся с места, и ей пришлось сжать зубы и задержать дыхание. Ей стало худо от рева двигателя и скрежета механизмов.
«Дэйв заставит меня готовить ужин».
Это была единственная связная мысль, на которую она оказалась способна. Эта мысль повторялась снова и снова, пока автобус прилагал все усилия к тому, чтобы сломить Дженни: скрипел, рычал, совершал броски из стороны в сторону, резко прибавлял скорость и так же резко останавливался.
«Нет, на этот раз он поймет».
В прошлый раз он не проявил особого удовольствия, когда она сразу направилась в постель, не обращая внимания на его возмущенные вопросы относительно перспектив питания. Ответом на ее мольбы о снисхождении были захлопнутая дверь и целые сутки угрюмого молчания.
Нет, вряд ли он поймет.
Не то чтобы он был плохим человеком. Правда, слишком баловал Тома и был ленив, но могло быть гораздо хуже…
Она не слишком любила вспоминать прошлое и уж тем паче не вместе с Дэйвом. Она никогда не рассказывала мужу, чем подрабатывала в дополнение к своему жалкому жалованью продавщицы в пору своей юности, когда была еще привлекательна и менее склонна к угрызениям совести.
Сейчас она приходила в ужас при мысли о том, что с ней могло бы случиться; однако в то время по своей наивности она не осознавала всех опасностей проституции и видела лишь ее выгодные стороны. Только теперь она стала понимать, как близка была к венерическим заболеваниям, насилию и куда более мрачным вещам, которые не могли окупиться тридцатью минутами секса и двадцатью пятью фунтами, оставленными на тумбочке. Стоило ей оказаться в руках сутенера, и она была бы теперь законченной наркоманкой и фактически находилась бы в рабстве.
Только связавшись с Пендредами, она поняла, какую опасную жизнь ведет. Мартин был ее постоянным клиентом; она считала его довольно странным, но безобидным. Платил сразу и не требовал ничего такого. По крайней мере, до последнего момента, когда он, запинаясь и говоря на своем странном языке, попросил помочь ему, так как полиция намеревалась арестовать его…
Автобус резко повернул направо на Кармайн-стрит, от которой до ее остановки оставалось совсем немного. Передняя часть автобуса резко качнулась вправо, как рукоятка огромной центрифуги. И сам поворот был не из приятных, а когда шофер внезапно нажал на тормоза, Дженни отбросило вперед и влево, так что она стукнулась головой о спинку сиденья, находившегося перед ней. Резкая боль пронзила ее голову.
Господи, только бы доктор Аккерман не ошиблась.
Неужели это просто мигрень? Неужели тысячи людей мирятся с этой мукой и живут с ней изо дня в день?
К тому же у нее не было полной уверенности в том, что доктор Аккерман не ошибается в диагнозе. Зачем тогда она направила ее в больницу к доктору Бенс-Джонсу? Не означало ли это, что доктор Аккерман не может сама разобраться, что с ней такое?
Автобус остановился, и Дженни, с трудом держась на ногах, двинулась к выходу: в глазах теперь ощущалась такая резь, что они едва открывались. Голова пульсировала от наплывов боли, сжимаясь и расширяясь, как гигантский гриб-дождевик. Дженни чуть ли не ощупью добралась до дверей, которые открылись еще до того, как она подошла, – выходивший перед ней пассажир уже нажал кнопку. Не успел он выйти, как у него затрезвонил мобильник, острой болью отозвавшись в ее голове. Дженни осторожно вышла из автобуса и оказалась на темной улице. Начинал накрапывать дождь, и холодная влага, опускавшаяся на непокрытую голову, принесла некоторое облегчение.
Теперь ей оставалось пройти всего три улицы. Она ходила этой дорогой сто тысяч раз днем и ночью, под дождем и под снегом, в горести и в радости. Она знала эти улицы как свои пять пальцев и перемещалась по ним механически, не обращая внимания на то, что делает.
Вторая улица была самой темной, так как на ней стояло всего несколько домов (да и те были утоплены в глубине) и отсутствовало уличное освещение, однако теперь она не казалась Дженни зловещей или пугающей, как это было раньше. Когда-то в детстве она упорно отказывалась ходить по этой улице даже при свете дня. Но теперь все изменилось.
Головная боль начала проходить, и приступ тошноты тоже отступил. Приободрившись, она ускорила шаг и приподняла голову. Она уже добралась до середины, и впереди замаячили тени, отбрасываемые фонарями следующей, более освещенной улицы.
Она не обратила внимания на фигуру, скрывавшуюся в тени бузины, и не услышала, как эта фигура поспешно двинулась за ней. Она не знала, что ей предстоит умереть.
Когда на ее правое плечо опустилась чья-то рука, у нее было лишь мгновение на то, чтобы среагировать – сначала чисто инстинктивно, бессознательно, а затем под действием настоящего, всепоглощающего ужаса. Однако, когда она начала сопротивляться, рот у нее был уже зажат и она не могла издать ни единого звука. Какой-то потаенный участок мозга еще успел отметить странный сладковатый запах, однако это было последним ощущением, которое она испытала, прежде чем лезвие ножа прервало ее существование.
Это лезвие сделало ровный разрез, протянувшийся от медиального конца правой ключицы до конца левой. Войдя на достаточную глубину, оно перерезало нижнюю часть щитовидного хряща, переднюю стенку трахеи и обе сонные артерии. Впрочем, Дженни Мюир обо всем этом уже не узнала, как и о том, что разрез был сделан существенно ниже, чем обычно.
Однако, несмотря на прискорбное неведение об обстоятельствах собственной смерти, она сыграла свою роль, и сыграла ее хорошо. Она ощутила боль лишь на мгновение, как и пульсацию крови, хлынувшей из ее разрезанных артерий, часть которой, подчиняясь закону земного притяжения, начала просачиваться по трахее в легкие.
Да и самой Дженни Мюир оставалось после этого жить всего лишь мгновение.
Широко раскрыв рот и глаза, она опустилась на колени на холодную мокрую мостовую, и жизнь ее окончилась.
Вокруг было темно, и становилось все прохладнее. Время от времени раздавался шум проезжавших мимо машин, и яркий проблеск их фар приглушал тусклое освещение фонарика, висевшего на ветке над распростертым телом.
Чистое и блестящее лезвие сделало еще один разрез симметрично предыдущему от левого плеча до правого. Затем лезвие вынули из тела и воткнули посередине сделанного разреза. Оттуда оно совершило самое длинное и легкое путешествие – сначала вдоль грудины, затем по плавному изгибу живота, колыхавшемуся как нежное и бездонное море, и до мелкого шельфа лобковой кости.
После вырезанной таким образом буквы «Т» можно было приступить к настоящей работе, и вскоре на поверхности появился свернутый спиралью кишечник с прозрачной брыжейкой, а из-под правого подреберья выползала светло-коричневая и роскошно гладкая печень.
Далее следовало вернуться к грудному отделу. И в течение нескольких последующих минут лезвие двигалось параллельно коже, отделяя ее от ребер. Тело было еще теплым, и кровь могла хлынуть в любой момент, стоило ей только найти выход из сосудов. После отделения довольно широких лоскутов кожи и подкожной клетчатки грудная клетка и брюшина были очищены.
Затем ребра с обеих сторон были разрезаны по дуге пилой, так что разрезы сходились почти у самой шеи и расходились внизу. Затем ножом были отрезаны оставшиеся сухожилия, и органы грудной клетки со слабым хрустом разрываемых тканей были отделены от грудины.
В тусклом свете фонарика яркость красок приглушалась до темно-красных и коричневых оттенков. К ночным запахам сырости и разложения еще не примешивалось ничего постороннего.
Теперь лезвие перешло к шее. Кожа на горле прилегала очень плотно, и приступать к ее отделению пришлось с нижней челюсти. На это ушло еще несколько минут, столь же бесценных, как последние вдохи умирающего, пока не был образован достаточно широкий фарватер, чтобы лезвие смогло протолкнуться сквозь нижнее нёбо, обогнуть челюсть и вытащить язык.
Звук приближавшихся шагов, донесшийся со стороны изгороди, заставил ненадолго прерваться. Свет фонарика погас, фигура окаменела, задержав дыхание, а сердце начало колотиться с болезненной силой.
Шаги звучали все ближе, отовсюду и ниоткуда, отдаваясь слабым эхом. Походка была тяжелой и размеренной, и тем не менее прохожий двигался довольно быстро, словно ощущая, что неподалеку творится нечто неладное.
Шаги звучали уже всего на расстоянии метра, и на мгновение показалось, что время замерло, – незнакомец мог остановиться с той же вероятностью, что и пройти мимо. Не остановившись и даже не замедлив шаг, прохожий начал удаляться.
Однако прошло еще две минуты, прежде чем фонарик зажегся снова и работа была продолжена с еще большим рвением. Язык был вытащен наружу, крупные сосуды на руках вскрыты. Затем брюшную аорту отсоединили от позвоночника и выдернули наружу вместе с сердцем и легкими, отделившимися с поразительной легкостью. Первый характерный звук – оглушающе резкий треск – прозвучал излишне громко и назойливо.
Теперь надо было поменять положение, чтобы заняться тазом. Пальцы в перчатках проникли под лобковую кость, миновали мочевой пузырь и устремились к влагалищу. В ночной тиши раздались тихие томные хлюпающие звуки.
После этого грубого вскрытия рука углубилась в левую часть таза, отделив от брюшины кишки и освободив место для дальнейших манипуляций ножом. Сначала были перерезаны крупные сосуды, идущие к нижним конечностям, после чего лезвие было введено под лобковую кость, прорезало мочеточник и влагалище и, высвободив отрезанные органы, добралось до прямой кишки, спрятанной в самой глубине тела.
Наконец начал распространяться запах фекалий, являвшийся единственным свидетельством несовершенства человеческого организма, которое проявлялось лишь на этой финальной стадии.
Послышалось легкое кряхтение, вызванное напряжением, рука снова ухватилась за язык, и вся масса взаимосвязанных органов, покрытых свернувшейся и подсыхавшей кровью, вывалилась наружу вместе с фекалиями. Эта на удивление тяжелая масса, которую едва можно было удержать в одной руке, неуверенно поколыхалась и плюхнулась в открытый пластиковый мешок.
И в этот момент раздался еще один посторонний звук: где-то поблизости открылась и закрылась дверь. Звук был тихим и нерешительным, словно кто-то боялся разбудить соседей. Кто-то шел по гравиевой дорожке, расположенной всего в трех метрах от убийцы.
Но и этот прохожий не остановился, и звук шагов, достигнув максимальной громкости, начал затихать в отдалении. И лишь неслышимое ни для кого сердце снова бешено заколотилось о грудную клетку.
Теперь можно было заняться головой.
– Нравится?
– Да, – с улыбкой выдохнула Беверли.
Он тоже ответил улыбкой:
– Хорошо.
Ее жизнь изменилась с тех пор, как в ней появился Питер Андерсон. Оглядываясь назад, она ощущала, что ее прежнее существование было абсолютно пустым. Потрясение, переживаемое ею теперь, было вызвано сравнением старой жизни с новой и полным непониманием того, как могла она раньше вести такую одинокую и совершенно бессмысленную жизнь. Может, она была психически нездорова? Может, страдала от какого-то навязчивого психоза, лишавшего ее чувства гармонии и ощущения перспективы? Теперь она даже не могла вспомнить, как вела себя в той, прежней жизни, когда по собственной воле (а то и с восторгом) использовала сексуальные отношения, чтобы решать те или иные проблемы, залечивать душевные раны и удовлетворять свои амбиции. То была другая жизнь, которая, к счастью, закончилась.
И за это богоданное чудо она должна благодарить только Питера. Доброго и мягкого Питера ростом в два с лишним метра, который вплыл в ее жизнь в тот момент, когда, сломленная неудачей, она чувствовала себя абсолютно раздавленной. Именно он уговорил ее остаться в полиции, внушил ей, что она является достойным человеком и необыкновенной женщиной.
Он появился в ее жизни всего два месяца назад. Ограбленный адвокат, лишившийся своих золотых часов и изящного бумажника из телячьей кожи, он вначале был для нее очередным пострадавшим, однако, проведя в его обществе всего час, она подпала под очарование его улыбки и оказалась покорена его уверенностью в себе. Она нашла предлог, чтобы повидаться с ним еще раз, и обнаружила, что их чувства взаимны. Встречи переросли в свидания, ставшие смыслом ее жизни. С каждой встречей ее привязанность к Питеру, основанная на чувстве уважения и глубокой благодарности, лишь возрастала. Он был не только учтив и образован – его отличали искренность и, что самое главное, полное довольство жизнью. Беверли даже начало казаться, что всю жизнь ее окружали закомплексованные неудачники.
Конечно же, Питер не был святым, по крайней мере в общепринятом смысле этого слова. У него имелись свои недостатки – он был раздражителен, слишком быстро водил машину, так как считал себя первоклассным водителем, хотя не был им, и часто забывал, что ей не всегда приятно, когда все решают за нее, – но она считала эти недостатки не слишком существенными и не сомневалась в том, что со временем он изменится. Как бы там ни было, он был поразительно красив и очень хорош в постели – достоинства, которых ей было вполне достаточно, по крайней мере пока.
И вот они сидели на вершине холма в предгорьях Малверна, любуясь видом Глостершира, простиравшимся на несколько миль и мерцавшим в волнах тепла и света, и этот вид невольно убеждал их в том, что Англия – это прекрасная и зеленая страна.
За их спинами привязанные к березе лошади исполняли предназначенную им роль. Завтрак, разложенный вокруг корзины, был уже почти уничтожен, а остатки валялись на траве. Только вино еще оставалось, однако и его минуты были сочтены. Они лежали на траве, глядя в бездонную синеву неба. Ноздри Беверли трепетали от какого-то аромата, и лишь по прошествии часа она поняла, что это не что иное, как чистый воздух.
– Беверли?
– Ммм?
– Я тут подумал…
У него был глубокий нежный голос, действовавший на нее чуть ли не гипнотически. Когда они лежали ночью в постели и он говорил, она слышала лишь модуляции голоса и погружалась в его тепло.
– Да? – промурлыкала она.
– У меня есть билеты на Барбадос…
Она не сразу поняла, что он сказал. Когда же до нее дошел смысл сказанного, она широко раскрыла глаза, вскинула голову и увидела, что он улыбается с довольным видом.
– У тебя найдется время? В начале июля. Самолет и гостиница… – Он помолчал. – Но если тебя это не привлекает…
Она вышла из оцепенения, слабо взвизгнула и хлопнула его по плечу:
– Да что ты говоришь!
Оба рассмеялись, и Питер начал рассказывать, как ему пришло в голову купить билеты, что он уже трижды бывал там и не сомневается в том, что ей тоже понравится. Поэтому хорошо бы, чтобы она выяснила, дадут ли ей отпуск.
Она узнает; скорее всего, ей удастся это устроить. Они продолжали болтать и строить планы, и Беверли едва сдерживала возбуждение, с трудом веря в то, что ей посчастливилось встретить такого человека.
«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наверное, это сон».
Пока они говорили, влажная полуденная дымка начала рассеиваться. Они поднялись и начали собирать остатки пищи, а потом она взяла Питера за руку и, когда он обернулся, обняла его и поцеловала. Они долго стояли обнявшись, и Беверли поймала себя на том, что благодарит Бога за то, что Он наконец послал ей человека, избавившего ее от добровольного саморазрушения.
Они уже собирались сесть на лошадей, когда вдруг зазвонил ее мобильник.
Айзенменгер сидел в своем новом кабинете и изо всех сил пытался настроиться на положительный лад, что никак ему не удавалось. Ситуация, в которой он оказался, была удручающей со всех сторон, и лично он не мог найти в ней ничего оптимистичного или обнадеживающего. Да, со здоровьем у него было все в порядке – по крайней мере гораздо лучше, чем годом раньше, – но теперь он страдал от хронической бессонницы и редко когда спал больше четырех часов за ночь, а то и не спал вовсе. Да и во сне его продолжали преследовать страхи, поэтому отдохнуть ему не удавалось.
К тому же впервые за год он снова вышел на работу, для того чтобы пополнить свои иссякавшие сбережения. Окружающие шептались, что он мог бы найти себе место получше, но его не волновало, что работа будет временной, поскольку он еще не чувствовал в себе сил работать на постоянной основе. И если говорить начистоту, он не был уверен, что они у него когда-нибудь появятся. Гистопатология стала кропотливым и утомительным занятием, требовавшим внимания и скрупулезности, к тому же занятия ею навевали на него скуку – а подобное сочетание было взрывоопасным.
И кроме того, существовала Елена.
Он не понимал, что с ней случилось, и это его мучило. Не то чтобы это случилось внезапно и неожиданно. На самом деле все началось так давно, что он даже не мог точно определить, когда именно, хотя что-то подсказывало ему, что это было тогда, когда она лечилась от травм, полученных на Роуне. Все было настолько неуловимо, что он был не в состоянии понять суть происходящего. Елена же не только отказывалась что-либо объяснять, но отрицала само наличие каких бы то ни было проблем.
Он терпеть не мог тайн и всегда пытался их разгадать, испытывая навязчивую потребность разобраться решительно во всем. Именно поэтому он выбрал гистопатологию, в которой диагноз – царь и бог, в отличие от других направлений медицины, где чистота решения проблемы замутнена такими неопределенностями, как непредсказуемая реакция на терапевтическое воздействие или неординарный организм пациента.
Но, несмотря на все его усилия, эта конкретная загадка не поддавалась решению. Елену раздражало любое его замечание, ситуация в течение уже семи месяцев оставалась неразрешенной, и напряжение сохранялось.
В кабинет вплыла Алисон фон Герке, предваряемая собственным бюстом, размеры которого напугали Айзенменгера, когда он увидел его впервые. И теперь при каждой встрече с Алисон он не мог избавиться от мысли о тех чудовищах, которые таились у нее под одеждой.
– Устроились?
Айзенменгер всегда считал, что между размерами груди и общей привлекательностью существует обратная связь, которую лишь подчеркивали известные исключения. К несчастью, Алисон фон Герке подпадала под его теорию. У нее был большой, слегка искривленный рот, огромный нос и невыразительные глаза. Возможно, для того чтобы компенсировать последний недостаток, природа наградила ее густыми бровями, однако это помогло мало.
– Да, все прекрасно, – солгал он.
Она уже показала ему большое, но обветшавшее отделение, с гордостью, которая лишь подчеркивала его недостатки. Финансирование министерства здравоохранения не могло отыскать путь в эту конкретную энтропийную ловушку. Затем она затронула щекотливый вопрос о гонорарах, имея в виду не то жалкое жалованье, которое выплачивала больница, а дополнительные заработки, получаемые практикующим гистопатологом, – прокурорские вскрытия и частные заказы. Они были честной прибавкой к так называемому чистому заработку, однако, как он и предполагал, здесь это не практиковалось. Отделение гистопатологии Западной Королевской больницы придерживалось своих академических корней, несмотря на то, что те уже давно сгнили и почти разложились. Все подобные гонорары направлялись на «исследовательский счет». То, что Айзенменгер, являясь временным заместителем, никогда не смог бы им воспользоваться, мало кого заботило. Его утешало лишь то, что он заранее это предвидел, а потому ответил на заявление Алисон смиренным кивком.
– Хорошо. Я познакомила бы вас с профессором Пиринджером, – добавила она заговорщицким тоном, – но его сегодня нет.
«Отсутствие – общая черта всех профессоров». Это была старая, но справедливая шутка.
– А с остальными познакомитесь позже. Вы с кем-нибудь из них знакомы по прежней работе?
– Я учился вместе с Викторией, а остальных, кажется, не знаю.
Лицо доктора фон Герке вытянулось или, скорее, сплющилось, если пользоваться менее щадящим термином.
– Жаль, – промолвила она. – Ее-то вы и замещаете. Ей предписали отдых.
– Правда?
– Она немного переутомилась.
Он вспомнил живую симпатичную блондинку из времен своей юности, которую он обожал издали, но так и не собрался с мужеством, чтобы выразить ей свои чувства. Трудно было соединить это воспоминание с образом, нарисованным Алисон фон Герке. Она избегала страшного слова на букву «с», однако все ее высказывания кружили вокруг того, что называется стрессом.
– И еще такая неожиданность. Вы знаете, что она получила медаль за исследовательскую деятельность?
Он смутно слышал что-то и тоже был удивлен. Виктория не была сияющим метеором на небосклоне академической гистопатологии. А медаль за исследования обычно вручалась ископаемым профессорам из Оксфорда или Кембриджа.
– Да, – продолжила фон Герке. – За очень интересное исследование влияния вакцины на онкогенетическую выраженность в клетках опухоли. Фармацевтические компании проявили огромный интерес.
– Правда? – Каким-то странным образом этот вопрос привел их в заводь неловкого молчания, в которой они и застряли на некоторое время. Она, улыбнувшись, вышла. У него оставалось еще двадцать минут до начала вскрытия. Ровно двадцать минут, за которые ему предстояло понять, до чего он докатился.
Старший инспектор Гомер оглядел небольшой запущенный сад с удовлетворенной улыбкой, которая была несколько шире, чем допускали обстоятельства. Место убийства мало подходило, чтобы получать удовольствие, да и лицевые мускулы у инспектора редко складывались в комбинацию, необходимую для появления улыбки, однако на этот раз у него были особые причины.
Возмездие.
Он был достаточно хорошо образован, чтобы понимать разницу между возмездием и местью, и достаточно самодоволен, чтобы полагать, что последнее не имеет к нему никакого отношения. Перед ним стояла благородная задача. Он был орудием восстановления Божественной справедливости и исправлял ошибки, допущенные по отношению к нему самому, обществу в целом и его конкретному члену – Мелькиору Пендреду, который не мог по-настоящему защитить себя от сил невежества, глупости и (не будем малодушничать и прятаться за эвфемизмами) зла и уже никогда не сможет этого сделать, поскольку он мертв.
И поэтому именно ему, Уильяму Гомеру, выпало бороться за справедливость. У него было мало радостей в жизни, и одной из них являлось возмездие за реальные или воображаемые обиды. Он никогда в этом не признавался, но именно об этой классической героической роли он всегда мечтая. Человек, Которого Невозможно Заставить Замолчать, Защитник…
– Сэр?
Свистящий слог прервал его размышления и, просочившись вглубь его праведного гнева, растворил его и уничтожил.
– В чем дело? – с соответствующей резкостью осведомился он.
– Ньюман что-то нашел, сэр.
Гомер еще издали заметил, что Ньюман молод и неопытен; форма на нем сидела как хитиновый покров на раздавленном таракане. Естественно, он нервничал, и коротко подстриженный светлый ежик не мог скрыть блестящего пота, выступившего на его лбу и темени. Левое веко у него слегка подергивалось, а взгляд ярко-голубых глаз был затравленным, как у волка.
Скорее всего, для него это было первое убийство – уж слишком молодо он выглядел.
«Если это так, тебе стоит его запомнить, сынок».
Эта мысль принесла какое-то горькое утешение, смягчившее неприязнь, которую он испытывал к молодому констеблю Кули.
Улыбка Гомера могла бы украсить лицо доктора Гильотена после первого удачно проведенного испытания его изобретения.
– Где?
Кули кивком указал на дом:
– Там. За мусорными баками, у сарая.