Текст книги "Рыцарь свободного моря"
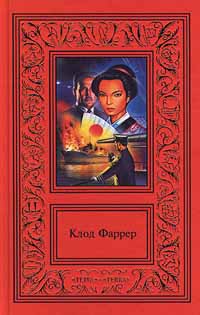
Автор книги: Клод Фаррер
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
II
Во всяком случае, те, кто представлял себе Тома Трюбле, сеньора де л'Аньеле, – не видя его и не зная, где его найти, – кутилой, пьяницей и бабником, непомерно возлюбившим все малуанские кабаки, начиная с «Пьющей Сороки» и кончая «Оловянной Кружкой», те ни черта не видели и попадали пальцем в небо.
Впрочем, находились и другие люди, которые лучше себе рисовали положение вещей и не полагались на болтовню разных кумушек. Они лучше были осведомлены, – через самих матросов сошедшей на берег команды, – для них не было тайной, что в ночь по приходе «Горностая» в Доброе Море, от фрегата отвалил весьма таинственный вельбот и пристал к берегу у Равелина. Предупрежденные, очевидно, заранее часовые не чинили судну препятствий и открыли ему Большие Ворота. И Тома, – это он возвращался таким образом в город, – провел за собою, держа за руку, молчаливую и замаскированную даму; дама же эта, опять-таки по словам матросов, была не кто иная, как некая испанская или мавританская девица, которую корсар похитил некогда неведомо где и сделал своей подругой, столь горячо любимой подругой, что никогда с ней не расставался, таская ее повсюду за собою, даже в самой гуще сражения под смертоносным градом ядер и пуль, и под конец дошел до того, что привез ее с собой в Сен-Мало.
Что же касается остального, – а именно того, что сталось с упомянутой испанкой или мавританкой, где удалось Тома ее поселить, что намерен он был с ней делать теперь или, скажем, позже, в этом городе, достаточно неприязненно настроенном к иностранцам и кичившимся своей недоступностью и строгой нравственностью, – об этом никто не имел ни малейшего понятия.
Не подлежало, во всяком случае, сомнению, что, вопреки распространенному мнению, Тома отнюдь не пропадал во всех злачных местах Большой улицы, являвшихся некогда предметом его вожделений, и, несмотря на это, не менее часто уходил из родительского дома, расположенного, как известно, на Дубильной улице, отправляясь затем гулять в одиночестве вдоль городских стен, задерживаясь в самых пустынных местах, как-то у Низких Стен, – между Билуанской башней и башней Богоматери, – и у Асьеты, – в конце улицы Белого Коня, что на полпути между упомянутой Бидуаной и Кик-ан-Груанем. Там он бродил с самым мрачным видом. И никто еще не решался беспокоить там его своим непрошенным присутствием.
Да, конечно, сеньор де л'Аньеле совсем уже не был похож на Тома Трюбле былых времен…
Тот, правда грубоватый, но хороший товарищ и веселого нрава, оставил в Сен-Мало много верных друзей. Этот, резкий, мрачный, не желавший сдерживаться, за исключением тех редких часов, которые ему так или иначе приходилось проводить ежедневно в доме на Дубильной улице, пренебрегал всеми теми, кто прежде любил его; пренебрегал даже драгоценными ласками родных и близких, что сначала очень огорчало сестру его Гильемету, затем очень ее опечалило и, наконец, сильно разгневало. Ее всегда связывала с Тома горячая привязанность и взаимное доверие, как в малых, так и в крупных делах. У них с Тома не было тайн друг от друга. И вдруг, после этого долгого отсутствия, во время которого сестра вздыхала не меньше, если не больше, чем вздыхают жены и возлюбленные, когда их покидают любовники и мужья, брат, вернувшись домой, коварно забыл свои былые ласки, не желая возобновлять прежней близости.
Этого он решительно не пожелал и притом с первого же дня по возвращении.
Действительно, как только он переступил порог отчего дома, Гильемета не замедлила броситься в объятия своего любимого брата, столь гордо возвратившегося в лоно семьи. И Тома не преминул ответить поцелуем на каждый ее поцелуй, объятием на каждое ее объятие. Но когда дело дошло до рассказов и передачи всех подробностей этой шестилетней кампании, со всеми ее случайностями и удачами, со всеми разнообразными ее приключениями, Тома вдруг уперся и тотчас же как будто воды в рот набрал: Гильемета не могла двух слов из него вытянуть.
Тщетно изощрялась она, требуя рассказов то о сражениях, то о штормах, затем настаивая на подробном повествовании о захвате этого Сиудад-Реаля, столь богатого и знаменитого, что слава о нем докатилась до Сен-Мало; каждый вопрос только усиливал молчаливость корсара. И в довершение всего, когда любопытная Гильемета затронула вопрос о его любовных похождениях и о прекрасных заокеанских дамах, Тома, внезапно разозлившись и почти рассвирепев, вскочил вдруг со стула и выбежал из комнаты, хлопнув дверью и громко проклиная женщин, их дурацкую болтовню и эту их страсть всегда воображать, что мужчине нечем заняться, кроме бабья и всякого вздора. На чем и прекратились окончательно все рассказы и беседы.
И Гильемета все еще не могла утешиться.
Последняя из десяти детей Мало и супруги его Перрины, Гильемета была много моложе своих трех сестер, которые все повыходили замуж, когда она сама была еще совсем маленькой девочкой; моложе также всех своих братьев, среди которых Тома, младший из шестерых, был все же на целых пять лет старше ее, поэтому детство Гильеметы было уныло. Не то, чтобы старики и старшие братья и сестры плохо с ней обращались, – нет, – но, будучи все старше ее, они не забавлялись и не играли с ней. Позже лишь Тома, – и то, только он один, – когда ему исполнилось пятнадцать лет, а ей десять или одиннадцать, обратил внимание на эту не по летам развитую и осторожную уже девочку, умевшую все вокруг себя заметить, вовремя промолчать и не выдать секрета. Тогда он живо обратил ее в свою союзницу и сообщницу, пользуясь ее услугами, которые она с полной готовностью ему оказывала, для того, чтобы ловко скрывать свои мальчишеские проказы. Так родилась между ними нежная дружба. И дружба эта была настолько сильна, настолько деспотична, по крайней мере, у Гильеметы, что та решительно отказывалась от замужества и не раз на коленях умоляла старого Мало не принуждать ее соглашаться на то или иное предложение, хотя бы и выгодное. Она не хотела мужа. Она не хотела, чтобы кто-нибудь заменил Тома в ее горячей привязанности, в ее пламенном доверии…
И вот теперь он сам, Тома, отвергал то и другое и, можно сказать, порывал с братской любовью былого времени. Ей, Гильемете, стукнуло уже двадцать два года. Скоро она станет старой девой. Уже никто из парней за ней не ухаживал…
Дошло до того, что глухая злоба стала мало-помалу наполнять ее сердце, и нередко, когда Тома уходил из дома на свои одинокие прогулки вдоль городских стен, ловила себя на том, что взгляд ее, провожавший брата, полон не только раздражения, но и ненависти…
III
Проглотив наскоро обед, Тома как раз удирал тайком из нижней комнаты. Старый Мало, засидевшись за столом, делал вид, что не замечает поспешного бегства парня; Перрина, быть может, и опечаленная в глубине души, тоже не решалась ничего сказать. Так что одна Гильемета, собравшись с духом, соскочила также со своего стула и живо бросилась к двери, преграждая, как бы невзначай, дорогу брату.
– Ты так торопишься уйти? – тихо сказала она ему. – Кто это каждый день так призывает и притягивает тебя подальше от нас?
Раньше, чем ответить, он молча поглядел на нее.
– А тебе что за дело? – сказал он, наконец, тоже тихо, заботясь, как и она, о спокойствии отца и матери.
Гильемета нетерпеливо тряхнула головой.
– В былое время, – заметила она, – мне не нужно было бы и спрашивать, ты сам бы мне сказал.
Он пожал плечами.
– Другие времена – другие люди! – сухо отрезал он.
Она топнула ногой. Он остался спокоен, делая усилие над собой, чтобы не рассердиться.
– Вспомни, – продолжал он более мягко, – что целых шесть лет я жил, как хотел, никогда ни перед кем не отчитываясь. Я побывал у черта на куличках! Сколько раз не знал я, как быть, и из-за каждой безделицы мне приходилось работать до седьмого пота… И ни души кругом, у кого бы спросить совета. Теперь я разучился болтать. Зато привык ходить один и бродить ради прогулки, куда глаза глядят. Я уже не в силах как-нибудь это изменить… Не огорчайся, – ни ты, ни я не можем здесь ничего поделать.
Проговорив это, он хотел открыть дверь, но Гильемета снова задержала его.
– Послушай, – сказала она, – я и сама теперь не люблю болтать. После твоего отъезда я, так же, как и ты, отвыкла от этого. Но, не тратя много слов, разве не могли бы мы, как раньше, делиться своими тайнами и помогать друг другу советами… Не смейся! Как ни учен ты, а век живи – век учись, и не так-то ты уж ловок, чтобы не влипнуть когда-нибудь!
Насмешливо смерил он ее взглядом.
– Я тебя знаю! – сказал он. – Ты не прочь подраться, да руки вот у тебя коротки! Только уж ты мне поверь, я столько вынес ударов, что кожа у меня затвердела. Лучше ты меня не задевай!
– Ладно! – сказала она сквозь зубы, нахмурив брови.
Он все же открыл дверь и ушел. Молча смотрела она ему вслед, и на губах у нее блуждала нехорошая улыбка.
Дойдя до конца Дубильной улицы, Тома свернул налево, на улицу Вязов и затем, в конце улицы Решетки, являющейся продолжением улицы Вязов, повернул направо, в Известковый переулок. Если бы кто-нибудь последовал за ним его извилистым путем, то догадался бы, что Тома направляется, по обыкновению, гулять вдоль городских стен; и действительно, он вскоре их достиг, миновав улицу Старьевщиц и башню Богоматери. И начал бродить здесь, как всегда, большими шагами, резкими и порывистыми.
Городские стены Сен-Мало являются, как известно, великолепнейшей каменной постройкой; и круговая дорога, проходящая под защитой их парапетов, поспорит, как место для прогулок, с любым местом в мире. Достойна удивления высота, на которой стоишь, смотря на песчаные берега под самыми стенами и на море за этими берегами, раскинувшееся под небесами чудесным зеркалом, то голубым, то зеленым, то серым. На сей раз, пока Тома, поднявшись по лестнице башни Богоматери, приближался к Бидуане и Асьете, весь небосвод покрылся большими облаками самых разнообразных оттенков и очертаний, и отражение их в воде одело ее в переливчатый и волнистый шелк, цвет которого менялся от мышиного до черноватого оттенка. Однако же, как ни прекрасно было это зрелище, Тома не удостаивал его ни единым взглядом. Он шел, опустив голову, с омраченным челом, как бы мучаясь докучливыми мыслями. Так миновал он Бидуанскую башню, не обратив даже внимания на часового, который с пикой в руке охранял подземный ход в пороховой погреб…
Но, пройдя еще пятьдесят шагов и далеко еще не доходя до Асьеты, Тома вдруг остановился.
Он как раз поравнялся с очень узким тупиком, известным малуанцам под названием улицы Пляшущего Кота. Этот закоулок, столь же пустынный, как и узкий, примыкал к самой городской стене, так что крайний его дом, построенный на косогоре, одновременно сообщался большой дверью с улицей и маленькой – с защитным валом.
Тома, остановившись, пристально смотрел, повернувшись спиной к морю, на окна этого крайнего дома.
Очевидно он нашел в нем то, что искал, так как вдруг, торопливо осмотревшись кругом, – чтобы убедиться, что никто за ним не следит, – сошел по открытой лестнице с круговой дороги, пересек вал и принялся стучать в дверь этого маленького дома.
IV
Сидя у окна и смотря на море, Хуана хранила молчание.
Жилище ее возвышалось на сажень над городской стеной. Облокотясь на подоконник широко раскрытого окна, она созерцала, волнистые облака и отражающее облака море.
И когда Тома вошел, она не повернула головы, хотя очень хорошо его слышала.
Он все же подошел к ней, затем, сняв шляпу и поклонившись, как принято в благородном обществе, взял не поданную ему руку и поцеловал ее, ибо Хуана приучила своего любовника к такой учтивости, в которой, впрочем, он все еще проявлял некоторую неуклюжесть.
– Прелесть моя, – сказал он затем очень нежно, – прелесть моя, как чувствуете вы себя нынче?
Не говоря ни слова, она равнодушно покачала головой.
– Разве вам плохо здесь? – спросил Тома снова целуя ее руку, которую еще не выпускал из своей.
Не будучи, правда, очень роскошным, помещение являло много удобств, – хорошие кровати, глубокие кресла, большие шкафы, наполненные очень тонким полотном. Тут можно было также заметить различные ценные раритеты, свидетельствовавшие о незаурядном богатстве, – шелковую обивку на стенах и множество серебра искусной работы. Но все было такое разрозненное, что сразу видна была случайность подбора. Рядом с гобеленом ткачей его величества виднелся плохонький плетеный стул, и подле изящного позолоченного кубка – простой глиняный кувшин.
По правде сказать, прекрасной Хуане эта неравномерная роскошь была, по-видимому, безразлична. Уподобляясь в этом своим соотечественницам-испанкам, которые всегда обращают большое внимание на свои наряда и охотно пренебрегают столом и хозяйством, она бродила по своим неубранным комнатам, заботясь лишь о том, чтобы быть великолепно разодетой, как полагается накрашенной и по моде напудренной. Тома, тот иногда удивлялся этим привычкам, столь отличным от всего того, что он постоянно наблюдал в Сен-Мало, и в особенности не мог освоиться с манерой своей возлюбленной сидеть сложа руки и ротозейничать, тогда как мать его и сестра постоянно заняты были какой-нибудь работой.
Подумав об этом, он сказал:
– Я боюсь, что вам скучно во время моих долгих отлучек.
Она снова покачала своей тщательно причесанной головой и совершенно безразличным тоном ответила:
– Я не скучаю. Но скажите, – в вашей стране никогда не бывает солнца?
– Как бы не так! – уверил Тома. – Вот наступает прекрасный месяц май, всегда как нельзя более солнечный. Имейте терпение, моя прелесть!
С тех пор, как любовь их помирила, а затем тесно связала между собой, они перестали друг к другу обращаться на ты, как будто слово «ты» годилось им только для раздоров. И действительно, между двумя даже пламенными любовниками меньше настоящей близости, чем между двумя смертельными врагами.
Между тем, Хуана отвечала, впервые проявляя некоторую живость в ответе:
– Терпения у меня достаточно. Разве не прошло уже больше трех недель с тех пор, как вы меня привели в эту тюрьму, и я, ради вашего удовольствия, ни днем, ни ночью не выхожу из нее? Однако же вы обещали мне, что этому будет положен конец, и при этом скорый конец! Помните ли вы, по крайней мере, об этом и принимаете ли необходимые меры для ускорения?
На что Тома, в большом смущении не решаясь дать определенный ответ, пустился в туманные объяснения и нежные речи. Но видя, что Хуана настаивает, он скоро перешел от слов к действиям. И действия его оказались настолько красноречивы, что страстная Хуана благодаря им забыла на некоторое время не только свое вынужденное уединение, но также и свои наряда и свою прическу, немало пострадавшие от пылкой страсти корсара, которой, впрочем, вполне вторило бурное самозабвение его любовницы.
Ну, конечно! Тома сначала пообещал, даже поклялся, что это новое заточение, которому он должен был подвергнуть свою прежнюю пленницу, долго не продлится… «Ровно столько лишь времени, уверял он, сколько понадобится для того, чтобы расположить малуанцев и малуанок к хорошему приему иностранки, которой без этой предосторожности грозила бы опасность быть плохо принятой…»
Тома, предупрежденный Луи Геноле, считался и раньше с этой опасностью, но только вернувшись в Сен-Мало и снова соприкоснувшись с людьми и обычаями родного города, начал он понимать в полной мере непреодолимость этого затруднения. Действительно, в каком качестве и под каким именем представить строгим мещанам чванного своей добродетелью города иностранку, которую все не преминут назвать наложницей, а то даже шлюхой и потаскухой? По правде говоря, Хуана и была-то всего-навсего военнопленной. Матросы и солдаты расправляются, как хотят, с такими созданиями, это позволительно. Но они никогда не решаются привозить их с собою в свои дома и города. И Тома не закрывал глаза на то, что было бы чистым безумием надеяться на прием его любовницы именно в качестве любовницы, любым обществом из тех, что имелись в городе, хотя все они, даже самые чванные, приняли бы его самого с великим почетом. Что же касается того, чтобы ввести в свою семью испанку, даже как законную жену, как супругу, то об этом нечего было и думать. Что же тогда делать?
Смущенный Тома не мог прийти ни к какому решению. И часто не без горечи оценивал он ничтожность того действительного могущества, которого на самом деле достигает человек вместе с достижением столь вожделенных земных благ: богатства, славы, знатности и, наконец, открыто явленного монаршего благоволения. Все это у него было, у него, Тома, сеньора де л'Аньеле, которого король Людовик XIV пожелал видеть собственными очами и поздравить из собственных уст в своем Сен-Жерменском королевском замке. А какая польза от всех этих почестей? Нельзя даже открыто взять, признать и сохранить у себя любовницу по собственному выбору, не заботясь о том, что об этом скажут!
– Целовать – не значит отвечать! Тома, миленький, оставьте теперь мою грудь и скажите-ка мне по совести: скоро вы намереваетесь вытащить меня отсюда?
Так, снова переходя в атаку, говорила Хуана, тщательно поправляя прическу перед своим зеркалом, привезенным из Венеции и весьма прекрасным.
Тома крякнул.
– Гм! – сказал он нерешительно. – По совести… разве я знаю? Прежде всего надо разыскать другое жилье, получше этого чердака. Мне хотелось бы вам подобрать, моя прелесть, совершенно новый и красиво выстроенный особняк и хорошо обставить его. После этого мы подумаем о прислуге, затем о выезде с кучерами и форейторами. Всему свое время. Над нами не каплет. Кик-ан-Груань не в один день выстроилась…
Так говорил он и при этом радовался столь удачному, столь ловко придуманному предлогу. Чем можно лучше успокоить женщину, как не пообещать ей то, что больше всего ценится женщинами: лошадей, кареты, золоченые ливреи и собственный дом? А золота хватит, чтобы сдержать обещание.
Но Хуана пожала плечами. Венецианское зеркало по-прежнему отражало ее бесстрастное лицо, а гребень и пуховка все также старательно продолжали свое дело среди эбеновой, грациозно изваянной прически.
Она презрительно фыркнула:
– Ищите, что вам угодно, я не возражаю. Но есть другие заботы, более неотложные. Есть у вас здесь церкви и священники? У меня большая потребность в религии, так как душа моя, наверное, черна сейчас, как сажа… И сколько воскресных дней провела я здесь без обедни? Кроме того, у меня очень сильное желание стать на колени рядом с вами, любовь моя, во время литургии…
Тома, никогда не помышлявший об этом, невольно подскочил на месте.
Хоть он и сам был очень набожен, ему и в голову не приходило, что его милой может вдруг понадобиться пойти на исповедь. Он очень страстно ее любил, но несмотря на это, – или, как знать, быть может, именно поэтому, – видел в ней просто-напросто настоящую язычницу, предававшуюся странному идолопоклонству, вроде ее почитания некой Смуглянки, столько раз призывавшейся ею на помощь и столько раз проклинавшейся им… язычницу, да, – или хуже того: создание полудемоническое, настолько странно сладострастное, настолько пылкое в утехах любви, что христианин подвергал некоторой опасности свою душу, прикасаясь своим телом к этому пылу. Луи Геноле, человек на редкость благоразумный, – недаром много, много раз крестился он при виде той, кого он про себя называл колдуньей. И вот этой колдунье, или полудемоническому созданию, вдруг понадобились обедни и священники, исповеди и причастия, – ни дать, ни взять, как какой святоше, стремящейся каждый праздничный день подойти к алтарю.
– Ну что же вы молчите? – спросила Хуана.
Он не знал, что ответить. Данный случай был не только чрезвычайно странный, но и чреватый последствиями. Куда же ее повести, эту, еще никому не известную иностранку? К какому священнику? В какую церковь? Очевидно, только не в собор, куда собираются к воскресной обедне все местные кумушки, заранее навострив языки. И не в маленькие часовни при монастырях, куда допускается лишь ограниченное число привилегированных прихожан… Куда же тогда?.. К крепостной обедне, которая для всех доступна, но на которой встречаются лишь гарнизонные солдаты, так как им запрещено показываться на других обеднях, потому что ревнивые малуанские горожане потребовали этого запрещения, чтобы избавить своих жен от волнующего блеска мундиров королевской армии?
– Ну? – нетерпеливо повторила Хуана. – О чем вы размечтались, разинув рот?
Он опять ничего не сумел ответить. Тут она вспылила.
– В чем дело? – крикнула она. – Или ты меня стыдишься? Или я слишком безобразна или слишком плохого рода, чтобы появляться рядом с подобным тебе мужичьем перед твоей Богородицей Больших Ворот или, лучше сказать, – С Большой дороги, Богородицей пиратов и разбойников? Пес ты эдакий! Заруби себе на носу: в следующее же воскресенье ты отведешь меня за руку в самую святую твою церковь, или же, клянусь памятью моего отца, которого ты убил, – предательски, – ты раскаешься!..
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































