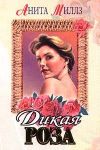Текст книги "Роза"
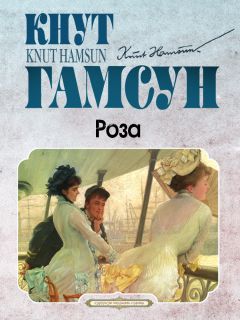
Автор книги: Кнут Гамсун
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
VIII
Я спускаюсь к мельнице, возвращаюсь, и тут меня догоняет баронесса, она перепачкана мукой, должно быть, навещала мельника. Я кланяюсь, она на ходу бросает мне несколько слов; вот она уже обгоняет меня, но вдруг она замедляет шаг и идёт со мною рядом. Я прошу позволения отряхнуть муку с её платья, она останавливается и благодарит. И дальше мы идём вместе, хоть не так уж мне этого хочется. Она предается воспоминаниям детства, вот здесь бродила она – маленькая Эдварда, – стоя ездила на телеге с мешками, одна убегала в осиновую рощу и сиживала там.
Она загрустила голос у неё сделался бархатный, она сказала:
– Вот так переиграешь во все игры, и что остаётся?
Я вдруг к ней расположился, даже её длинные тонкие руки показались мне удивительно милыми, а ведь прежде я находил нецеломудренным их выражение. Я вспомнил, что мне про неё рассказывали на этих днях. Был один человек, по имени Йенс-Детород. Когда Эдварда была маленькая, он работал у Мака за харчи, потом он переселился в рыбачий посёлок, женился, запил и впал в нищету. Жена от него уехала на Лофотены, да там и осталась, детей у него не было – у Йенса-Деторода. Несколько дней тому назад он пришёл к Эдварде и стал перед нею – стоит и молчит, как большой пёс. И Эдварда пристроила его к одному делу в Сирилунне и окрестностях – он должен был продавать кости. Он обходил те немногие дома, где ели мясо, забирал кости, приносил их в лавку и задорого продавал; а потом их отправляли на юг и перемалывали в муку. Так что все кости в Сирилунне проходили через его руки. Мак посмеивался, что он должен платить бешеные деньги за кости от собственных туш, но он не спорил, не такой человек был Мак, чтобы шум поднимать. Так же точно поступали к Йенсу-Детороду и кости с кухни Хартвигсена. Чудеса, да и только! Но Йенс-Детород всё принимал как должное, он и слушать не хотел об отказе. Он огребал немалые денежки, в первый же раз, как продал кости, смог купить себе одежду, и Эдварда сама ему отпускала товар в лавке и сама производила расчёты. А потом она нашла этому Йенсу-Детороду крышу над головой, сперва в каморке при людской вместе со старым Фредриком Мензой, который лежал прикованный к постели, а потом ещё удобней, отдельно его поместила на чердаке.
И я вспомнил про этот случай и подумал, что баронесса умеет быть дельной и сообразительной. А сейчас она загрустила. Я стал говорить, что есть счастье в том, чтобы радовать других, радовать детей, близких.
Она остановилась.
– Счастье? Вот уж нет! – сказала она с вызовом.
И она наморщила брови, ещё немного подумала и пошла дальше. Немного погодя она вдруг ускоряет шаг, сходит с дороги и бросается на траву. Я иду за нею следом и останавливаюсь рядом.
Снова она сказала:
– Счастлива! Вот уж нет. Если бы вдруг привалило мне счастье, я бы смотрела и смотрела на него во все глаза – до того бы оно показалось мне незнакомо. Нет-нет. Бывает, конечно, выпадет иная минутка лучше других. Кто спорит.
– То-то и оно, – сказал я. И вдруг я увидел, что на лбу у неё пролегли морщины горя и возраста, сейчас она не рисовалась, она совсем забыла о своём лице, и у неё отвисла нижняя губа. Юность её давно миновала.
– Там в лесу жил когда-то один охотник, – снова заговорила она и ткнула куда-то вдаль пальцем. – Его звали Глан. Вы слыхали?
– Да.
– Да. Был такой. Совсем молодой человек, Томас Глан его звали. Бывало, я слышу выстрел и думаю – не выстрелить ли в ответ, и я выходила к нему навстречу. Да, о чём это я? О Глане? В иные минутки мне с ним было до того хорошо, в жизни больше так никогда не бывало. Вот поди ж ты. И как я была в него влюблена, о, весь мир исчезал, когда он приходил. Я помню одного человека, – как он ходил! У него была густая борода, он был как зверь, и вот, бывало, он остановится на ходу, среди шага, и вслушивается, а потом идёт дальше. И он носил одежду из кожи.
– Это он и был?
– Да.
– Как хотел бы я, чтобы вы мне всё рассказали.
– Столько лет уж прошло, неужто люди ещё не забыли? Я и сама-то почти забыла, так только вдруг вспомню, с тех пор как вернулась домой и брожу по знакомым местам. Вот и сегодня нашло. Но он был как зверь, и я без памяти была в него влюблена, он был такой ласковый и большой. Он, верно, питался оленьим мхом. Дыханье его иной раз пахло, как у оленя. И ведь он в меня был тоже влюблён, я теперь вспоминаю. Однажды он пришёл ко мне в распахнутой рубашке, и у него была такая заросшая грудь. «Как луг, на который тянет прилечь!» – подумала я, ведь я совсем была молодая. Несколько раз я целовала его, и тут уж я знаю, что в жизни своей никогда ничего такого я не испытывала. А однажды он шёл по дороге, и я смотрела на него, и как тихо он шёл, и он тоже неотрывно смотрел на меня, и глаза его проникали в меня, и что-то сладкое переливалось во мне, и он подошёл, и, сама не знаю как, я очутилась в его объятьях. Ах, я ведь и замужем была, и всякое такое, но ничего подобного я не помню. Он был прекрасен. Иной раз он принаряжался, завязывал галстук, сущий ребёнок, но чаще он забывал про галстук и оставлял его в своей сторожке. Но всё равно он был прекрасен, и он ни в чём не знал удержу. Тут жил один доктор, и этот доктор был хромой, так вот Глан прострелил себе ногу, чтобы не быть лучше доктора. У него был пёс, его звали Эзоп, и Глан его застрелил и труп Эзопа послал той… ну, кого он любил. Ни в чём, ни в чём он не знал удержу. Да, но он не был Богом, нет – зверь, вот кто он был. Глан? Вот именно – восхитительный зверь.
– Но вы и сейчас ещё его любите. Так мне кажется.
– Нет. Люблю? Не знаю, что вам и сказать. Я не часто его вспоминаю, не то чтобы всё время я о нём думала. К тому же он умер, говорят, так что уж хотя бы поэтому… Нет. Но теперь мне кажется, что тогда было так хорошо. Иной раз я будто не шла, я будто летела над землей, и никогда больше меня так не бросало в дрожь. Мы под конец будто с ума сошли оба, так он был прекрасен. Как-то раз я пекла печенье, а он подошёл снаружи к окну и на меня смотрел. Я уже смесила тесто, раскатала его и нарезала ножом на кусочки, и я показала ему нож и сказала: «Не лучше ли обоим нам умереть?» – «Да, – сказал он, – пойдём со мною вместе в мою сторожку, и там мы умрём!». Я помыла руки и пошла с ним в его сторожку. Тотчас он принялся наводить порядок, и умываться, и чиститься. Ах, но я уже передумала, и я всё так и сказала ему, нет, я не могла умереть. И сразу он согласился, что нам и без того хорошо, но я-то видела, как он огорчился, ведь он мне поверил. Потом уж он винился, что по простоте своей не понял шутки. Часто было в нём что-то прямо-таки идиотское, и это так меня трогало. Я думала про себя: его же во что угодно можно вовлечь, и он смолчит, его можно сделать великим грешником, и он смолчит, а то он вдруг делался зорким, ясновидящим, он всё видел насквозь. О, тут уж ничего не оставалось от его простоты, он делался прозорливым и острым. Вот, кстати, я вспомнила. В лесу росла одна рябина, необыкновенно высокая и стройная. Глан часто заглядывался на эту рябину и обращал моё внимание на то, какая она высокая и прямая, он был в неё прямо-таки влюблён. И как-то я решила его помучить, сделать ему больно, и подговорила одного человека подпилить рябину под корень со всех сторон, она едва держалась. На другой день приходит Глан и говорит: «Пойдём со мною в лес!». И я пошла. Он показывает мне рябину и говорит: «Это низость!». – «Раз это низость, не иначе как сделала её женщина», – сказала я. Я вовсе не старалась отвести от себя подозрение, о, я даже нарочно его навлекала! «Нет, это сделано очень сильной и глупой левой рукой», – ответил он. Он всё по зазубринам понял. Тут я испугалась, ведь он говорил правду. «Ну, значит, это сделал левша», – говорю я. А Глан отвечает: «Нет, слишком уж грубая работа. Это сделал кто-то, кто хотел выдать себя за левшу, или кто-то, у кого сейчас повреждена правая рука!». И тут я поняла, что тому, кого я подбила на это дело, несдобровать, у него и впрямь правая рука была подвязана, потому-то я и выбрала его себе в пособники, чтобы сбить с толку Глана. О, но Глан не дал сбить себя с толку, он нашёл того человека и его проучил. Ух! И ведь Глан действовал тоже одной рукой, он не мог пустить в ход две здоровые руки против того, у кого была только одна. Через несколько дней я об этом узнала, я пришла к Глану, и, чтобы его ещё больше задеть, я сказала: «А ведь это я сгубила вашу рябину!». Сказала так и ушла… Подумать только, как хорошо я всё это помню, вот ведь, вертится и вертится в голове, с ним шутки были плохи, он вдруг делался до того проницателен. А тот человек, мой пособник, он ещё жив, недавно он пришёл ко мне, его зовут Йенс-Детород.
– Вот как?
Баронесса вскинула на меня взгляд при этом моём коротеньком вопросе.
Я стоял и думал: да, она помогла Йенсу-Детороду пристроиться к месту, а он когда-то ей помог мучить Глана. Неужто она любит покойника – до ненависти, до жестокости и сейчас ещё пытается сделать ему больно? Или Глан жив и она не хочет расстаться со своей пыткой?
Я спросил:
– Так, может быть, Глан не умер?
– Не знаю, – ответила она. – Да нет, конечно, он умер. Он был такой переменчивый, на него влияла погода, и солнце, трава и месяц управляли его душой, с ним разговаривал ветер. Нет, он умер, он умер, и так это всё давно было, тому уже тысяча лет.
Баронесса поднялась и пошла обратно к мельнице. На неё было жалко смотреть. Она говорила сейчас совсем по-другому, она не усмехалась, не рисовалась, она грустно рассказывала. Я был рад, что так и не осмелился сесть рядом с ней на траву и все время её слушал стоя.
IX
Нет, Хартвигсену не пошло на пользу его возвышение в последние годы, он невесть что о себе вообразил. Будто только он и существует во всей округе, будто он здесь царь и Бог.
Он был жалок в своей этой глупости. Но прирождённая доброта не вовсе покинула его. Он отдал такое распоряжение Стену-Приказчику: «Если смотрителю маяка Шёнингу что понадобится в лавке, пиши, будто ошибкой, всё на мой счёт – Бенони Хартвича». Мне он объяснил напрямик, что без посредства смотрителя он не разбогател бы на серебряных копях и теперь хочет ему выказать свою признательность. Так же точно отпускал он все товары в кредит Арону из Хопана, человеку, который отдал ему эти горы за бесценок.
Всё так, да ведь смотритель Шёнинг ничего не желал брать в кредит. Приходя в лавку, он всегда держал наготове наличные.
Однажды Хартвигсен ему говорит:
– Если вам наш товар нужон, платить не надо!
Смотритель стоит, униженный, и смотрит по очереди на нас на всех.
Хартвигсен говорит:
– Скажите только, чтобы на меня записали!
Смотритель наконец отвечает:
– Ну, какой же это расчёт? И неужто я сам не могу расчесться за свою покупку?
Хартвигсену бы образумиться после такого ответа, но нет, он делается ещё глупей и наглей, он говорит:
– Да-да, но я просто хотел сделать доброе дело!
И тут уж смотритель стал смеяться над ним, он тряс седой головой и в конце концов даже сплюнул в сердцах, и Хартвигсен в ярости обозвал его идиотом и, хлопнув дверью, вышел из лавки.
И он не забыл смотрителю этого своего стыда, нет, он ходил и злился, хоть и говорил, что ему всё равно. «Вот и ты когда-нибудь загордишься и от меня откажешься», – говорил он Розе. И когда она качала головой и не желала вдаваться в этот предмет, он говорил оскорблённо: «Ну-ну, поступай как знаешь».
Вечером он любил порассказать нам о том, что совершил он за день, хоть, ей-богу, не о чем было и рассказывать. Он ходил туда-сюда, во всё вмешивался, отвлекал людей от дела, только чтобы напомнить им, кто их хозяин. Он сказал старшему мельнику, когда повстречал его на дороге:
– А я как раз к тебе собрался. Сегодня ты уж доставь нам столько муки, сколько сможешь!
Но ведь именно этим старший мельник ежедневно и занимался – перемалывал столько зерна, сколько мог.
– Будет сделано! – отвечал он, однако, со всею почтительностью.
– А то я с пристани иду, а там на нашем складе всего двадцать кулей, не больше! – говорит Хартвигсен.
Он сказал мне:
– Сейчас я – к сушильням, не хотите ли со мною?
Мы отправились туда, и Хартвигсен – знаток рыбы, хозяин! – задавал вопросы Арну-Сушильщику: «А ты соображаешь, что завтра вдруг дождь польёт и снова всю рыбу намочит! Если у тебя людей маловато, ты только слово скажи!». Арн на это ему ответил, что людей у него хватает, да вот солнца пока маловато, сушке завсегда своё время. И тут Хартвигсен говорит: «Да-да, я вот назначил рыбу сложить до жары». И хоть Арну-Сушильщику это известно не хуже него, он всплескивает руками, делает изумлённое лицо. И Хартвигсен ему толкует, что из года в год повелось рыбу укладывать и отправлять на юг до жары, так было прошлый год и все года. Да-да, и Арну-Сушильщику приходится все это выслушивать, куда денешься? А Хартвигсен идёт дальше со мною в горы и ворчит: «Хорошо этому Маку – стой себе за конторкой да циферки строчи, а кто за всем приглядит, всех проверит? Всё на мне. Даже жениться некогда».
Роза затихла и похорошела от спокойной жизни, часто она брала за руку Марту, вела её к детям баронессы и подолгу гуляла с ними в горах. В эти часы я оставался во всём доме один и мог предаться тому тайному занятию, о котором уже упоминал. Я закрывал двери и окна, чтобы заглушить все звуки. Каждые четверть часа я выбегал проверить, не идёт ли кто, а потом возвращался и углублялся в своё. О, Роза непременно должна первая всё узнать, я покуда даже писать ничего про это не буду.
Как она была искренна, как мила! Заметив, что Хартвигсен хочет держать в тайне наши уроки, она стала уходить из дому за покупками в лавку. Так же точно вела она себя по вечерам, когда мы болтали всякую всячину, она была дама воспитанная и снисходительно относилась к нашему вздору, она с тайной снисходительностью относилась к Хартвигсену, когда он был невозможен. А Хартвигсен такое молол! Раз он стал человеком влиятельным, он вовсе не трудился держать язык за зубами, если чего-то не понимал, но, напротив, пускался в такие разглагольствования, каких я в жизни не слыхивал. О, что за каша была у него в голове! Он рассуждал, например, о море житейском и самым неожиданным образом ввернул: «Лютер – да, уж это был великий корабль на море житейском. Я, конечно, не разбираюсь в подобных материях, но так я думаю в простоте души. А значится, и вера его была самая что ни на есть истинная вера!».
И что же могла на это ответить Роза? Что да, Лютер, мол, это такой человек! И даже бровью не повела.
И вот Хартвигсен вдруг объявил, что мне, верно, скоро придётся уехать.
Случилось это на другой день после того, как я вечером сидел на крыльце и разговаривал с Розой и Мартой, я даже больше разговаривал с Мартой. И тут домой возвращается Хартвигсен.
– Присаживайся к нам! – шутя говорит ему Роза. Но Хартвигсен проголодался, и он пошёл в комнаты.
Мы все трое последовали за ним. Кажется, Хартвигсен был в Сирилунне, и кто-то там, верно, его огорчил. После ужина он вдруг спрашивает у Розы:
– Ну, ты подумала про то, что лето почти истекло? И нам пора жениться, или как?
Роза бросила на меня отчаянный взгляд.
– А до студента это вовсе не касается, – сказал Хартвигсен.
Я улыбнулся, покачал головой, сказал: «Да-да», – и вышел. И оставался на крыльце, пока Хартвигсен сам не вышел, чтобы меня пригласить в дом. Роза сидела в столовой. Верно, она пыталась как-то загладить то обстоятельство, что меня выгнали за дверь, и обратила ко мне несколько слов:
– Мой отец ведь хотел, чтобы вы его навестили. Не забывайте об этом. Правда, сперва речь шла о том, чтобы вы меня проводили общинным лесом. Но всё же.
– Ага, – тут же сказал Хартвигсен, – ты, видно, собралась идти общинным лесом?
– Нет, – ответила она. – Я же осталась тут.
– А то ведь мне знать не мешает, – продолжал Хартвигсен в раздражении. – Но если что, ялик к вашим услугам. – И он глянул на меня великодушно.
– Нет, я предпочитаю ходить пешком, – ответил я.
Мы все говорили теперь спокойнее, но я-то прекрасно видел, что Хартвигсен так и следит, не скажу ли я чего лишнего. И я умолк. Кто-то, верно, наговорил ему на меня, почём знать!
Марта подошла ко мне с игрушкой, сунула её мне и сказала:
– Мой братец её всю разломал!
Я сложил игрушку и обещал завтра склеить, Роза подошла, наклонилась и тоже посмотрела, всё вместе длилось не более минуты, ну, может быть, Роза про игрушку сказала несколько слов. Но Хартвигсен вдруг вскочил и вышел за дверь.
Это было вечером. А наутро Хартвигсен явился и предложил мне уехать. «Да-да», – сказал я.
Но я же как раз начал новую картину, его постройки на фоне общинного леса, неужели он про это забыл?
– Тут дело такое, прислуга теперь будет у нас жить, и ей место нужно, – сказал Хартвигсен себе в оправдание.
Я принял это известие с лёгкостью, чтобы не возбудить в нём подозрений, но я очень огорчился.
– А картина? – спросил я.
– Вы её кончите, – отвечал Хартвигсен, утешенный тем, что у меня нет иной печали. – Само собой, вы должны её нарисовать.
Было это утром, а мне для моей картины требовалось предвечернее освещение, так что у меня оставалось несколько часов свободных. Я отправился в Сирилунн.
X
Баронесса мне говорит:
– Я так рада, что вы разговариваете с девочками и учите их уму-разуму.
– Скоро это кончится, – отвечаю я. – Я должен уехать.
Баронесса слегка вытягивает шею:
– Уехать? Вот как?
– Мне осталось только кончить картину, я кое-что пишу. А там я уеду.
– И куда же?
– У меня друг в Утвере, в округе Ос, к нему я и уеду.
– Друг? И он старше вас?
– Да, он на два года меня старше.
– Художник?
– Нет, он охотник. Он тоже студент. Мы будем странствовать вместе.
Баронесса ушла в глубокой задумчивости.
Вечером, когда я стоял и писал свою картину, баронесса пришла ко мне, и она со мной говорила и крепко ухватила мою судьбу своею рукой: она просила меня ни больше ни меньше, как переселиться к ней в Сирилунн и впредь быть её девочкам учителем и наставником.
Я не мог рисовать, кисть дрожала в моей руке, ведь по некоторым причинам я был рад остаться в здешних местах подольше, я даже тайком молился об этом Господу. Я попросил у баронессы позволения подумать, и она согласилась. Она сказала:
– А девочек покамест и учить ничему не надо, они ещё маленькие, вы только болтайте с ними да водите гулять. Ах, я об одном вас прошу – сделайте их лучше, чем я сама, они ведь такие ещё маленькие и милые! И вам, разумеется, будет положено хорошее жалованье.
Я мог бы тотчас ответить согласием, всё во мне пело от радости. Но вместо этого я сказал:
– Всё зависит от того, что скажет мой друг. Потому что тогда ведь наши планы не состоятся.
Баронесса оглядывается и говорит на прощание:
– Девочки только о вас и толкуют, они молятся за вас каждый вечер. Это они сами придумали за вас молиться. Да, сказала я, вы уж молитесь за него.
Баронесса пришла ко мне на другой день, и я решился. Неловко было важничать и набивать себе цену, и я почтительно заговорил первый и сразу сказал – да, я обдумал её лестное предложение и с благодарностью его принимаю.
Она протянула мне руку, и дело было слажено.
Отложив кисть в тот день, я пошёл в сарай Хартвигсена и там, в излюбленном своём уголке, я благодарил Бога за его милость. И весь вечер я молчал и думал свои думы. Я не хотел хвастаться и рассказывать Хартвигсену о моём переселении в Сирилунн, зато Мункену Вендту я написал, что судьбе было угодно привязать меня ещё на некоторое время к здешним местам.
Лишь несколько дней спустя, когда картина моя была уже готова, новость стала известна Хартвигсену от самого Мака. Хартвигсен вернулся из Сирилунна и сказал:
– Мак говорит, вы переселяетесь в Сирилунн?
Роза слушала, Марта слушала.
– Да, это правда, – ответил я.
– Ну-ну. Так-так.
Хартвигсен принялся за еду, и мы заговорили о всякой всячине, но я-то видел, что он только и думает о моём переселении. Роза молчала.
– А ведь она это ловко придумала, – вдруг говорит Хартвигсен про себя.
– О ком ты? – спрашивает Роза.
– О нашей прекрасной Эдварде. Э, да ладно, теперь уж всё одно.
Я думал: а ведь это баронесса настраивала Хартвигсена против меня; но если она старалась ради того, чтобы я сделался учителем и наставником девочек, так, быть может, это не столь уж и дурно с её стороны, право, не знаю. Но Хартвигсен выглядел одураченным. Он, верно, досадовал, что вот я переезжаю в дом Мака, вместо того чтоб оставаться у него, а может быть, его злило, что я буду жить у него под боком. Ведь всё равно я остаюсь рядом с Розой.
Я положил переехать на другое утро. Но мне ещё предстояло открыть Розе, чем я занимался в такой глубокой тайне. Она куда-то ушла с Мартой, возможно, даже нарочно, чтобы не быть дома, когда я уйду.
Я жду, и вот я вижу издали, как она идёт с девочкой, а мне уже нечего скрывать, нет, и я отворяю дверь, сажусь и, не оборачиваясь, делаю свою дело.
Роза и Марта входят, они замирают на пороге.
Я сижу и играю на фортепьяно. Играю я самое дивное из всего, что я знаю на свете, – Моцарта, сонату A-dur. И получается прекрасно, в меня будто вселилось то великое, благородное сердце, чтобы поддержать в трудную минуту. О, я так долго упражнялся, мне уже не стыдно, что меня слушает Роза, я ведь всё ждал, когда снова смогу хорошо играть. И утром я благодарил Бога за то, что играю теперь совсем неплохо. Меня научили игре на фортепьяно в моём милом доме, чему только там не научили меня, пока наш дом не распался и кров наш уже не мог меня укрывать! Deo gloria![7]7
Слава Богу (лат.)
[Закрыть]
Я оборачиваюсь. Роза смотрит на меня во все глаза, она говорит:
– Так вы?.. Вы ещё и играете?
Я встал и признался ей, что тайком упражнялся в фортепианной игре. Если ей кажется, что игру мою можно слушать, я премного ей благодарен. Больше я ничего не сказал, я бы и не мог ничего толком выговорить от волнения. Но потом-то я сам был доволен, что не рассентиментальничался и не стал сообщать, что это, мол, мой прощальный привет. Я прошёл к себе и уложил вещи. Я дождался возвращения Хартвигсена.
– Да-да, я вовсе не собирался с вами расставаться, – сказал он. – У меня для вас ещё полно работы. Ну, да чего уж там.
Марта отвлекает его внимание, она говорит, что я играл на фортепьяно:
– Студент играл на фортепьяно.
– Как? Вы тоже играете?
И Роза отвечает:
– Уж он-то – он играет!
От этих её слов я испытал такую гордость, какой никогда ещё не испытывал ни от каких похвал, и я покинул дом Хартвигсена с преисполненным благодарностью сердцем. Ах, меня даже пошатывало от волнения, и я шёл, не разбирая дороги, хоть внимательно на неё смотрел.
И вот я пришёл в Сирилунн и там остался. Переселение мало что изменило в моей жизни, я гулял с девочками, рисовал для них, кое-что писал красками. А хозяйка моя, баронесса, уже не делала и не говорила ничего такого, что не пристало благовоспитанной даме, нет, ей-богу, ничего некрасивого или дурного она не делала. Правда, она сохранила привычку вдруг выгибать руки над головой и выглядывать из-под свода своих сомкнутых рук, и это удивительно красиво у неё получалось. А за столом она держалась прилично, разве что иногда поставит оба локтя на стол, когда отправляет кусок в рот или пьёт из чашки.
Я хотел написать интерьер гостиной в доме у Мака, вышла бы недурная вещица – один из серебряных амуров в углу, две гравюры над фортепиано. Но всё, что тут было, мало вдохновляло меня – только стакан с вином, который Роза забыла тогда на столе. Он снова стоял бы на солнце, рдяный и одинокий, стоял бы и медленно угасал.
Здесь, на ходком месте, было больше движения и жизни, чем в доме у Хартвигсена, объявлялись капитаны из чужих стран, когда буря загоняла их в гавань, среди них оказался однажды и русский капитан, и я кое-как по-французски с ним объяснялся. Непогода несколько дней держала его большой корабль у нашего берега, мы с баронессой побывали на борту, и капитан купил медвежьих и песцовых шкур у отца Розы.
В Сирилунне я обзавёлся приличным платьем и мог не стесняясь ходить, куда хотел. Иной раз я забредал и в лавку, смотрел на входящих и выходящих, заезжих и здешних, на странников, покупавших хлеба в пекарне и тотчас спешивших дальше, на рыбаков с юга, целыми днями простаивавших у стойки, чтобы с пьяным гоготом потом разбрестись по дорогам.
Жители собственно Сирилунна почти все имели прозвища. Были тут Свен-Сторож, Уле-Мужик, но теперь они шкипера на судах и прозвища устарели. А была тут ещё Брамапутра, жена Уле-Мужика, она так нежно привечала чужих, что мужу приходилось следить за нею во все глаза. В общем, из такого же теста была и Эллен, она прежде служила здесь горничной, а в прошлом году вышла за Свена-Сторожа, но эта любила одного в целом свете – самого Мака, и стоило поглядеть на её потерянное лицо, когда она смотрела на Мака или когда он встречал её во дворе и бросал ей походя несколько слов. О, тут полным-полно было людей с прозвищами: Йенс-Детород, Крючочник, и ещё, например, один бродяга, который здесь объявился минувшей зимой и переколол все дрова в округе, у этого были до того короткие ноги, что его звали просто – Колода.
Очень интересно было мне наблюдать смотрителя маяка Шёнинга, когда он, шаркая, приходил в лавку за разным мелким товаром. Он был человек весьма своенравный, зато с огромным жизненным опытом. Он много думал и путешествовал на своём веку, и как необычны были его рассказы! Правда, он был не большой охотник распространяться. Больше молчал надменно. Раз как-то подъехал к лавке крестьянин с лошадью и тележкой. У лошади по самые глаза морда была скрыта торбой, жевать она не жевала, торба была уже пуста, и лошадь просто стояла, подняв голову, стояла и смотрела. И вот тут смотритель сказал: «Она упрятана, как мусульманка!». Мне тогда удалось его разговорить, и он мне кое-что рассказал о дальних странах.
Наконец, на самом исходе лета явился в Сирилунн сэр Хью Тревильян, явился он по делу, и дело его заключалось в том, чтобы выбрать лучший коньяк в погребах у Мака и закупить себе партию. Он уложил несколько бутылок в мешок, взял носильщика и удалился. Они ушли далеко, за горы, к бесконечным морошковым болотам, и там сэр Хью залёг на несколько дней и пил не переставая, пока глаза не остекленели и в голове совсем не помутилось. Носильщик два раза ходил в Сирилунн за подспорьем, а когда Мак увидал его в третий раз, он покачал головой и сказал – «нет». Как ни просил его носильщик, как ни молил, Мак повторял своё «нет» и больше ни слова не прибавил. Сэру Хью несладко пришлось в болотах, он спал под открытым небом и не ел ничего, кроме морошки, которую носильщик собирал в свою шапку. И на четвёртый день Мак отрядил в те болота Свена-Сторожа и ещё кого-то с большим запасом доброй еды для оголодавшего англичанина.
И так же точно, как с сэром Хью, обращался Мак со своею челядью – истинный барин. Хотя в обороте крупной торговли больше денег было Хартвигсена, чем Мака, Мак пользовался большим почётом и уважением. Мне рассказывали, что кое в чём у Мака была дурная слава, но, истинный барин, он никому не позволял совать нос куда не следует. Все знали, что для девушек он гроза, просто бич, такая уж у него натура. Ходили слухи насчёт его тёплых ванн, будто бы он лежит в воде на перине, и принимает он эти свои ванны даже и по нескольку раз на неделе, когда на него найдёт стих, и прислуживает ему одна, а то и две девушки. Выходит, этот Мак – ужасный распутник. А как-то Брамапутра проболталась, что Мак вовсе и не всегда принимает такую ванну сам, а велит купаться девушкам и глаз с них не сводит. Теперь Мак взял себе в горничные маленькую Петрину, и он ждёт, пока она подрастёт до законного возраста, да, он вроде как посадил её в своём саду, чтобы она росла и наливалась. Но она, пожалуй, давно уже созрела, какой у неё бесподобный стан, какой переливчатый смех! А носик вздёрнутый, смотритель маяка сказал как-то, что носик её стоит на цыпочках.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?