Читать книгу "Плавучий мост. Журнал поэзии. №3/2016"
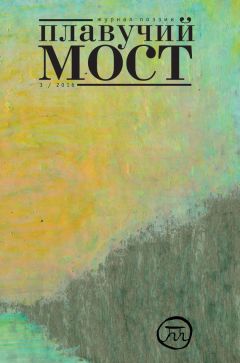
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Петра Калугина
Невидимому другу
Родилась в Норильске, по образованию филолог. Живет в Москве. Автор поэтических сборников «Твой город» (2004), «Круги на полях» (2012), «Изобретение радуги» (2016) и ряда литературных публикаций: в журналах «Нева», «Новая Юность», «Октябрь», «Русский переплёт», «Подлинник» и др.
* * *
по осени-реке
сплавляюсь на байдарке
от пышных пламеней
до скудных икебан,
мелькают мимо дни,
иные – как подарки,
и сразу за спиной
впадают в океан.
впадают в водопад,
в белесую пучину,
и длятся навсегда
сквозь радужную взвесь,
люби меня, люби,
как женщину – мужчина.
ведь это мы и есть,
ведь это мы и есть.
Вишневое
А село зовется – Вишневое.
Вишня тут с кулак, ломает ветки.
В ближнем продуктовом, через поле,
Булки есть и мятные конфетки,
Чипсы и корейская морковка…
Время тут, как водится, застыло.
Дунет ветер – унесет обновку,
Подтолкнув по-школьному в затылок:
Мол, в свою тетрадь! не отвлекайся!
Не лети вперед велосипеда!
Памяти вьюнковые девайсы
Прорастают из любого лета
В это. Обживают внутривенно,
Скручиваясь в клейкие спирали.
Будь же навсегда благословенно
Всё, что мы с тобой не выбирали;
Что однажды выбрали не глядя,
Словно бы детьми играли в жмурки,
Там, где ветерок ласкает пряди
Оскоря[3]3
Оскорь, осокорь – чёрный тополь, вид ракитника.
[Закрыть] в тенистом переулке.
Измерение Ч
человек человеку – юг,
север, восток и запад,
в бездну открытый люк,
меди окислый запах
с внутренней стороны
бёдер и с внешней – рая.
криком отделены,
криком же выбираем
жить, прорезаем в свет
мутные щелки зрения.
невесомости больше нет,
только лишь от-земления
краткие: вот берут
на руки, вот качают.
как-нибудь назовут.
будут не спать ночами.
вот понесли кормить,
мыть, пеленать… как странно:
человек человеку – нить
в узком ушке пространства.
голода льнущий рот,
кожа на тёплой коже…
человек человеку выложен на живот
и ползет по нему, как может.
Про чай
заплесневелая заварка
седеет в чайнике, ноябрь.
и жизнь идет себе насмарку
по телевизору – моя.
легкодоступна и реальна,
да всё никак не протяну
к ней руку: чисто визуально
ее ласкаю, как луну.
переключаю, выключаю,
включаю снова, так и быть.
и даже не с кем выпить чаю,
и чайник незачем помыть.
Заполярное время
Магнитной стружкой снег летит на тьму.
Мой город бит любовью – белой оспой,
И больше не тождественен тому,
Где я жила-была на Комсомольской.
Ходила в школу, зо уши держа
Ушанку и ничком ложась на ветер;
Где рыскал бич в компании бомжа
И с ними – самый страшный – кто-то третий,
Вне зрения уловленный едва,
Крадущийся вдоль граней и излучин;
Где я впервые трогала слова –
Мой оберег, мозоль от авторучки.
Перебегала незнакомый двор.
Вставала, скрипнув крышкой, из-за парты.
Где солнце, выплывая из-за гор,
Мимозой пахло на Восьмое марта.
Где полудетский спрятанный дневник
Хранит мой почерк – никому на память…
Есть только ты, мой выросший двойник,
Да беглый шелест клавиш под руками,
Похожий на роенье костерка,
На треск пластинки, на сюжет романа.
И зябнут пальцы, и саднит слегка
Бесследная утрата талисмана.
Олени
Девочка на подоконнике гладит свои колени,
Словно они безрогие маленькие олени.
Там, за окном, – полярная,
Черная, как повидло,
Белая-непроглядная
Зга, но ее не видно.
Мама ушла за Сонечкой, папа в командировке,
А на оленьих мордочках есть и глаза, и бровки.
Грустно всегда быть маленьким,
Слушать, как вьюга воет…
Крепче прижаться лбами, не
Паниковать: настрое.
Нам ведь совсем не страшно же,
Правда же, Левый с Правым?..
Шелест в замочной скважине.
С грохотом на пол: мама!!!
Идеалы
Помнишь, мама, как ты рисовала
Идеальные женские лица,
Как лежало на белой странице –
И дышало – лицо идеала.
У меня были волосы. Косы.
Как я хмурилась, как наблюдала!
Идеальная линия носа…
Идеальная форма овала…
Лебединые контуры шеи…
Симметричные ниточки-брови
Над глазами. Твои Галатеи
Улыбались мне стой же любовью
Что и ты… А потом я давала
Имена им красивые: Белла,
Виолетта, Регина и Стелла.
И звала их: Мои Идеалы.
Невидимому другу
Здравствуй, мой милый друг.
Мой ненаглядный друг.
Я веду для тебя фейсбук,
Не покладая рук.
Я иду с ним, куда – не будь
У меня его, шла одна бы.
Он мой ласковый нежный путь,
Вставший на задние лапы.
Анимэ, рисованная душа,
персонаж из мультика Миядзаки.
Он ведет меня за руку – и шуршат,
вслед за нами смыкаясь, маки.
* * *
В тишине твои обои
так напоминают сад.
Сад притягивает взгляд,
не дает душе покоя.
В том саду туман высок,
так высок – не видно ног,
и растет на голой клумбе
фиолетовый цветок.
Он растет себе, не вянет,
неказист и одинок,
и зовет протяжно няню
чей-то детский голосок.
Тише, тише, Бог с тобою!
Бог бывает очень строг…
Помаши Ему рукою.
Подари Ему цветок.
* * *
Толи времени пружинка,
Толи вечности тоска,
Бьется жилка – старожилка
Поседевшего виска.
Рубишь ритм рукою – словно
Талисманом сделав жест.
За тобою слово в слово
Я спешу из этих мест
Умыкнуть себя – в тугую
Эвридиковую навь.
Ты люби, люби другую,
Но натянутой оставь
Эту ниточку меж нами,
Эту шелковую грусть.
Через жизньтвоими снами
Я пройду. Не оглянусь.
Кюрасао
человек високосного года,
неразменный герой новостей,
я стою у стеклянного входа,
у вращающихся лопастей.
мне сюда не войти и не выйти:
слишком быстро лопочет вода –
верлибрист перепутанных нитей,
конькобежец толчёного льда.
извините, простите, позвольте –
примерзаю к звенящей земле.
леденею Тристаном в изольде,
в ясноглазом ее хрустале.
словно синий ликер Кюрасао
или капля сапфира на свет…
напиши мне о самом, о самом
и на счастье повесь в интернет.
* * *
красиво удлинённые закатом,
ложатся на дорогу наши тени,
подростками, которыми когда-то…
а впрочем, никогда на самом деле.
а впрочем, вот же – инопланетяне!
и взгляд скользит, умея любоваться
рассеянно, беседе не вредя, не
мешая безмятежно предаваться
меланхолии (в сдвиге ударенья,
сдается мне, и кроется весь фокус).
так времени безвидное горенье
колеблет и расслаивает воздух.
и сумерки топлёные, как сливки,
вот-вот дождутся нужного наклона.
но мы от них укроемся на снимке –
две тени в хрупкой памяти айфона.
Владимир Гандельсман
Читающий расписание
Род. в Ленинграде в 1948 г. Закончил Ленинградский электротехнический институт. Работал инженером, сторожем, кочегаром, гидом, грузчиком, санитаром. В 1990 г. уехал в США, где преподавал в Вассаровском колледже. В настоящее время продолжает обучать русскому языку и литературе. Первые публикации в 1990 г. В своих стихах Гандельсман следует традиции постакмеизма (Тарковский, Пастернак, Заболоцкий), но при этом разрабатывает свой язык (разноударная рифма, поток сознания, разговорная речь и др.). Подробнее об этом – в эссе А. Цветкова «Ледокол в пейзаже». Известен также как переводчик англоязычной поэзии (Шекспир, Кэрролл, Э. Дикинсон, У. Стивене, Д. Меррилл и др.). Особого упоминания стоят его переводы книг Томаса Венцловы «Граненый воздух» и «Искатель камней». Иосиф Бродский писал, что стихи Гандельсмана «поражают интенсивностью душевной энергии», «ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы»; что в них есть «л юбовьлюбви, любовь клюбви – самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатленная». Лауреат «Русской премии» 2008 года. В 2011 году за книгу «Ода одуванчику» был удостоен премии «Московский счет». В 2012 г. стал лауреатом премии «Anthologia» журнала «Новый мир».
День ноябрьский
День ноябрьский, ветреный. Мне пора.
Подойду прочесть под мостом расписание.
За стеклом таракан полумёртвый и номера
автобусов, прибывание и отбывание.
Ехать, ехать и ехать бы, не выходя,
ни о чём не думать, то есть не думать плохо
ни о чём, – не в этом ли смысл дождя,
солнца, дерева, облака, выдоха-вдоха?
Между двух городков ослепит река.
Я зажмурюсь, чтобы людей многоокость
не нашла меня, человек – он в тягость слегка,
а зажмуришься – сразу немного в лёгкость.
Ни за что, ни за что, ни за что бы не стал
разных страхов пугаться, если бы не мелькание
мыслей и перед глазами весь день не стоял
таракан, читающий расписание.
По досточке
Не смерть страшна, а расставание
с отдельно взятым человеком,
я космосу шлю завывание,
его рассыпанным в ночи аптекам,
пусть вышлет мне в ответ лекарствие,
я буду принимать по горсточке,
чтоб в Божье перейти мне Царствие,
как лужу в детствии по досточке.
В яркости
Мне жизнь припомнилась отчётливо,
я вдруг увидел кухню в яркости,
где мать с отцом неповоротливо
готовят скромный ужин старости:
пугливым круговым движением
обнесена конфорка спичкою…
В окне и в сердце отражением
той кухни с чиркнувшею птичкою –
я взволновался весь и в трепете
стал собирать слова, чтоб выдержать
напор тоски и в этом лепете
из пристальных видений выбежать.
Бывает, снег идёт
Бывает, снег идёт – а с чем сравнить его
неукоснительное выпаденье?
По синеве идёт как по наитию,
не передать – небесное виденье!
Бывает, не могу с виденьем справиться –
и выпью, а жена взбранится – вспыхну…
Теперь молчит смиренная красавица.
О, невозбранно выпью – и затихну.
Жена
Непоздний вечер. Восемь пятнадцать.
Жена ушла спать и прикрыла дверь.
Она сумасшедшая. Восемь шестнадцать.
На площади за окном отдыхает сквер.
Я слушаю ветер. Восемь семнадцать.
В него вплетается щебет птиц.
Жена любит каждый день просыпаться
и плыть на работу, где скопище лиц.
Она на чулочной фабрике двумя руками
девять часов шьёт целый день,
им выдают зарплату иногда коврами,
мы отдалённо не знаем, куда их деть.
Она садится на пристани в белую лодку,
в пять десять отчаливает, пока я сплю.
Я поздно лёг, я жалел жену-идиотку.
Я сам не знаю, как эту жизнь дотерплю.
В паре
С понедельника целиком забиваюсь я в тишину,
становясь опять перебежчиком от одних
выходных к другим: молчаливо жну,
что посеял, сею опять, заготовляю жмых.
А жена забивается в свой за стеной отсек,
что-то мелет, просеивает, варит, ткёт.
И соседи – стекольщик, молотобоец и дровосек –
не покладая рук работают, эти два и тот.
Нас с женою держит мысль на плаву,
что пойдём в выходные кормить в пруду
черепаху, – она из панцирной книги своей главу
выдлиняет морщинисто, просит дать еду.
Мы с женой не очень-то меж собой говорим,
только держимся за руки иногда,
а свободными – бросаем еду, и так стоим,
и слегка краснеем, если кто видит нас, от стыда.
Часы и очки
Я вспомнил друга юных лет
и за два шага до входных
ворот заплакал: друга нет.
Потом, когда вошёл я в них,
такой случился разворот
в движеньях жизни: снял очки
и положил их на комод,
к часам (я слышал их скачки).
Потом немного отошёл
и оглянулся – как лежат? –
и заново к ним подошёл –
нехороши они на взгляд.
Нет соразмерности начал
у двух вещей: то далеки,
а то близки чрезмерно. Стал
часы я двигать и очки.
Потом волненье улеглось.
Пришла жена, глядит: часы
лежат согласно, хоть и врозь
с очками в капельках слезы.
Забытьё
Над газоном вспыхивают светлячки,
выше, ниже, наобум,
как шахтёры вылезли и на крючки
лампы вешают, забыв свой ум.
Вот вечерняя какая Воркута
разворачивается в Караганде,
я смотрю, смотрю в окно, смотрю туда –
где меня нигде.
Или то смертельно-тихий бой
душ давно в земле истлевших тел?
Обернёшься – и вдогонку за собой.
На подножку прыгнешь разума – успел.
В поздний час
за окном игольчатый шпиль
это ель горит на закате
вот приходит жена вытирает пыль
вытирает пыль гладит платье
иногда смотрю на неё
совершенно стоит чужая
вот сгребает она постирать бельё
жалость в сердце моём большая
но сказать что сблизило нас
не скажу в голове смешалось
а когда породнились сближались раз
даже больше за ночь сближались
помню мне казалось тогда
что мы тени друг друга
что в любви теряешь себя навсегда
видишь выбрались из недуга
и теперь мы странно стоим
на виду у пустой вселенной
а бывает сидим по углам своим
и молчим в тоске постепенной
На отшибе
Мы выходим всё реже,
больше дома сидим
да латаем бреши
в молчанье словом простым.
К нам никто не стучится,
дверь закрыта на крюк.
Только «скорой» в ночи волчица
воет от человечьих мук.
Орёл
Прилетела птица, сидит под окном,
перья вздыблены, смотрит вяло.
В человеческий рост. Я сказал потом:
«Кто сидит там?» Она сказала:
«Кто сидит?» Я сказал: «Сидит у окна
птица. Дыбом серые перья». –
«С перепою привиделось?» – сказала она.
Я сказал: «Глянь сама, моя пери».
К запотевшему ноябрьскому окну
она подошла, увидела и сказала:
«Это – птица орёл». Я взглянул на жену –
в ней глаза были – два вокзала,
провожающих неизвестно зачем, куда
и кого, провожающих два – и точка.
«Может, это решка, а не орёл?» Ни да
не услышал, ни нет. Ни одного гудочка.
В выходные
Вечерами решаю «мат в три хода»
(у меня есть сборник задач),
по утрам, в выходные, когда погода
смотрит в окна, слышу безмолвный плач –
она стирает с шахматных фигур пыль,
ставит на место их, справа и слева,
о, взаимообразный штиль
дня… Это «вилка», «вилка» нам, королева!
– Так вот проходит жизнь… – вздыхает. –
Обещал научить играть – не научил… –
Заоконный ветер валы вздымает
и внезапно гаснет, лишившись сил.
Когда метель
Когда метелью дом заносит,
тогда под собеседника
лишь ветер косит,
но как-то бедненько.
Закрыл свой магазин лабазник,
тоскует благоверная,
и вроде праздник,
а грусть безмерная.
Так окна залепляет пряжей,
такие тают таиньки,
что мы пораньше
ложимся баиньки.
Не надо больше зло и цепко
дышать и виться полозом,
а только крепко
спать, мёртвым образом.
Флюиды
Дома Лида моя ходит в шерстяных
тапочках по ковру, и у Лиды
накопляется электричество, тронет – вспых
между нами, искры летят. Флюиды.
Даже комната освещается. Может быть
(мой сосед-учёный говорит «может статься»),
подсознательно она хочет меня убить.
Но сознательно – приласкаться.
Иногда сильнейший проходит ток.
Я кричу ей: «Господи, больно, Лида!
Мы ведь жизнь отбываем, а не тюремный срок,
мы ведь два человека, а не болида.
Что за странное, Лида, высекновенье огня!»
Но в её глазах не злой огонь – неизвестный.
Может статься, она полюбить меня
хочет для оправданья совместной.
Будень
Лида моя одевается и говорит: «Похолодало.
Ты слышишь?» Отвечаю: «Почти».
Говорит: «Я ватник твой залатала.
Похолодало». И потом добавляет: «Учти».
Вся жизнь наша прошла на первом
этаже, близко к холоду и земле.
Вряд ли она была перлом.
Я говорю: «Не забудь брильянтовое колье».
Она надевает крупно-зелёные бусы,
боты, шарф, шапку, пальто
и уходит на фабрику. Наши узы
всё прочней. По вечерам мы играем в лото.
Как уютно узор на коробке сверкает!
С детства я привязан к бочоночкам дорогим,
а теперь и к Лиде, как она выкликает
номера, один за другим, один за другим.
Охота
Она влетела: «Мышь в столовой!»
Я выпил порцию свою
(о, серенький сюжет, не новый,
расхожий, бездны на краю!
Плутон, своей подземной сворой
зачем наш тихий рай мрачишь?)
и вышел: замерев над шторой,
сидела крошечная мышь.
Лишившись речи, то есть дара,
которым славен человек,
пред ней два перпендикуляра
остановили жизни бег.
Там, под землёй, где червь и овощ,
где кость, и уголь, и руда,
она не видела чудовищ,
подобных этим, никогда.
«Какя боюсь мышей!» – вскричало
одно из них, и тут же, чёлн
наняв, я оттолкнул с причала
подземницу, печали полн.
«Зачем мы все не разминулись? –
я думал. – Не было бы зла…» –
Шумел как мышь, деревья гнулись,
а ночка тёмная была.
Письмо
Едва получено письмо,
ещё конверт не вскрыт…
Есть беглый страх прочесть его
и вслед за страхом – стыд.
Не в ожидании вестей
ненастных ты притих…
Есть в почерке набег гостей
непрошеных, родных.
Стоишь, вмолчав свою вину
в проём окна, весной…
Так нарушают тишину
чуть большей тишиной.
После кладбища
Читаю, слышишь, по пути: «Вчерашняя
Раиса Львовна» и «Вчерашний
Григорий Маркович». Пустяшная
ирония, а так – покой всегдашний.
Прошёл к родным могилам и прибрал их.
Немного белых положил, немного алых.
Пластмассовые два стаканчика
достал, кусочек хлеба,
ты замечала, что на кладбище
всегда синее небо,
чем в городе? потом налил грамм по сто
себе и фотографии с погоста.
«Сын, – я сказал, – напрасно ты,
неправильно всё это, рано,
и потому теперь мы разняты,
незаживающая рана…»
Потом пешком от Невской
заставы шёл, а ветер нынче резкий.
Слова сказал без осуждения,
но, кажется, чуть с укоризной.
Смерть превращает день рождения
в трагедию, она зовётся жизнью.
Как ты считаешь, Лида? Спишь? Сегодня
мне костью в горле промышление Господне.
Ночью
Я вглядываюсь в шум,
и вслушиваюсь в цвет,
и крон ветвистый ум
вдыхаю. Смерти нет.
Так вспенилась листва
в сегодняшней ночи
всей силой естества,
что смерти нет. Молчи.
Подъём. Подъём и спад.
Спад, и опять подъём.
Чтоб жили те, кто спят
необоримым сном.
Приёмный день
Жена поднимается в пять,
ещё за окном темно.
У нас так рано вставать
издавна заведено.
Я поднимаюсь в шесть,
тоже не поздний час.
Выпал снег? Так и есть.
Я зажигаю газ.
Вижу: полуодетая у окна
полуспит, и я полусплю,
а потом она
гладит юбку свою.
Не разминёшься вдруг –
тесно. Хоть мы года
вместе, но стесняемся друг
друга-то иногда.
Раньше мы голых тел
не стыдились с ней, –
видно, ангел слетел,
который скромней.
Ангел не любит спешить.
Нам этот день с женой
надо усыновить,
чтобы он стал родной.
Проблеск
Просыпаясь, рассвета кайму
вижу, юркая птица сверкает.
Разве можно не верить Тому,
Кто воистину так окрыляет?
Лида, это превыше всего,
я незыблемо счастлив,
узкий луч на стене,
утренняя прохлада,
вот он, белый налив на весу,
тельце мраморное с ведёрком
у реки, вот под мышкой несу
книгу «Кортик»,
вот проездом
переблеск в лесу паутинный,
перелесок болотно-тинный,
и лиловый, соседний
холодок, резкий воздух осенний –
вот хрустальный его кубометр,
вот он – с похолоданьем,
в освещенье комет,
вот он, необратимый,
в снег истаивающей лыжнёй
уходящий, родимый
путь, он к ночи слышней.
Сладок сон, только дай погасить
лампу, отдых блаженный,
хорошо было жить,
совершенно!
Собираясь в последнюю тьму,
говорю: «Принимай, я уложен».
Разве можно не верить Тому,
Кто воистину так безнадёжен?
Техника расставанья
1
Надо отладить технику расставанья,
тянущегося от живота до горла,
где глухонемая птица повествованья
машет крыльями голо.
И когда слетает внезапная птица эта
на кормушку сердца, минуя мозг твой, –
выставляй знак запрета,
отгоняя глухонемую в её край заморский.
2
Расставанье – окна любви и сетования.
Приглуши песню жалости об одиноком,
чтобы поезд дальнего следования
стал сплошной полосой без окон,
чтобы просто существовал как данность,
не обнаруживая смысла, не жаля.
Стой на полосе отчуждения, отчуждаясь,
пока не скрылись из виду его детали.
Пусть выгорают цвета дорогой палитры
и замолкают всё бережней и безбрежней
шатуны, рычаги, фонари, цилиндры,
дымовые трубы и золотниковые стержни.
3
Когда собирается вроде тучи
тяжёлая мысль, угрожая
припадком падучей,
и гиблого ждёт урожая,
когда шевеление её близко,
и тени выходят из ниши,
и ласточки низко
хлопочут, ныряя под крыши,
я строю привычную оборону
из кавалерии лёгких
залётных (лишь трону –
взовьются), от горя далёких,
я быстро по дому иду со спичкой,
и вот уже свечи пылают,
и страх мой привычка
лечебной пыльцой опыляет.
Юлия Белохвостова
Всё ещё лето
Поэт, филолог. Член союза писателей Москвы. Родилась в Евпатории. Живет в Москве. Окончила МГУ им. Ломоносова, филологический факультет, специализация – древнерусская литература. Публиковалась в журналах «Плавучий мост», «Интерпоэзия», «Урал», «Кольцо А», «Аврора», «Крещатик» и др. Автор двух поэтических сборников: «Мне не идет весна» (2012 г., изд-во «Тровант», Троицк) и «Ближний круг» (2015 г., изд-во «Перо», г. Москва). Дипломант Международного Волошинского конкурса 2015 г. Призер конкурса им. Гумилева «Заблудившийся трамвай» 2016 г.
Третье августа
Который нынче август на дворе –
второй, четвертый, пятый?
По записям в своем календаре
определяю даты,
еще по дням рождения друзей,
по поводам нескромным,
мне слышатся в раскатистой грозе
всё трубы да валторны.
И прошлый август так же громыхал,
заканчивая лето,
расстреливал дождливый арсенал
над городом прогретым.
Когда еще по лужам босиком
повесничать, как дети,
и август разразился, словно гром,
и он сегодня третий.
Монетка из Керкинитиды
Очень жаль мне тех, которые
не бывали в Евпатории
В. Маяковский
1.
Остроносые лодки, морские бродячие псы,
отыскали по запаху берег Прекрасной Гавани,
добрались, наконец, до цели дальнего плаванья,
в золотой песок уткнули свои носы.
Меднотелые люди выносят из лодок тюки
пестрых тканей, вино и масло в сосудах глиняных,
а под вечер, товар заморский на деньги выменяв,
пересчитывают чеканные медяки,
пьют вино, разбавляя водой на добрую треть,
пьют за то, чтобы были смирными боги водные,
а по берегу ходит девочка, смотрит под ноги,
в золотом песке стараясь медь рассмотреть.
2.
К двум часам побережье становится тише воды,
полногрудые жрицы Асклепия в белых хитонах
по аллеям вдоль кипарисов вечнозелёных
удаляются в царство отдыха после еды.
На железных кроватях, поставленных в ряд под окном,
спят потомки охотников, воинов и виноделов.
Небо теплой волной из оконных выходит пределов,
разливается в белой комнате синим сном.
И во сне улыбается девочка, сжав в кулаке
свой сегодняшний клад, небольшую монетку из меди:
на одной стороне – на коне будто всадник там едет,
на другой стороне – только голову видно в венке.
Ночью
До утра прислушиваюсь к ночи,
напеваю вслед за ней мотив.
А она об окна когти точит,
листьями в ливневках шелестит.
До утра бессонницей болею
оттого, что где-то ты не спишь.
В липовую сонную аллею
облака стекают с мокрых крыш.
Здесь ли я тебе в объятья кану,
унимая радостную дрожь,
здесь ли доверительно, как тайну,
мне стихотворение прочтешь?
А пока в напеве одиноком
липы, перепуганные тьмой,
ветками царапают по окнам,
словно осень просится домой.
Время подорожника
А когда мои один за другим
окровавлены сыновья,
я уже не мать называюсь им,
а сестра милосердия,
не стихи – молитвы ко всем святым
распеваю им по слогам,
не наряды новые, а бинты
примеряю к рукам-ногам.
А когда пестрят по лугам цветы
– незабудка, мак, ноготок –
подорожник кожистые листы
разворачивает у ног.
Колокольчик синий начнет звонить –
у дороги в доме швея
достает иголку, вдевает нить,
аккуратно сшивает края.
И пока еще не осела пыль
на зеленый глянцевый лист,
и пока дорожки от слез скупых
по морщинам не растеклись,
только-только времени у меня,
чтобы подорожник сорвать,
чтобы кровь унять, сыновей обнять,
как сестра умеет и мать.
Гроза
Так долго вздыхало и хмурилось небо,
и липы шептались: скорей бы, скорей бы…
И рваным пунктиром в ночи замыкало
конечную точку и точку начала.
В закрытые окна сердито и громко
стучало, и вновь проходило сторонкой,
а после – обратно, и снова стоброво
насупились тучи над домом, готовы
об острую крышу сейчас расколоться
и вниз опрокинуть глубины колодца
небесного бурным июльским потопом.
А ветер рассерженно форточкой хлопал,
не в силах дождаться: так долго, так долго!
И вот наконец-то сверкнуло и смолкло,
как будто последние силы иссякли,
упали со стуком тяжелые капли,
и ветер завыл, причитая по-бабьи,
и хлынули наземь небесные хляби.
Тихое слово
И выдохнула слово тихое,
ни гнева, ни обиды в нем,
ни соразмерности с шумихою
дверей, захлопнувшихся в дом.
Но окна плотно занавешены,
никто теперь не разберёт
ни силуэтлюбимой женщины,
ни рук её напевный взлёт.
Дожди взялись за настоящее,
едва о прошлом загрустив,
и это слово шелестящее
поют на простенький мотив,
вбивают капли в подоконники,
полощут чистое белье,
и головой качают слоники
на полке в комнате её.
Он списывает эти шорохи
на складки мокрого плаща,
не различая в общем ворохе
произнесённого «прощай».
Пока ты спал
Пока ты спал, две крашеные лодки,
две лодки, и вторая первой краше,
причалили почти под окна наши,
качаются на привязях коротких.
Вторая лодка, крашенная морем
со дна до края в синюю бескрайность,
переправляет прошлое в реальность,
полна воспоминаний и историй.
А первая, небесно-голубая,
такая же бездонная, как небо,
полна и рыбы, и вина, и хлеба,
и зрелища, и скоро отбывает.
Наверное, вскипела б от сомнений,
в какую лодку сесть, какую выбрать,
но дома есть вино, и хлеб, и рыба,
и ты заснул, обняв мои колени.
Всё ещё лето
Первые желтые листья не в счёт,
солнце печет сквозь несобранность ивы,
спелые яблоки, синие сливы,
ветреной ряби в воде переливы,
лодочки листьев – не осень еще.
Каждое слово – надкушенный плод,
вызрело или же сорвано рано,
смыслом ли, соком наполнено пьяным,
на языке у поэта, гурмана
выбора или забвения ждет.
Каждая память – расшатанный мост,
нам ли забывчивым быть не по летам.
День через вечер прошел незаметным,
и, наполняя бессонницу светом,
лунное яблоко двинулось в рост.
Все еще месяц рассыпанных звезд,
ливней, и молний, и мокрого сада,
ржавчиной тронутого винограда,
позднего чувства и долгого взгляда,
все еще лето, и это всерьез.
Первые желтые листья – не в счёт,
каждое слово – надкушенный плод,
каждая память – расшатанный мост,
все еще месяц рассыпанных звезд,
все еще лето, лишь это всерьез
Купание в трёх реках
Пока дошла до дома из Твери,
купалась в трёх сопутствующих реках.
Вдоль первой разрослись монастыри –
кручинятся о грешных человеках.
А вдоль второй крутые берега,
заросшие лещиной и полынью,
внимательная птица пустельга
выкрикивает звонко чьё-то имя.
На третьей речке – тихая волна,
ни вересков, ни звонов колокольных.
Но два моих заждавшихся окна
выходят на камыш – с меня довольно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























