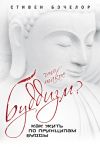Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Можно попытаться вообразить, что сказал бы Будда об авраамической душе в связи с концепцией ее бессмертия. Однако не будем забывать, что Будда не обращался напрямую ни к представителям тех верований, ни к нашим светским современникам. Он находился в иной исторической ситуации и беседы вел совсем иные. Ричард Гомбрих в книге «Как начинался буддизм» (How Buddhism Began) пишет:
Будда опровергал теорию души, представленную в Упанишадах. Упанишады противопоставляют душу (атман) как телу, так и сознанию; в частности, она не обладает такими функциями сознания, как память или воля. Это сущность, а сущность по определению неизменна. Более того, сущность отдельного живого создания объявлялась тождественной сущности Вселенной…
Поняв, что именно опровергает Будда, мы осознаем: это нечто такое, во что на Западе очень мало кто когда-либо верил, а многие даже и не слышали[6]6
Richard F. Gombrich, How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings (London: Athlone Press, 1996).
[Закрыть].
Как бы то ни было, если брахманское освобождение (мокша) достигается добросовестным отправлением обрядов, то буддийское освобождение (нирвана) зиждется главным образом на этическом совершенстве. Если что-то и вознаграждается или, возможно, как мы сказали бы, само по себе есть награда, то это добродетель, а не обряды. Этическое совершенство доступно представителю любой социальной прослойки. Оно не зависит от вероучения. Вселенная каким-то образом отслеживает меру нравственности наших действий (карма) и вознаграждает или наказывает сообразно этой степени. Как пишет Гомбрих, «важность этизации мира Буддой, которую я считаю поворотным моментом в истории цивилизации, невозможно преувеличить»[7]7
Gombrich, How Buddhism Began.
[Закрыть].
Возможно, именно в этой «этизации мира» нужно искать объяснение тому, как и почему начиная с 1950-х гг. буддизм так привлекает представителей Запада. Большинство интересующихся буддизмом и даже «практикующих» (о них мы скоро тоже поговорим) на Западе это учение привлекает потому, что воспринимается как созвучное светским чувствам. Джек Керуак и Аллен Гинзберг не были религиозны, не были склонны к экзальтации, но буддизм их заворожил. Во время войны во Вьетнаме буддийские монахи проявили себя отважными самоотверженными мучениками, жертвующими собой ради мира, и хиппи заинтересовались буддизмом как источником мантры «мир, любовь и счастье». В 1980-х гг. буддийские медитации преподносились как форма психогигиены для подверженных стрессу «властелинов Вселенной»[8]8
Отсылка к серии игрушек компании Mattel «Masters of the Universe» и мультипликационному сериалу 1980-х гг. «Хи-Мэн и властелины Вселенной». – Прим. ред.
[Закрыть] и как безопасная альтернатива валиуму. На рубеже XX–XXI вв. харизматичный далай-лама заявлял, что буддизм выиграл по трем статьям: он дружит с наукой, выступает этикой нового тысячелетия и прокладывает путь к счастью. Все это оказалось как нельзя более кстати для искателей духовности, принадлежащих тем культурам, где общие религиозные убеждения уже не могли связать людей в нравственные сообщества и где науку воспринимали всерьез.
Буддизм выглядел единственно подходящим для этически ответственной жизни учением, не требующим веры в Бога. И сам Будда демонстрировал безразличие к сонму божеств, которые по прошествии времени были возвеличены в индуизме до полноценных богов. В большинстве многочисленных вариаций буддизма космологические доводы в пользу существования Бога не действуют, поскольку там не видят смысла в поисках первопричины как противопоставления не имеющей начала и конца энтропии вещества и энергии.
Более того, хотя буддийская доктрина «не-Я» сама по себе не отвечает натуралистическому взгляду на себя (Будда не считает человека стопроцентным животным, с чем солидарны философы, психологи и нейробиологи), буддизм все же можно понимать таким образом, ведь он, как большинство биологических концепций, делает акцент на изменениях и непостоянстве.
Хотя классический буддизм предполагает изобилие духов и миграцию сознания от умерших к живущим, буддисты далеки от того, чтобы поклоняться всемилостивому любящему Богу-создателю. Они относятся скептически даже к необходимости искать в Боге объяснение тому, что мир в принципе существует. И наверное, неудивительно, учитывая отсутствие глубинной метафизической основы, глубинных причин для нашего существования, что буддизм представляется некоторым сродни экзистенциализму в идее настоятельной необходимости жить достойно, при том что нет никакого руководства со стороны высшей силы, которая наполняет все смыслом или указывает единственно верный путь.
На Западе (это направление называют иногда буддийским модернизмом или необуддизмом) буддизм развивался довольно своеобразно. Хотя ни одна из школ буддизма в тех странах, где буддийская традиция существует давно и прочно, не рассматривает «Я» с натуралистических позиций (в большинстве своем эти ветви придерживаются дуализма и поэтому не усматривают у психических состояний физическую природу) и хотя перерождение почти никакие школы не отрицают, буддизм перенимается и затем трансформируется натуралистами, агностиками и атеистами. Прелесть буддизма для светских натуралистов «духовного, но не религиозного» толка состоит в том, что оригинальная версия легко поддается демифологизации или натурализации, но при этом с точки зрения этики остается предельно серьезной. Мир, как мы помним, этизирован.
Обычно я описываю необуддизм, который в лучших его проявлениях можно найти в Нью-Йорке и Сан-Франциско и их окрестностях, как шнур, свитый из трех прядей. Первая прядь – это буддийская мудрость с минимальной дозой метафизики и теорией природы человека, которая сводится к следующему.
● Всё преходяще, а значит, и вы тоже, и я, и все, кто нам дорог.
● Мир хрупок и полон страданий (дуккха).
● Главная и при этом единственная поддающаяся контролю со стороны человека причина страданий – это алчное эго.
● Склонному к стяжательству эго свойственно впадать в гнев и ярость, когда не удается получить желаемое (что в действительности не тождественно необходимому).
● «Сдувая» эго, я становлюсь более внимательным к тому, что происходит вокруг, вне меня, а значит, к радостям и горестям остальных.
● Все происходящее – это часть великого раскрытия.
● Возможности для того, чтобы изменить мир или себя к лучшему в процессе раскрытия, довольно скудны.
● Мы должны быть внимательны и всегда начеку, чтобы не упустить возможность уменьшить как собственные, так и чужие страдания.
Вторая прядь в этом тройном шнуре – этика. Изначально для Будды этика (шила) означала четыре базовые добродетели:
● правильные намерения – стремление делать добро без похоти, алчности или злого умысла;
● правильные средства к существованию – работа, которая не вредит мыслящим и чувствующим созданиям ни прямо, ни косвенно;
● правильная речь – говорить правду и не распускать сплетни;
● правильные поступки – не убивать, не прелюбодействовать, не употреблять дурманящих и опьяняющих веществ.
К ним добавляются четыре исключительные добродетели:
● сострадание – расположенность к тому, чтобы облегчать страдание всех мыслящих и чувствующих существ;
● любящая доброта – расположенность к тому, чтобы нести счастье всем мыслящим и чувствующим существам;
● сочувствующая радость – расположенность к тому, чтобы радоваться, а не завидовать успехам и достижениям других;
● уравновешенность – расположенность к тому, чтобы воспринимать благополучие всех прочих мыслящих и чувствующих существ как не менее важное, чем собственное, безмятежно принимать тот факт, что вы не центр Вселенной.
Третья и последняя прядь, придающая шнуру невероятную прочность, – осознанность, или медитация. Ранние буддисты отобрали из тысяч разных духовных, психических и физических практик индийской йоги несколько жемчужин и стали их применять.
Медитация, концентрация на дыхании, на положении тела, на потоке сознания способствует пониманию непостоянства всего сущего и переживанию состояния «не-Я», а также оттачиванию навыков сосредоточения и владения собой. Мое дыхание, моя боль, мои тревоги, желания, навязчивые идеи и страхи преходящи. Не ими определяется моя сущность. Ничто из того, что дано нам в ощущениях, не остается неизменным. Я не вижу никакой нетленной самости. Зато вижу, что я (с самой что ни на есть маленькой буквы) иду вперед без всех этих желаний, тревог и навязчивых состояний, ограничивающих меня. И это может помочь мне вырваться из тисков идеи, что я – центр Вселенной, а в случае странных или нездоровых представлений о себе – увидеть, что они не определяют мою сущность.
Кроме того, медитация может служить средством этического саморазвития, подобно тому как спортсмены перед соревнованиями мысленно видят во всех подробностях предстоящие действия. Например, при медитации любящей доброты (метта) вы воображаете себя в ситуации, когда у вас припасена для себя еда, а рядом кто-то голодает. В идеале человек чувствует (или работает над тем, чтобы почувствовать), как лучшая часть его «Я» соглашается поделиться с голодным. Существуют также специальные техники развития конкретных навыков, чтобы уметь терпеть, лучше контролировать гнев, быть более храбрыми или проявлять сострадание. Задача в том, чтобы стать человеком, более чутким к страданиям других и настроенным откликаться на эти страдания так, чтобы суметь их уменьшить.
Вот некоторые соображения: чтобы действительно быть буддистом, то есть сделать буддизм своей жизненной философией, необходимо так или иначе овладеть всеми тремя прядями этого тройного шнура. Казалось бы, вполне оправданное требование, но о нем необходимо поговорить отдельно. Американцы, услышав, что я интересуюсь буддизмом, спрашивают, выполняю ли я практики. Почти всегда они при этом имеют в виду, медитирую ли я (или, точнее, медитирую ли я много и часто). Они не спрашивают, верю ли я в непостоянство всего сущего и в «не-Я» и претворяю ли в жизнь принципы этики сострадания и любящей доброты.
Представление, что буддизм – это главным образом медитации, характерно для стран Северной Атлантики. В 2011 г. я написал в колонку на HuffPost о «буржуазных буддистах», как я их назвал, и отметил в ней, что средний светский буддист в Восточной или Юго-Восточной Азии медитирует очень мало, примерно столько же, сколько средний американец-христианин молится. В Северной Америке и в Европе медитация, которая преподносится как неотъемлемая от буддизма или вдохновленная им практика, применяется для того, чтобы успокоить нервы и добиться большей безмятежности. Но ведь так мы только лелеем эго, а не избавляемся от эгоизма.
И вот мы подходим к вопросу о том, помогает ли буддизм достичь счастья. Ведь со всех сторон твердят, что да. Что я на это скажу? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Буддизм призывает остерегаться того, что привлекательно для эго, а что может быть лучшей рекламной приманкой для эго, чем обещание счастья? Как мы помним, исконный буддизм сосредоточен на дуккха – проблеме облегчения страданий для всех мыслящих и чувствующих существ, включая нас самих. Но облегчить страдания не значит достичь счастья. Позвольте мне рассказать, чем может обернуться горячее стремление объединить эти две идеи.
В мае 2003 г. я написал для New Scientist статью под заголовком «Цвет счастья», в которой рассказал о двух предварительных исследованиях «положительного воздействия» буддизма на одного конкретного медитирующего монаха (на основании нейровизуализации его мозга). К моей досаде, новостные агентства – «Рейтер», Би-би-си, а также канадские и австралийские радиостанции – тут же ознакомили с моим эссе широкую публику, преподнеся его идею в несколько сенсационном ключе: «Буддисты ведут ученых к центру счастья». Матьё Рикар, медитирующий монах французского происхождения, был объявлен счастливейшим человеком в мире. А меня причислили к ученым, обнаружившим «центр счастья» в мозге. (Я с этим исследованием даже рядом не стоял!)
Я дал множество интервью в СМИ в тщетной попытке пресечь или по крайней мере умерить преждевременные восторги по поводу того, что мозг буддистов здорово навострился вырабатывать счастье и поэтому они необычайно счастливы, пожалуй, даже счастливее всех на свете, а способствует формированию этого источника счастья в мозге самых счастливых людей медитация (что бы это ни означало). Меня спрашивали, когда же я установил, что самые счастливые люди из когда-либо живших на свете – буддисты, и где именно в мозге расположен центр счастья. Журнал Dharma Life выдал собственный прелестный заголовок, назвав ученых Ричарда Дэвидсона и Пола Экмана, которые и проводили исследование с участием медитирующего монаха, «сыщиками радости» (Joy Detectives).
Я годами подшучивал над тем, например, как в The New York Times освещаются открытия из области нейробиологии. Как и большинство моих знакомых, я считал основную массу притянутых за уши сенсаций дурацкими, но безобидными. Однако со всем этим ажиотажем вокруг буддизма стало уже не до смеха. Во-первых, теперь это затрагивало меня лично. Во-вторых, в этом чудилось что-то оруэлловское и потому вызывало смутную тревогу. Мне казалось, что многие буддисты, которых я знаю и уважаю, с готовностью проглотят эту наживку и начнут рекламировать новоявленную панацею под буддийским брендом как сертифицированный нейронаукой единственный путь к счастью. Поскольку на магические, однонаправленные духовные рецепты у меня аллергия, я не мог не впасть в скептицизм. Мы с моим другом буддистом из Голландии Робом Хогендорном придумали даже словечко для происходящего – «словобуддие». В любой духовной традиции хватает словоблудия, так что «словобуддие» – это буддийское словоблудие. Заявление, что буддизм – это путь к счастью, было «словобуддием».
То, что буддизм преподносился как лучший путь к счастью, озадачивало, но не было неожиданностью. Это не вызывало удивления, поскольку, ничего не попишешь, современный западный человек не скрывает, что больше всего на свете желает счастья. Даже далай-лама, руководитель школы Гелугпа и самый известный в мире буддист, не устоял перед искушением принять участие в этих рекламных маневрах и выступил соавтором книги «Искусство быть счастливым» (1998)[9]9
Его Святейшество Далай-лама XIV, Катлер Г. Искусство быть счастливым. Руководство для жизни. – М.: Эксмо, 2017. – Прим. ред.
[Закрыть]. Счастье – валюта буддизма. А стремление к счастью – это как-никак неотъемлемое право.
И все же как объяснить то, что привлекательность буддизма обернулась обещанием счастья? Ведь исконный буддизм его не обещал. Исконный буддизм, возникший 2500 лет назад, предлагал практики, способные смягчить страдания. А сам Будда был – по любым современным меркам – ничуть не счастливее Конфуция или Иисуса. Сиддхартха Гаутама, как я уже говорил, этизировал Вселенную, то есть ставил во главу угла этические принципы, а не персоналистические, гедонистические или эгоистические.
Тем не менее идея, что именно в буддийской философии может отыскаться нечто необходимое или полезное современным представителям Запада, не лишена здравого смысла. Буддизм предлагает метафизическую перспективу, этику и набор практик, которые в совокупности помогают «сдуть» эго, а также, если повезет, могут отчасти преодолеть магическое мышление и в какой– то мере обеспечить безмятежность и уравновешенность.
Буддизм претендует в первую очередь на то, что предлагает (насколько это возможно) решение главной экзистенциальной проблемы, стоящей перед человеком, – уменьшение страданий. А это требует самопреодоления, укрощения своего эго. Счастье, ввиду его недостижимости, в классическом буддизме не самый ходовой или как минимум не самый главный предмет, по крайней мере пока не проживешь бесчисленное множество жизней, потому что если считать счастьем достижение нирваны, то человек обретает счастье тогда, когда превращается в ничто, совершенное ничто, и освобождается от всех желаний.
Что же тогда предлагает буддизм, если счастья в привычном понимании он нам дать не может? Относительно стабильное ощущение безмятежности и удовлетворенности, но совсем не то ощущение, которого так жаждут и которое рекламируют на Западе как лучшую разновидность счастья. Эта безмятежность и удовлетворенность приходят (если приходят) вместе с мудростью (пониманием непостоянства и «не-Я»), в результате осознанности и действенных добродетелей сострадания, любящей доброты, сочувствующей радости и уравновешенности. Заручившись этим тройным шнуром, человек приобщается к мудрости и добру, к тому, что способно придать всему смысл, если что-то вообще способно. Станет ли он от этого счастливым? Может быть. Но суть не в этом.
Рекомендуемая литература
Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие. – М.: Наука, 2003. Краткий вводный курс, посвященный основам буддизма.
Его Святейшество Далай-лама, Катлер Г. Искусство быть счастливым. Руководство для жизни. – М.: София, 2008. Реклама буддизма как пути к счастью.
Flanagan, Owen. The Bodhisattva's Brain: Buddhism Naturalized. Cambridge, MA: MIT Press, 2011. Моя попытка отстоять честную – без волшебных пилюль – буддийскую метафизику и этику.
Гоулман Д. Деструктивные эмоции. Как с ними справиться? – М.: Попурри, 2005. Отчет о научно-философских встречах с далай-ламой, посвященных обсуждению гнева и других деструктивных эмоций в 2000 г.
Gombrich, Richard F. How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings. New Delhi: Munshiramm Manoharlal, 1996 / 2002. Проверенная классика, посвященная буддийской философии.
Райт Р. Буддизм жжет! Ну вот же ясный путь к счастью! – М.: АСТ, 2018. В защиту буддизма как образа жизни для современного американца.
Глава вторая
Конфуцианство
Брайан Ван Норден
Почему мы так любим Эйнштейна? Любим ведь. Вспомните все эти постеры в университетских общежитиях и интернет-мемы с его портретом и изречениями, которые ему (как правило, ошибочно) приписывают. Эйнштейн – герой бесчисленных фильмов и телепередач, и всегда положительный. Почему сам его облик с первого взгляда вызывает у нас инстинктивную приязнь?
Своей популярностью Эйнштейн – хотите верьте, хотите нет – обязан древнегреческому философу Платону (умер в IV в. до н. э.). Платон доказывал, что лучше всего для человека посвятить жизнь умственному созерцанию. Занимаясь такими предметами, как чистая математика, теоретическая физика и философия, человек преодолевает зависимость от мирских повседневных забот. Эти люди лучше остальных: они чище и почти богоподобны.
Курт Воннегут в своем романе «Колыбель для кошки» (1963) ставит под сомнение этот идеал отстраненного суперчеловека-ученого. Его Феликс Хониккер – карикатура на ученых, которые разрабатывали ядерное оружие, не задумываясь об этической стороне своих разработок. (Хониккера называют в книге «отцом ядерной бомбы» – в реальной жизни этот титул принадлежит физику Роберту Оппенгеймеру, возглавлявшему «Манхэттенский проект»). Хониккер изображен обладателем блестящего и пытливого ума. Но при этом у него нет ни друзей, ни любимых, он равнодушен ко всем, вплоть до собственных детей. Хониккер изобретает вещество под названием «лед-девять», одной капли которого достаточно, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. Ученого ничуть не заботит, кто завладеет этой смертоносной субстанцией и к чему это может привести.
Обращаю ваше внимание, что у меня нет ни малейших оснований считать, будто Эйнштейн или Оппенгеймер действительно были такими, как Хониккер. Но некоторые из великих ученых определенно напоминали его. Вернер фон Браун конструировал ракеты для нацистов во время Второй мировой не менее усердно и увлеченно, чем впоследствии, во время холодной войны, для NASA. (В пародии на фон Брауна его высмеивал сатирик Том Лерер: «Раз ракеты взлетают, какая разница, где они приземляются? Этим занимается не мой отдел».) Нет, я не веду крестового похода против науки. В конце концов, философия – мать естественных наук и своим детям желает только лучшего! У меня довольно скромная цель: пробудить у вас сомнение в платоновской идее, что возможности предаваться отвлеченному умствованию уже достаточно, чтобы считать жизнь достойной восхищения или просто достойной того, чтобы жить.
Но что же делает жизнь достойной того, чтобы прожить ее? Для последователей Конфуция (551–479 до н. э.) непременный атрибут хорошей жизни – наполненные любовью отношения с другими людьми. Парадигма любящих взаимоотношений берет начало из идеальной семьи, где родители воспитывают и наставляют детей, а братья и сестры заботятся друг о друге. Аналогично политические лидеры и руководители любого ранга должны относиться к подчиненным, а мы должны сострадать своим друзьям, членам нашего сообщества и всем остальным людям так, как если бы они были нашими братьями или сестрами. Как писал один последователь Конфуция:
Эти люди – мои братья, и все живущие на свете – мои товарищи. ‹…› Все в Поднебесной, кто устал, лишился сил, изнурен, болен, не имеет братьев и детей, все вдовцы и вдовы – все они мои беспомощные братья и сестры, которым не к кому больше обратиться. Заботиться о них в пору невзгод – дело хорошего сына[10]10
Zhang Zai, «The Western Inscription,» in Readings in Later Chinese Philosophy, trans. and ed. Bryan W. Van Norden and Justin Tiwald, (Indianapolis: Hackett Publishing, 2014), 135. Перевод [английский] немного изменен.
[Закрыть].
В результате мы привыкаем воспринимать человека в контексте взаимоотношений, в которых он состоит. Вот я, например, кто? Я Брайан Ван Норден, и, уже говоря это, я идентифицирую себя через отношения со всеми прочими Ван Норденами – и не только с моими родителями, братьями и сестрами, но и с теми Ван Норденами, которые во времена Войны Севера и Юга служили в войсках юнионистов или конфедератов, и с теми, которые в годы Войны за независимость сражались на стороне лоялистов или революционеров. (Подозреваю, что атмосфера на семейных встречах у моих предков была несколько натянутой.) Я профессор, но и эта характеристика подразумевает отношения: я профессор определенного колледжа, в котором преподаю у определенных студентов. Я писатель, и это свойство тоже предполагает сложные, многосоставные отношения, в которых участвую я, издательства, выпускающие мои книги и статьи, мои редакторы и мои читатели. Даже мои самые объективные с научной точки зрения характеристики все равно оказываются реляционными: я представитель вида Homo sapiens, но любой биологический вид существует лишь постольку, поскольку существуют его представители. Если бы в свое время первобытные люди в Африке не выжили, меня сейчас не было бы на свете. И наконец, будучи не чем иным, как сгустком материи, я связан со всей остальной Вселенной и косвенно – через Большой взрыв, и непосредственно – за счет силы притяжения (которая ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния, но все-таки не исчезает до конца).
Реляционность наших характеристик имеет этическое значение. Поскольку в отрыве от взаимоотношений «меня» не существует, мое благополучие зависит от моего вклада в эти отношения. Коль скоро мое самосознание определяется моей преподавательской работой, я живу хорошо, если хорошо преподаю, а если преподаю плохо, то и живу плохо. Но ведь жизнь это не только работа? Разумеется! А поскольку мое самосознание определяется моей отцовской ролью, я хорош, если хорош как отец, и плох, если я отец никудышный. Как показывают эти примеры, собственные интересы ни в чем фундаментально не противоречат заботе о других, поскольку основная составляющая хорошей жизни – преуспевать в тех отношениях, которые так или иначе нас определяют. У Конфуция есть на этот счет очень емкое изречение. Когда его спросили, каким ему видится процветающее общество, он ответил: «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном»[11]11
"Kongzi (Confucius), 'The Analects,' " 12:11, trans. Edward Gilman Slingerland, in Readings in Classical Chinese Philosophy, 2nd ed., ed. Philip J. Ivanhoe and Bryan W. Van Norden (Indianapolis: Hackett Publishing, 2005), 36. Перевод [английский] немного изменен. [Конфуций. Лунь юй (Беседы и суждения). Пер. Л. С. Переломова.]
[Закрыть].
Один философ-конфуцианец, Ван Янмин (1472–1529), доказывал, что люди подспудно осознают свое единство со всем прочим:
Вот почему при виде ребенка, падающего в колодец, они испытывают невольный страх и сострадание. Это потому, что их человечность делает их единым целым с ребенком. Кто-то может возразить, что, не будь ребенок тоже человеком, такого отклика бы не возникло. Но точно так же сжимается их сердце, когда они слышат истошный птичий крик или видят перепуганного до полусмерти зверя. Это потому, что их человечность единит их с птицами и зверями. Кто-то может возразить, что не будь птицы и звери чувствующими созданиями, наше сердце не болело бы за них. Но невольным сочувствием и беспокойством люди проникаются и при виде вырванной с корнем травы или поваленных деревьев[12]12
Wang Yangming, "Questions of the Great Learning," trans. Philip J. Ivanhoe, in Readings in Later Chinese Philosophy, 241–42. Перевод [английский] немного изменен.
[Закрыть].
Далее Ван доказывает, что люди «образуют единое целое даже с черепицей и камнями», ведь нам горько видеть прекрасные старинные здания или живописные скалы «разрушенными и лежащими в руинах»[13]13
Wang, «Questions of the Great Learning,» in Readings in Later Chinese Philosophy, 242.
[Закрыть].
Этот конфуцианский взгляд резко контрастирует с тем, что уже два с лишним тысячелетия господствует в западной философии: люди метафизически обособлены и политически независимы. Западные философы – от эссенциалистов вроде Аристотеля (384–322 до н. э.) до экзистенциалистов вроде Симоны де Бовуар (1908–1986), – взгляды которых мало в чем схожи, считали само собой разумеющимся, что действительность так или иначе должна быть образована отдельными независимыми личностями[14]14
См. главу 4 «Учение Аристотеля» Дэниела Кауфмана и главу 12 «Экзистенциализм» Скай Клири.
[Закрыть]. Это воззрение имело свои положительные последствия. Представление о том, что люди являются в этот мир свободными и от рождения ничего друг другу не должны, легло в основу теории общественного договора, в соответствии с которой политическая власть предполагает достижение индивидами соглашения, учитывающего права и интересы каждого. Таким образом была обоснована необходимость уважать свободу слова и свободу вероисповедания.
Жан-Жак Руссо (1712–1778) облек в живую афористичную форму политический миф о радикальном индивидуализме, заявив: «Человек рождается свободным, а между тем везде он в оковах»[15]15
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourses, trans. G. D. H. Cole (New York: E. P. Dutton & Co., 1913), 5. [Руссо, Жан-Жак. Об общественном договоре. Пер. А. Д. Хаютина, В. С. Алексеева-Попова.]
[Закрыть]. Но мы не рождаемся свободными. Мы рождаемся с обязательствами по отношению к нашим родителям и другим родственникам, которые растят нас до зрелости, к учителям, которые вкладывают в свое дело душу, а не просто отрабатывают зарплату, и к существующей цивилизации, без которой все эти индивидуальные вклады были бы невозможны. Роман Даниеля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) стал парадигмой бытия независимого индивида, которому в окружающем его мире принадлежит все, поскольку он сам это все и производит. Ирония в том, что на самом деле (о чем прекрасно известно каждому прочитавшему роман) герой в полной мере зависит от милости Божьей и от наследия своих предшественников (воплощенного в инструментах и припасах, которые Робинзон перетаскивает с разбитого корабля и использует, чтобы прокормиться и выжить).
Однако недостатки мифа о том, что существуют совершенно независимые индивиды, все более очевидны. Лишь экстремисты всерьез полагают, что наши права абсолютны и ничем не ограничены. Означает ли свобода слова, что преподаватель старших классов может вести подкаст на тему превосходства белой расы?[16]16
Christopher Mathias, Jenna Amatulli, and Rebecca Klein, «Exclusive: Florida Public School Teacher Has a White Nationalist Podcast,» HuffPost, March 3, 2018, https://www.huffpost.com/entry/florida-public-school-teacher-white-nationalist-podcast_us_5a99ae32e4b089ec353a1fba.
[Закрыть] Означает ли «право на хранение и ношение оружия», что я могу приобрести полуавтоматическую винтовку, способную производить 60 выстрелов в минуту? Может ли свобода совести служить основанием для того, чтобы отказаться выполнять заказ на свадебный торт для однополой пары?[17]17
Tara Isabella Burton, «How religious groups are responding to the Masterpiece Bakeshop Supreme Court case,» Vox, December 5, 2017, https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/12/5/16719386/masterpiece-cakeshop-scotus-religious-arguments-amicus-briefs-gay-cake.
[Закрыть] А как вписываются в эту схему корпорации – одно из самых судьбоносных и влиятельных изобретений XX в.? Сейчас они рассматриваются (с определенной узкой юридической точки зрения) как личности, но их никак нельзя считать людьми в том смысле, какой вкладывали в это понятие классические философы применительно к человеку[18]18
Adam Winkler, «Corporations keep claiming 'We the People' rights. And they're winning,» Los Angeles Times, March 2, 2018, http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-winkler-how-corporations-won-the-right-to-personhood-20180302-story.html.
[Закрыть].
Кому-то ответы на заданные выше вопросы покажутся не такими очевидными, как мне, однако хаотичность полемики на данную тему говорит о том, что нам нужна более точная модель человечества и Вселенной, в которой мы живем, – принимающая в расчет тот факт, что «нет человека, который был бы как остров, сам по себе: каждый человек есть часть материка, часть суши»[19]19
John Donne, Meditation XVII: «No Man Is an Island,» in Devotions Upon Emergent Occasions (London, 1624). [Донн Дж. Обращения к Господу в час нужды и бедствий. Пер. Н. А. Волжиной, Е. Д. Калашниковой.]
[Закрыть]. Решая, какие нам нужны законы и какие права нам следует защищать, необходимо отдавать себе отчет в том, что мы живем во Вселенной, где все – и люди, и предметы – взаимозависимы.
Это не значит, что личность не имеет значения: конфуцианцы всегда подчеркивают разницу между своей позицией и буддийской, отстаивающей учение о «не-Я». Когда царь спросил буддийского монаха и философа Нагасену (II в. до н. э.), кто он, тот ответил: «Мое имя Нагасена, государь. Нагасена – зовут меня сподвижники. ‹…› [Но] ведь это, государь, название, знак, обозначение, обиходное слово, это только имя – Нагасена, здесь не представлена личность»[20]20
The Questions of King Milinda, ed. N. K. G. Mendis (Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1993), 29. [Вопросы Милинды (Милиндапаньха). Пер. А. В. Парибки.]
[Закрыть]. Из этой буддийской доктрины следует, что эмоциональная привязанность к семье, друзьям и возлюбленным – это привязанность некоего иллюзорного «Я» к другим таким же иллюзорным «Я». Один дзенский наставник так толковал этическое следствие доктрины «не-Я»: «Встретите Будду – убивайте Будду ‹…› встретите родителей – убивайте родителей, встретите родственников – убивайте родственников. Только тогда вы обретете освобождение от уз»[21]21
«Selected Kōans,» trans. Stephen Addiss and James Green, in Readings in Later Chinese Philosophy, 107–108. [Линь-цзи Лу. Пер. И. С. Гуревича.]
[Закрыть]. Этот намеренно шокирующий коан – метафора предписания избавляться от привязанностей к определенным людям, исполняющим определенные роли. Именно поэтому буддийские монахи и монахини в большинстве культур дают обет безбрачия, сбривают волосы и носят одинаковую одежду – чтобы уничтожить любые привязанности и любые признаки индивидуальности[22]22
В более положительном ключе буддизм представлен в главе 1 «Буддизм» Оуэна Фланагана.
[Закрыть].
Как доказывают конфуцианцы, буддийский подход упускает из вида, что, хотя нас характеризуют наши отношения, необходимы люди, которых они связывают. Для того чтобы существовали, допустим, отношения материнства, нужны по крайней мере мать и ребенок. Для дружеских отношений требуются как минимум двое. Услышав от ученика, хвастающегося тем, что преодолел пределы своей личности настолько, что уже не ощущает свое тело как собственное, учитель-конфуцианец поддразнил его: «То есть когда другие утолят голод, ты тоже почувствуешь себя сытым?»[23]23
«Cheng Hao, Selected Sayings,» trans. Philip J. Ivanhoe, in Readings in Later Chinese Philosophy, 152.
[Закрыть] В другой ситуации тот же самый конфуцианец объяснял, что принять буддийское учение – это «как закрыть глаза, чтобы не видеть собственного носа, но только нос ведь от этого никуда не денется»[24]24
«Cheng Hao, Selected Sayings,» in Readings in Later Chinese Philosophy, 149.
[Закрыть]. Иными словами, буддизм просто игнорирует неотъемлемые составляющие нашего человеческого опыта.
Взаимодополняющие стороны конфуцианской метафизики (сочетание представления о нашей общей взаимозависимости и представления о существовании отдельных людей, состоящих в этих взаимозависимых отношениях) объясняют комплементарную природу конфуцианских добродетелей. Две важнейшие конфуцианские добродетели – это человечность и справедливость. Человечность – это добродетель, которая проявляется в нашем сострадании к другим. Оно выражается в любви к родителям, в тревоге за ребенка, который вот-вот оступится и упадет в колодец, в жалости к мучающемуся животному и даже в глубинном, внутреннем удовлетворении, которое мы испытываем, видя травы, деревья и горы в подобающем им состоянии. Поскольку все мы взаимозависимы, наша человечность должна распространяться на «всю Поднебесную».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?