Текст книги "Комментарии"
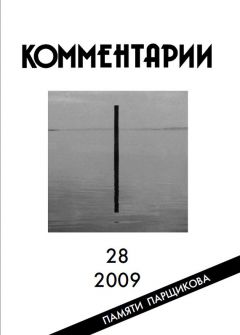
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Алексей был одержим поиском. Он все время шел дальше. Довольно рано его привлек тот факт, что реальное явственнее проступает там, где оно не совпадает с нашими ожиданиями. Где наш находящийся в пределах гиперреального опыт намечает вектор, а реальность меняет его или вовсе пускает причинно-следственную цепочку развития совсем в другом направлении. Вот почему впоследствии он отправился на периферию гиперреального, куда вытеснены нашим ментальным мейнстримом эти несбывшиеся ожидания вкупе с олицетворяющими их потерпевшими неудачу персонажами.
Сначала он увлекся идеей написать поэму о Хрущеве. Не знаю, почему этот его проект так и остался нереализованным, что не похоже на Алексея, принимая во внимание его способность к целенаправленному осуществлению задуманного. Так что я даже иногда сомневаюсь в достоверности своей памяти. Но затем он выудил на свет изобретателя Льва Термена, создавшего футуристичный музыкальный инструмент, фантастичностью своего звучания предназначенный изменить музыкальную практику человечества, и закономерно в силу того, что будущее обмануло наши ожидания, оказавшийся пригодным лишь для озвучивания фантастических фильмов.
Но не музыкальный инструмент интересовал Алексея, а то ли мнимая, то ли действительно имевшая место попытка Льва Термена оживить Ленина. И это был чисто барочный акт, если учесть, что с личностью Ленина тоже связывались несбывшиеся ожидания, и оживить его – это и было попыткой исправить вектор реальности, привести его в соответствие с гиперреальными ожиданиями, «раскавычить книгу».
И наконец, Алексея захватили «Дирижабли». Он рассказывал о своем замысле года четыре или лет пять тому назад, когда мы сидели в «Билингве». В письмах из Германии описывал свои впечатления от авиавыставок и музея дирижаблестроения. Они давали ему богатую пищу для самим собой исчерпывающегося дискурса. Исторические фигуры его занимали уже не так сильно. Они ушли на второй план.
В самом начале «Дирижаблей» он прокручивает нам что-то вроде немого кино. Опереточные персонажи с их мелодраматическими страстями и любовью на фоне дирижаблестроения. Прощание с иллюзиями начала ХХ века или, может быть, наоборот, возвращение к ним на новом витке. Для этого как нельзя лучше подходит эта боковая тупиковая ветвь воздухоплавания.
Но кино заканчивается и начинается документальный фильм. И вскоре мы натыкаемся на почти что реминисценцию из старого доброго «Минус-корабля»:
Кто свяжет землю с небом напрямую, если не мертвый летчик?
Алексей со свойственной ему масштабностью разворачивает перед нами грандиозную картину, где диалектика гиперреального с ее консервативным пробуксовыванием или опережающим эволюцию забеганием вперед, но никогда не совпадением, создающими почву для проигрыша в естественном отборе целых классов приверженцев того или иного культурного пласта, становится наглядной:
Рельефы, истуканы, плиты, алтари, но отвернись – они работают локтями,
срываясь и сбегая в высоту быстрей угрюмых обезьян;
кто не прошел естественный отбор, тот втихомолку проволоку тянет
вокруг себя, и виден клейкий ток, чтобы ограды не перелезал.
В одном из своих последних писем он делился радостью, что у него договор с «НЛО» на книжку, где 80% стихотворений будут новыми. Их еще предстояло написать. В своих «Заметках к “Сельскому кладбищу”», зная свой диагноз, оптимистично высказывает предположение, что, «может быть это не последняя» его «вариация “Элегии”». Он не закольцовывал жизнь, не пытался придать ей законченные книжные формы. Он стремился дальше, что доказывает его устремленность к реальности, а не цикличную замкнутость на гиперреальном. Поэтому он все еще живой, действующий поэт. И только по несчастному стечению обстоятельств мы все оказались лишены возможности непосредственного с ним интеллектуального, не ограничивающегося «символическим» обмена.
Андрей Левкин
Линия Парщикова
Моя проблема в том, что долгие отношения с Паршиковым сложили вместе разные истории и уже не найти точки, из которой можно было бы компактно объяснить, что именно он делал в поэзии. Надо от чего-то оттолкнуться. Пусть исходным пунктом будет сказанное Юлией Кисиной: «Он огласил мир, как всеобъемлющую биологическую машину, впустил в нее современность, разрешил новые технологии, позволил спрягать все со всем – механику и химию, школьный кабинет и вульгарную мессу финансов. Метафора уравнивает чувственность и смыслообразование, навоз и бензин, сводит их в единый поток и использует, казалось бы, в первый момент не по назначению, чтобы в следующий – огорошить функциональностью. Поэзии стало позволено быть громоздкой, густой и визуальной тем зрением, которое впускает глаз внутрь вещества, и одновременно позволяет ему, то есть, глазу-миру наблюдать за самим собой и себя же осознавать. Эта машина – сферически тысячеглаза во всех направлениях. Со смертью поэта – пружина механизма раскручивается. Часы остановились. Время стало абсолютным и одновременным, очевидным и бесконечным».
Что ж, Кисиной указан результат, – такой он, другой, но – в любом случае, можно говорить о том, как он был произведен. Сначала о том, что не так важно, как считается. Это касается южнорусской фактуры, донецкого-темперамента-украинского-барокко, метамета и метареа. Все это присутствовало, но – как набор близких фактур, почему бы с ними не работать. Однако, такие позиции, взятые как базовые, выгораживают чуть ли не этнографическую рамку, предъявляя в сумме невнятицу. И барокко, и чернозем с полтавскими зайцами были, однако ж Парщиков в конце 80-х имел внятное представление о том, как устроено адекватное искусство. Я, скажем, всякий приезд разглядывал у него свежий тогда сборник «Flash Art. Two Decades of History – XXI Years», пока не поймал такой же в букинистическом на Спиридоновке. А эта тематика никак не сводится к вышеперечисленным сущностям. Разумеется, после Москвы – и в Кельне, и до Кельна – у него этого искусства вокруг было полно. Он занимался просто современным искусством как таковым, только реализовал его не через объекты-перфомансы-инсталляции, а в поэзии. В остальном же механизм не собственно литературный.
Метафоры выполняли не роль украшений, не были только следствием обостренной реакции, они работали на представление объектов, которые требуются тексту, потому что их ощутил автор. Вот, тут снова что-то новое, его-то они и обстукивают. Или, наоборот, своей взаимной расстановкой как-то невидимо выстраивают его сумме этих взаимных расположений, обнаруживая заодно и сценарий их отношений. Не сравнения и уподобления, а произведение элемента, только что отсутствовавшего. Они вот что делают, если заморочиться: вытесняют это отсутствие в обретающую внятную форму суть. Другой стороной будет нарастание отсутствия самого автора – в той точке, точнее – той точки, которая порождает все эти дела.
Отсутствие – не метафизическая тема, в смысле Высших Тайн и чего-нибудь в этом роде. Вокруг всегда полно контекстов и дискурсов, но автор же, в общем, вне их. Он со всем этим связан, разумеется, – хотя бы самим фактом этого ощущения себя вне. Да, из этой позиции он может эту ситуацию описать, свое отсутствие как раз и ликвидировав через предъявление его в зафиксированной форме. Но написанное, записанное отсутствие войдет в контекст, а автор снова от него отделен. В нем же есть еще что-то, что тут опять не присутствует.
То, что все время имеется какое-то скрытое присутствие, да – метафизика, но вполне осязаемая. Вот такая история: примерно начало 80-х, Парщиков работает дворником или каким-то иным вспомогательным сотрудником Дома медика – это на Б. Никитской (тогда – Герцена). В частности, убирает снег – зима снежная, а Дом медика несколько отходит вглубь квартала, площадка перед ним уже загромождена сугробами, их надо вытолкать на проезжую часть, оттуда их заберет снегоуборочник. Но идея – проезжает какой-то сгребательный механизм – пусть он за трешку или за рубль, не помню – сдвинет сугробы к тротуару. Что и сделано. На следующий день Парщикова увольняют. Потому что, как оказалось, внутри сугробов имелись два – решительно как бы отсутствовавшие – алебастровых вазона, ну – для гипотетических цветочков. Которые, соответственно, сделались уже реально отсутствующими навсегда.
Да, машина от Кисиной. Чтобы запустить такую машину автор должен как-то правильно себя поставить и отвечать определенным требованиям. Вопрос уже даже в том, что есть сам автор, в какой анатомии своих чувств он действует и, вообще, существует. Такое описание у него есть давным-давно, это «Сила». В данном случае важен момент выхода из ощущения:
«Ты узнал эту силу: последовал острый щелчок, —
это полное разъединение и тишина,
ты был тотчас рассеян и заново собран в пучок,
и – ещё раз щелчок! – и была тебе возвращена
пара старых ботинок и в воздухе тысяча дыр
уменьшающихся, и по стенке сползающий вниз,
приходящий в себя подоконник и вход в коридор,
тьмою пробранный вглубь, словно падающий кипарис».
Продолжая его методичку еще более прагматично, получим линию от почти отсутствующей субстанции (в которой, при всей ее пустоте, ощущение себя все равно существует и, в общем, этой силе и равно) к приземлению, в прямом смысле – к воплощению субстанции. Схема дает понять, как происходит движение, перемещение вдоль всей линейки от полного якобы себя отсутствия до чего угодно вещественного, плюс сопутствующие личные переживания в материальной форме. И обратно. Всякий раз испытывая очевидное удовольствие от очередного исполнения этого кунштюка, новой внятной реализации своего отсутствия, не-бытия тут.
Ну, разумеется, с удовольствием проживая и переживая все, что происходит по ходу этого перемещения. И это есть вполне единственный подход к художественным практикам конца XX – начала XXI века. Конечно же, у Парщикова никогда нет прямых высказываний. «Я» или «мы», которыми иногда начинается или даже назван текст («Я жил на поле Полтавской битвы»), это – обозначение той точки, которая входит в приключение. Точки, чья анатомия постепенно выстраивается, выстроится по ходу письма. Она сделается такой, чтобы все пишущееся смогло произойти. К концу стихотворения эта точка и будет его автор.
Понятно, тут обязателен абсолютный уровень письма. Без артистизма, без способности раскачивать воздух даже записанным звуком тоже ничего бы не сделалось. Все это вместе живет на чутье отсутствия и способности делать все эти мурашки читателю, а иначе – никаких приключений. Предъявление пространства, метода, результатов, кайфа всей этой жизни есть уже и в «Выбранном» (здесь следует поставить адрес, где ее найти, это правильней, чем давать издательские выходные данные – http://www.vavilon.ru/texts/parshchikov1.html). Обычная великая книга, которую можно воспринимать даже как сборник кодов доступа.
Тут любопытно мнение типа, что Паршиков более интересен ранний, который именно в «Выбранном», а потом что-то как-то уже не так. Это известная заморочка: если публика восприняла автора, то она плохо относится к его изменениям. Ну да, чем дальше человек работает, тем меньше зрителей рядом. Но тут вот еще что: в случае Парщикова сначала происходило, что ли, утверждение и даже самоописание самого автора. Будто он – существовавший невесть где – постепенно вспоминает кто он и постепенно возвращает себе свои умения. В письменном виде и публичным образом. Иногда такие истории воспринимаются с массовым энтузиазмом. В самом же деле, вах! Наглядно появилась принципиально новая сущность. Но что делать автору, когда он себя окончательно вспомнил? Тогда два варианта: описывать из этой позиции все, что вокруг, или этот свой механизм как-то усовершенствовать дальше. Отапгрейдить то существо, которым являешься. Выбора тут обычно нет, все происходит само собой.
Тут будет уместно развести два вида литературы. Например, есть математика, а есть прикладная математика. Вторая – не развивает исходную дисциплину (хотя и может способствовать этому косвенно), она внедряет структуры и методы в быт: это ее функция. В литературе то же самое – или это дисциплина, ищущая основания в себе самой и развивающая себя (но она реализует и определяет и схему восприятия, а еще – много чего еще). Или она используется как набор методик, чтобы рассказывать истории, сообщая о чувствах физлица в неких исторических обстоятельствах (он этот вариант тоже отчасти пробовал, в Cyrillic Light: не зацепилось).
Пока автор становится самим собой, работает и определенный общедоступный сценарий. По крайней мере, обстоятельства автора узнаваемы читателем. Но потом, когда он уже совпал с собой и, занимаясь литературой per se, работает дальше – там уже бытовых историй нет, общедоступная часть закончилась, дальше интересно только тем, кто знает, что тут за игра.
Что дальше? При длительном нахождении в подобном авторском пространстве такая проблема: поэзии там сложно, здесь уже требуются невербальные ходы, предполагается выход за язык вообще. Проза это еще как-то может устроить, выйти. Его же, Парщикова, словами: «Он растерян, как можно от факта, что неизвестности больше нет. Осторожен, как если бы залито фотоэмульсией все кругом».
Потому что в прозе, например, можно стыковать даже мусорные фактуры, работать будут уже и соотношения, а в поэзии как? Там надо быть четким, что означает полное включение в язык: делать ему любой upgrade, даже ломать его можно, но вывести в состояние упаковочной пленки – никак. С чем останешься? Проблема должна была как-то разрешиться. Учитывая, что здесь не бывает законченных достижений, они не предполагаются, под ключ ничего не сдается. Там жизнь, состоящая в принятии всякий раз все более сложных анатомий.
Осенью 2007 года Парщикова интересовала фигура коммуникатора, какого-то промежуточного элемента, который каким-то образом (тем или иным способом) связывает сущности различной природы. Что-то ему дался Клоссовски, «Купание Дианы», демоны-посредники и т.п.: «Диана заключает договор с демоном, посредничающим между богами и людьми, чтобы обнаружить себя Актеону. … Действительно, если люди как тела умирают, они как духи могут достичь божественного бесстрастия благодаря имеющейся у них способности умереть: в свою очередь, вытесняя те страсти, которые пытаются им передать демоны. Заключенные в свои бессмертные воздушные тела, демоны не могут избежать своего посреднического положения путем смерти, которая бы их преобразила».
Это будет позиция отчужденного посредника, вариант «Дирижаблей», выведенная вовне, отчужденная и парящая точка, о чем сказано вполне конкретно:
«Только б расслабиться и пренебречь надзором…
Почти без креплений оставлена повсеместная высота.
Остался б и я посреди атмосферы в покалывании озона,
на кривоугольном стуле, если б у дирижабля испарились борта.
– Я с вами, исчезающе малые величины!»
Другой вариант, изнутри: коммуникатор производит вход в переживание. Это вариант посредника в самом тексте. Намеренное производство затруднений при чтении, может быть. Если посмотреть его стихи от 2005, примерно, года, то там видно: другая фактура, но тот же персонаж-посредник, что и раньше, давно. Им является сама строка. Некоторый модуль, представляющий автора – предъявляющий автора – внутри самого стиха. Это как модерн с его «линией Орта», в пафосном варианте – «удар бича» (см. решетки парижского метро).
Некоторый гибкий модуль. Не так, что лишь обозначающий свое присутствие, но вводящий свою меру и – фактически – динамику в окружающее пространство. Он окажется посредником между автором и производимым текстом, его из себя, собой организуя. Это сильный метод, вообще: так можно упорядочить любой хаос, не организуя его директивно и структурно.
Так в тексте может присутствовать автор, – не как человек и даже не как автор данного стихотворения. Его субстанция, факт, единица, управляющая и организующая противопоставление фактур: той, что им ощущается, и той, что будет реализована письменно. Не абстрактная позиция автора-где-то-там, но посредника между непроявленным отсутствием и записываемым текстом.
Здесь требуется не просто привычный какой-то изгиб авторского почерка – это означало бы только инерцию повторения. Но осознанное и разрабатываемое понимание того, что вот именно это что-то и является посредником. Вот такая линия, такой поворот, такие стыки ритма, эта серия звуков. Тогда его поведение становится главным, не вспомогательным – требуемым лишь для привязывания новой фактуры. Он может уже работать с чем угодно, использовать даже физическое тело автора. «Наркоз»:
«Истошной чистоты диагностические агрегаты
расставлены, и неведение измеримо.
Плиточник-рак, идущий неровным ромбом и загребая
раствор, облицовывает проплывающих мимо.
Но ты, Мария, куда летишь? Камень сдвинут уже на передний план
и его измеряют. Ещё спят, как оплавленные, каратели.
Наркоз нас приводит в чувства – марлевый голубой волан
падает на лицо. Мы помним, когда очнулись, а не когда утратили…»
Тут, будто бы, возвращение к старому варианту «…это полное разъединение и тишина, ты был тотчас рассеян и заново собран в пучок, и – ещё раз щелчок! – и была тебе возвращена пара старых ботинок и в воздухе тысяча дыр уменьшающихся». Нет, в 80-е была поймана внутренняя позиция. Да, она и есть основа для реализации своего отсутствия, но она не может быть коммуникатором. Посредничает тут другое, вот это традиционное, вроде бы, для Парщикова выкручивание фразы, реализуемое уже осознанно – полагаю – в качестве коммуникатора, выделяемого автором себе же места нахождения в своем тексте. Фактически «линия Парщикова»: «агрегаты расставлены», «неведение измеримо», «рак-клеточник» – жестко оформляя именно его присутствие и посредничество в этом деле. В деле собственной смерти – в том числе. Конечно, «мы помним, когда очнулись». Но только теперь и «когда утратили» – там внутри тоже мы. Здесь в продолжение «Наркозу» – «Стража» (указано: «По мотивам «Воскресения Христа» Пьеро делла Франческа»):
«…Вошли в резонанс с пустыней акупунктурные точки,
с ними вошли в резонанс черви, личинки, жуки,
одержимые скалы, издёрганные комочки,
зубчатый профиль буквы, написанной от руки.
Тела их теряли фрагменты, и разбредались потери
тихо по атласу мира, что случайно раскрыт
на климатических зонах, где разобщённые звери
высятся на рельефах – живущий и вымерший вид.
Так на дороге у камня раскинулись как попало:
полулёжа и навзничь, и упавшие ниц.
Дерево, ткани и кожи, керамика и металлы
в ожидании склеивающих, собирательных линз».
Ну да, тут все вместе, но это никак не машина – это уже не внешнее действие, но иначе устроенное личное пространство, другое пространство как таковое. Вот оно такое, что собирает в себя, точнее – собой – всё. Так вот, через эту функцию посредника между пространствами, элементами пространств, их смысловыми единицами он изрядно расширил возможности восприятия, и вовсе даже не только авторского. И даже не своего восприятия – а любого того, кто так ощущает, то есть – из всего этого и состоит. Контролируя или просто ощущая все эти свои связи между собой всюду отсутствующим и всегда наличным. В результате вместе сошлись такие части человека, и чего угодно, которые не предполагали не то, что совместной деятельности, но и знания друг о друге. Впрочем, они никогда об этом и не думают. Итог: это пролом, проход к расширенному и дополненному представлению о собственном устройстве. И ведь, что благая весть явлена в формате «а вот есть на свете во-о-от такая штука, чесслово!» Переход расписан, жизнь на новой территории предъявлена, и она – хороша. Территорию можно расширять дальше.
Юрий Арабов
Алексей Парщиков как литературный проект
Мы жили в эпоху управляемого лиризма. Мы – это поэты, вышедшие из тени на свет в самом начале 80-х, когда в экономике происходил обратный процесс: она потихоньку вползала в густую тень, из которой не полностью выбралась и сейчас. Мы засвечивались, как фотопленка, на солнце и приобретали новый облик. Лиризм был навязан сверху, от него шарахались, крестились кислотой, окуривались травою. Тогда же самые прогрессивные начали собирать грибы. Уже на второй год собирания грибы светились под листами и призывали грибников к себе. Лиризм охаживали барды. Окуджава был почти непереносим. Аккорд ре-минор вызывал судороги. Нужно было предпринимать какие-то действия против виноградной косточки, зарытой в землю. И они были предприняты.
Кто-то вспомнил, что давно не было новых литературных школ. Символисты, акмеисты, футуристы, соцреалисты… а дальше что? В головах произошел свой Беслан, и прозвучал динамитный взрыв. Константин Кедров придумал новую школу, но забыл предупредить, что места в поезде строго лимитированы, а вагон СВ уже укомплектован.
Об Алексее Парщикове писать легко, поскольку его поэтический язык содержателен и не представляет из себя набор просто приятных для уха звуков. Этот язык ставит ряд проблем, годных, пожалуй, для книги, а не для краткой статьи. В этих «проблемах» есть не только художественное, но и социальное измерение, которое, на первый взгляд к Алеше не очень подходит.
1
Метареализм как школа не полностью отрицает лирическое высказывание (см. например, стихотворение А. Еременко «Мы с тобою поедем на А и на Б» Или же «Я заметил, что, сколько ни пью, всё равно выхожу из запоя….») У Алексея Парщикова вы подобной откровенности не сыщете, хотя, находясь в Америке, он, кажется, пил сильно. Алеша являлся, скорее, инженером, он проектировал миры, которые не предполагали самокопания, и в этом есть дискуссионный момент. Из его стихов, особенно поздних, вы никогда не вычлените почвы и судьбы, которые «дышат». Вы встретитесь со многим: с дирижаблями, сомнамбулами, стеклянными башнями, землетрясением в бухте Це, но никогда не узнаете, что чувствует в данную стихотворную минуту Алексей Парщиков, как смертный человек. В этом есть не только альтернатива управляемому сверху лиризму, о котором было сказано ранее. В этом сказывается стальной корсет «Лэнгвидж скул», затянувшего в себя Алексея помимо отечественного метареализма. Американская «Языковая школа» пыталась «преодолеть» однозначность любого литературного высказывания, объявив войну реализму в самом широком его понимании. А лиризм с его болью, истериками, слезами, несостоявшейся жизнью и есть подобная однозначность, во-первых, и самый подлинный реализм, во-вторых. «Поэзия исчезает, если начать употреблять слова в их прямом значении. И если дать волю переносным смыслам (…) получатся нелепицы, наполняющие речи восточных политиков» (А. Парщиков. Сб. «Рай медленного огня»).
Алексей и предложил некий надлирический проект по строительству в языке и стихах новой вавилонской башни, чья ценность определяется принципиальным отличием от написанного другими.
У Парщикова этот переход в антилиризм (который можно назвать сверхреализмом или любым другим измом с приставкой мета) случился не сразу. Еще во времена начала 80-х из его стихов можно было вычленить по кусочкам самого автора. Это были скорее какие-то оговорки на основе прямого интимного высказывания, которые потом были вытравлены, как клопы, специальными лингвистическими средствами. В поэме «Деньги» он вдруг проговаривается о своем вечном безденежье. В «Двух гримершах» он описывает, по-видимому, искаженно и непрямо, эротическое похождение с двумя девицами, насколько я помню, вгиковками. Во всяком случае, автор тогда мне признался в этом элементарном загуле, и я посмеялся, насколько он загримировал любовные утехи в самом тексте все теми же метареалистическими спецсредствами, напоминающими задымления пиротехники.
Поэма «Новогодние строки» написана на основе реального события: Алеша, кажется, вместе с Ольгой Свибловой, работал Дедом Морозом и разносил по квартирам подарки, – была в советское время такая халтурка, когда надеваешь бороду и идешь за мелкие деньги поздравлять несчастных детей. Он тогда был потрясен всем этим, той бедностью и убожеством, с которыми столкнулся в московских домах. Но этого убожества вы не встретите в самом тексте, а найдете «ободок снегопада» и множество других образов, они корреспондируются с чем угодно, но только не деморализацией самого автора, участвовавшего в новогодней работе. Потом была монументальная «Полтава», вышедшая из маленького домика на Украине, насколько я слышал, без электричества, в котором жили летом Алеша и Ольга. По-моему, это были самые счастливые годы его жизни. «Я жил на поле полтавской битвы…»– этим все сказано. В более поздних текстах промелькнет вдруг необъятная кухня швейцарского дома, какие-то намеки на бытовые неурядицы… и все. Хорошо ли это? Наивный вопрос. Наверное, «хорошо», в том смысле, что отлито в уникальный литературный артефакт. Однако есть здесь своя оппозиция и вопрос, имеющий онтологический характер. Лирический поэт, несвязанный долгами с государством, воспринимает себя самого как проект Бога, большого абсурдиста и непредсказуемого механика. Алексей, кажется, никогда так себя не рассматривал, не предполагал, что проект, над которым он думает, есть он сам. Во всяком случае, не признавался в этом публично.
Он строил свой собственный мир, не принимая в расчет, что Бог тоже неслабый конструктор и в это время придумывает самого Алешу с его нелинейной судьбой, срывами, загулами, прорывами в инобытие и неизлечимой болезнью в финале. Впрочем, финал у всех одинаков. Судьба, она же провидение, мойра и фатум говорит через нас и через время, в которое мы погружены. В стихах же Парщикова, особенно поздних, вы этого времени не увидите. «По колено в грязи мы веками бредем без оглядки…»
Веками – это не время, а скорее, дурная бесконечность эпоса. К некоему новому эпосу он поначалу и стремился. Но этого ему показалось мало, и категория времени начала исчезать вообще. Эпическое время его «Полтавы» стремится к мнимой величине в главе «О происхождении оружия», вполне фантастической, выводящей нас уже к позднему Парщикову. Из исторического времени есть в поэме фраза Петра: «Где брат мой, Карл?..», любовная возня Мазепы с Марфой, державинский полет комара (впрочем, это уже «литературное время») и, кажется, все. Неудача с поэмой «Хрущев», задуманной в году 84-ом, была связана именно с этой проблемой. Можно сказать, что поэт погружался в вечность, где «времени больше не будет». А можно и сказать, что опрометчиво лишал самого себя одной из координат. Стрелку компаса заклинило, потому что если нет времени, то и с пространством происходят проблемы. Материальные объекты становятся величиной отрицательной (см. стихотворение «Минус-корабль»). В этом мог бы разобраться Эйнштейн, другой поэт от метафизики, но он занимался наукой и не влезал в версификацию. Возможно, что Парщиков работал с так называемой «обратной перспективой», свойственной иконописи, где близкие к зрителю объекты уменьшены, а предметы второго плана приобретают гигантские размеры. Однако то, что происходит с духовным космосом уже в прозаических отрывках, где лапидарно формулируются некоторые задачи автора, указывает не на «обратную перспективу», а на нечто совсем другое. Приводимая цитата Парщиковым из Рене Декарта об «отсутствии ума у животных» похожа на «минус-корабль», только это скорее «минус-сознание» в описываемом природном мире. – Если животные «лучше нас действуют, не доказывает, что у них есть ум, ибо по такому расчету они обладали бы им в большей мере, чем любой из нас (…) Это доказывает скорее, что ума они не имеют и природа в них действует согласно расположению их органов, подобно тому, как часы (…) показывают и измеряют время. » Обратим внимание на «механистичность» этой цитаты, где ум каким-то образом заменяется часовым механизмом. Вообще, статья под названием «Нулевая степень морали» как-то корреспондируется с мнимым временем его поэм, минус-пространством, минус-объектами и минус-умом, хотя бы и у животных. Вот цитата из этой же статьи, вполне, кстати, идеологическая и определенная: « Мы жили в нейтральном мире, постгуманистическом» (…), где «основное событие – Голгофа уже позади, а впереди только Страшный суд. И пока в Аду или Чистилище идут активные действия (…), контингент Лимба предоставлен как бы самому себе или оставлен «на потом».
В Лимбе, по Дантову откровению, томятся души некрещеных младенцев и добродетельных нехристиан. Таким образом, все человечество, во всяком случае, современники Алексея приравниваются к этим некрещеным младенцам, не увидевшим «свет». Римский Папа, кстати, относительно недавно поставил Лимб под сомнение, и в католическую космогонию он уже не входит. В этом отрывке интересно еще и то, что поэт не отрицает Распятие и Судный день как исторические события. Но между ними для Парщикова – дыра, прореха. «Впереди только Страшный суд…» Слово «только» указывает на несущественность всего остального, из чего складывается биологическая и историческая жизнь отдельной личности. Естественно, что эта пустота с «нулевой степенью морали» людей, «оставленных на потом», должна быть чем-то заполнена хотя бы на уровне чисто поэтическом. И здесь заливается фундамент, разбиваются леса и начинает кипеть гигантская стройка.
Я часто думаю, что же Алеша проектировал, что строил. И мне приходит на ум почему-то невоплощенный Сталиным «Дворец Советов». Я не знаю, чья фигура должна была быть на пике этой литературной башни, может быть, поэта А. Драгомощенко, его Парщиков, по-моему, ценил больше всех других, во всяком случае, в конце 80-х. Башня в Алешином сознании росла и превратилась в целый архетип. Если комар из «Полтавы» просто стремится в небо, но летает слишком низко, то поздние «Дирижабли» парят уже столь высоко с самим Алексеем на борту, что толпа людей под ними сливается в большую пемзу. Его «Стеклянные башни» оттуда же. В раннем Парщикове есть поразительная метафора, которая заставляла меня в свое время цепенеть:
Хоть ты, апостол Петр, отвори
Свою обледенелую калитку.
Куда запропастились звонари?
Кто даром небо дергает за нитку?..
В этих строках, кстати, есть еще нерв, связанный с тем же интимным волнением, который называется лиризмом. Когда лиризм ушел, куда-то испарился и нерв. Башня уже начала строиться, но пока была лишь архаичной христианской колокольней с колоколом, который Парщиков сравнил с небом. Потом колокольня трансформировалась в стеклянную башню и, наконец, уже вполне сложившаяся конфигурация дирижабля окончательно взлетела в небо, но так и не приземлилась.
Он понимал «знаковую литературу» 80-х как создание инженерного мифа. Помню, он был потрясен «Розой мира» Даниила Андреева, когда книга ходила в списках. В понятии Андреевского трансмифа ему почудилось что-то свое. Мы оба зачитывались Кастанедой. Но боюсь, что и там Алеше почудился все тот же инженерный трансмиф. «Боюсь» – это, конечно же, неточное слово. Обе книги я рассматривал как «объективную реальность», только принимающие органы у обоих авторов были разные. Парщиков же уходил от подобной оценки, она казалась ему несущественной перед той «литбашней», которую воздвигли два человека из разных культур.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































