Текст книги "Комментарии"
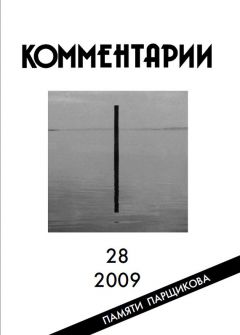
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Михаил Эпштейн
Космизм и приватность. Памяти Алексея
Если бы у душевной жизненности, живоприимчивости, животворности была своя биологическая мера, Алеша пережил бы всех. Он был наделен разнообразными дарами, и не любительски обширными и смазанными, а с твердой хваткой мастера каждого дела. Не только поэзия, которая его и прославила, но и эссеистика, и фотография, и жанр переписки, и самый драгоценный и все более редкий дар дружбы: крупной, вдохновляющей, сотворческой. Он делал людей счастливыми одним своим присутствием и разговором. Рядом с ним все двигалось быстрее, и все становилось возможным, и самые странные идеи и фантазии можно было потрогать, они становились явью, он рассеивал вокруг семена иных миров, вещи вспучивались, слова плодоносили. Причем в нем не было ничего от мессии, пророка, диктатора: он не требовал признания и подчинения, он просто разбрасывал, дарил, делился. Точнее, он просто был, но так, что его бытие становилось событием для всех, кто с ним соприкасался. Это была закваска, от которой начинало бродить любое сколь-нибудь восприимчивое существо.
И сколь многое в нас, его знавших, навеяно одной только возможностью что-то с ним обсудить, поделиться, услышать его мнение. Одним невзначай брошенным словом он мог определить вещь точнее, чем сорок тысяч критиков и -ведов. У него был абсолютный вкус на все образное, словесное, пластически-визуальное, причем вкус не просто оценки, а вкус подсказки, расширяющий, достраивающий, конструктивный. Он довоображал чужие вещи, стихи, картины, здания, города так, что они становились фрагментами его собственных, еще не написанных вещей, гораздо более интересных и фантазийных, чем предметы его оценок. Всему, что он видел, он был сотворцом, причем он не переписывал, а дописывал, не исправлял, а достраивал. В нем играл дух Сковороды, совопросника и домысливателя встречных. Он был поэтом не просто метафоры, но метаморфозы, метаболы. Он видел и показывал не только сходства вещей, но их бесконечную взаимопричастность и взаимопревращаемость, и это же чувствовалось в его отношении к людям: он вступал с ними в образно-творческий симбиоз.
Есть поэты времени и поэты пространства. Первые не только отображают время, они меняются вместе со временем, прокладывая путь своему лирическому герою. Таков Блок: через его циклы, через три его поэтических тома проходит история человеческой души. А вот Тютчев, например, как поэт почти не менялся, а лишь бесконечно раздвигал границы предзаданного ему космософского мира судеб и стихий. Алеша тоже был скорее поэтом пространства: через все книги он развертывал свои изначальные интуиции и архетипы, среди которых на первом плане, мне кажется, Бегемот и Левиафан из Книги Иова. Вспомним, что на все вопли Иова о нравственной несправедливости, о страданиях праведников и преуспеянии нечестивых Бог отвечает не проповедью и не заповедью, а картиной величественного и вместе с тем поразительно детального, расчлененного мироздания, в котором есть место дивным чудовищам, первозданным в своей мощи. В этом, собственно, и состоит заповедь: от неразрешимых нравственных вопросов, от древа познания добра и зла вернуться к цельному древу жизни. Алеша был именно поэтом древа жизни, его влекла не столько психология и этика, сколько космософия, распахнутое от Бога до амеб мироздание, которое не центрируется на «человеческом, слишком человеческом». Своему «Выбранному» он предпослал высказывание Леонардо да Винчи вполне в духе Книги Иова: «Опиши язык дятла и челюсть крокодила».
Поэзия Парщикова, да и метареализма вообще, кажется трудной для восприятия, но в этом виновата не столько ее сложность, сколько примитивность нашего мышления, разделяющего вещи квадратно-гнездовым способом по их практическим функциям. Вот как начинается стихотворение «Борцы»:
Сходясь, исчезают друг перед другом
терпеливо —
через медведя и рыбу – к ракообразным,
облепившим душу свою.
Читатель в недоумении: борцы, арена, спорт, чемпионат – ассоциативная цепочка уже готова; а причем тут ракообразные? Но в том-то и дело поэзии – расковать эти металлически жесткие цепи готовых ассоциаций, освободить ум и зрение. Чтобы мы увидели просто и ясно, как борцы становятся медвежисто разлапистыми, сплющиваются, как рыбы, и дальше, сцепляясь, превращаются в раков, медленно переползающих взад и вперед, топорщась локтями и коленами; как они облепляют друг друга руками и ногами, многочленно, многосуставно, как раки. Перед нами – картина метаморфозы, единства и взаимопревращаемости всего живого. Прообраз и источник поэзии Парщикова и вообще метареализма – завершающая часть Книги Иова, где Творец мироздания выступает и как его первопоэт.
Алеша был поэтом космическим, а человеком глубоко и неискоренимо приватным. При том, что он всегда был окружен друзьями и легко входил в любое сообщество, это было не общество, а именно со-общество, несущее в себе дух стихийного братства, умного застолья, «платоновского пира во время чумы». Поэтому, как ни странно, именно на «чуму», т.е. застойные и выморочные годы, конец 1970-х – начало 80-х, пришлось самое веселое и пиршественное время его жизни. Потом поэзия и вообще культура стала выходить из подполья, обретать общественный статус, обзаводиться своими изданиями и издательствами, галереями и сценическими площадками, своими шеренгами и табелями о рангах. Казалось бы, вот оно, Алешино время, когда харизма неформального лидера могла бы перелиться в общественный статус и материальную обеспеченность.
Но не сбылось. В отличие от своих соперников по поэтическому подполью, концептуалистов во главе с Д.А.Приговым, Алеша и другие из сообщества метареалистов – А.Еременко, И.Жданов – не стали осваивать новые площадки, а тихо разбрелись или даже попросту замолчали. Концептуалисты недаром так прицельно работали с социальными кодами в эпоху коммунизма – они и в посткоммунистическую эпоху оказались вполне социальны, но уже не как «отщепенцы», а как востребованные зачинатели постсоветской культуры. На этом переходе от сообществ к обществу, без сплачивающей тайны дружеской со-причастности, в голом поле новой социальности, – Алеша отстал, точнее, отошел в сторону. Этой стороной оказалась Америка, куда он приехал на рубеже 1980-х – 90-х в качестве аспиранта Стэнфорда. Казалось бы, все складывалось в его пользу: неподдельная любовь к английскому языку (он до конца жизни писал мне иногда письма на чудесно-чудовищном английском, изобретательность которого соперничала только с его же искаженностью); дружеские связи в авангардной художественной среде; взаимные с коллегами переводы (в частности, Алешу на английский переводил Майкл Палмер, один из известнейших американских поэтов); раскрепощенная, студенческая, богемная, райская Калифорния; один из самых богатых и престижных американских университетов…
И – не сложилось. За все тридцать три года нашей дружбы я никогда не видел его таким подавленным и «обесцвеченным», как в Сан-Франциско, в первую встречу года два спустя после разлуки в Москве. Это был черно-белый вариант всегда многокрасочного, искрящегося Алеши. Он объяснял свое состояние давлением академической среды – не вообще, а именно там, где он «состоял» аспирантом. Его, находившегося в дантовской «середине жизни» (35 лет), уже сложившегося и гениально одаренного поэта, шпыняли как мальчишку, впрягали в стандартные академические программы, требовали успевания от сих до сих. Он-то надеялся на штучное к себе отношение, но для некоторых профессоров и кафедр славистики русская литература кончилась на Серебряном веке, для иных, чуть более прогрессивных, на Пастернаке и Мандельштаме, – а кто такой Парщиков?
Ирония состояла в том, что курчавый, с выразительной лепкой лица Алеша когда-то проходил пробы на роль Пушкина в несостоявшемся фильме Хуциева, – а теперь он оказался отчасти и в социальной роли Пушкина – не придворного, а прикафедрального камер-юнкера, вынужденного проходить через суровые академические ритуалы вместе с оравой юнцов. Невероятная, душераздирающая кротость Алеши, при всей его внешней браваде, сказалась в том, что темой для своей магистерской диссертации он выбрал творчество Д.А. Пригова («Dmitrii Aleksandrovich Prigov’s Poetry in the Context of Russian Conceptualism», МА degree, 1993). И написал о нем очень дельно, с той ровной симпатией и интересом, которая подобает академическим штудиям, добавив к ним свое великое интуитивное понимание поэзии и поэтики и не добавив ни капли язвительного, ревнивого чувства, не воспользовавшись своей метапозицией для критики столь чуждой ему стилевой системы. Но став к 39 годам магистром, т.е. отстав примерно на 15 лет от среднеуспешных американских студентов, будущих славистов (в том числе и исследователей русского постмодерна и метареализма), Алеша счел за благо не двигаться дальше и соскочить с социальной лестницы, т.е., опять-таки, отойти в сторону.
Такой стороной, уже последней и самой продолжительной в его жизни, оказался Кельн, куда к тому времени переселились из Киева его родители. Здесь, вдали и от российских литературных бурь, и от американских академических гонок, в совершенно чужеязычной, почти инопланетной немецкой среде, Алеша нашел ту приватность, семейную и дружескую, к которой, как оказалось, и был предназначен. Теперь друзья приезжали к нему, не втягивая его ни в какие общественные игры и обязательства, напротив, сами освобождаясь от них, пока пребывали в Кельне, под Алешиным кровом. Теперь чистое вещество дружбы окончательно отделилось от вязкого вещества социальности – а ведь их так легко смешать! Неформальное, творческое, вкусовое, собеседное, вне-местное сообщество, в сердцевине которого по-прежнему был Алеша, вышло из состава всех на свете обществ, и в этом была его жизненная победа, суммировавшая столько социально-карьерных неудач.
Мне никогда не встречались люди, столь наделенные даром светскости и общительности – не какой-то пьяной, застольно-подстольной, а самой светлой, рассудительной и вполне светской общительности, – которые в такой степени были бы неспособны превратить ее в нечто общественно престижное, извлечь из нее материальную или символическую выгоду. Казалось, что Алеша может стать главредом литжурнала, ведущим популярного телешоу, председателем Союза писателей, даже министром культуры – у него на все это хватило бы обаяния, общежительного ума, разговорного блеска. Но он остался сыном своих родителей, любимым своих любимых, другом своих друзей, сочинителем своих стихов, созерцателем своих сновидений.
Алеша любил разговоры о талантах и о творческих удачах, о serendipities, нечаянных находках и угадках, обо всем, в чем искрится даровитая несообразность жизни, невместимость в законы. Он не любил драматизировать мир, видеть в нем антагонизм, борьбу, трагедию и катарсис. Его видение было примирительно-эпическим: конечно, не таким цельно-всеобъемлющим, как у Гомера, но подчеркнуто и честно фрагментарным. Эпическая картина мира распалась, но насколько ее можно было удержать во фрагментах, Алеша держал. Его влек не столько большой космос, сколько множество микрокосмов, свернутых в себя и вместе с тем открытых метаморфозам: лягушки, пауки, удоды, лиман, антрацит, залив, бухта Це… Для него космичен был черный сом: «в воде он вырыт, как траншея…. он весь, как черный ход из спальни на Луну». Алеша был космическим поэтом микрокосмов.
Причем для него не было разницы между культурой и природой. Точнее, разница была, но подчеркнутая лишь настолько, чтобы сильнее ее перечеркнуть. Его темой была именно природность (животность, первозданность) культуры и культурность (техничность, инженерность) природы. Так он понимал причудливость мира и его чудотворность: поплывешь в Индию, откроешь Америку. Заглядишься на природу – найдешь в еже сито, в удоде электроды, а в винограде – аквалангиста:
Душно в этих стенах – на коснеющем блюде впотьмах
виноградная гроздь в серебре, словно аквалангист в пузырях.
Алеша внес в русскую поэзию бесконечную сцепчивость, гирляндность, космическую протяженность образов-метаморфоз. Но он был не только метареалистом, но и презенталистом, и ценил в поэзии именно так обозначенное свойство: представлять вещь как настоящую, данную здесь и сейчас, во множестве углов, положений, проекций, но строго и зримо, без символической размытости и абстрактности.
Вот две его строки, одновременно первобытно-эпические и сверх-авангардные:
А что такое море? – это свалка велосипедных рулей, а земля из-под ног укатила.
Море – свалка всех словарей, только твердь язык проглотила.
Языки волн напоминают о многоязычных словарях, о волнистых рулях велосипедов, заполнивших все мироздание до горизонта. Такова эпичность 21-го века: взаимопронизанность биологической, семиотической и технической эволюции. Если это и «метафоры», то не более чем такие научные концепты, как «язык генов» или «искусственный интеллект». И Алеша был одним из первых, кто сумел найти для этого синтеза новый поэтический язык.
И столь же творчески-примирительным, открытым синтезу, был Алеша не только в собственном даре, но в отношении к чужим дарам. Эгоцентризм – своего рода профессиональная болезнь писателей и художников. Подобно матерям, они сосредоточены на своем чреве, вынашивающем очередной плод. Но есть и такие редкие личности, которые соединяют в себе черты матерей и акушерок, они способны не только рождать свое, но и радоваться чужому, помогать его рождению. Алеша был такой акушеркой большого, географически разбросанного, «метареального» сообщества поэтов, художников, вообще талантливо живущих и мыслящих. Оно было даже более обширным, чем концептуалистское, которое центрировалось вокруг Д. А. Пригова и было более жестко организовано (московская «нома») и медийно освещено. Зато метареальное было более разнородно, международно, и объединялось не общими программными установками, а «семейными сходствами» (по Л. Витгенштейну). Есть отдельное сходство между А и Б, между Б и В, между В и Г…, а между А и Т уже вроде нет никакого прямого сходства, но по линиям плавно перемещающихся сходств они все взаимопричастны, как члены очень большой, разъехавшейся по миру семьи. В эту «витгенштейновскую» Алешину семью входили В. Аристов, И. Ганиковский, А. Давыдов, А. Драгомощенко, Е. Дыбский, А. Еременко, И. Жданов, Ю. Кисина, И. Кутик, А. Иличевский, А Левкин, Р. Левчин, В. Месяц, В Салимон, С. Соловьев, В. Сулягин, А. Чернов, И. Шевелев, Т. Щербина – я называю далеко не всех, и в разной степени близких, да и неизвестны мне полные ее очертания. Алеша вникал в то, что происходило в чужих мастерских, водил даже самых нелюдимых друг к другу, показывал, объяснял, додумывал, восторгался, заражал своим восторгом зрителей и исторгал новые творения у творцов. Именно его бытие-в-сообществе ставило его особняком даже внутри сообщества. Ведь сообщества состоят из личностей, творчески более или менее замкнутых, и сообществом они становятся только потому, что среди них находится один, двое, редко трое – сообщников всем и каждому. Алеша был как раз таким редчайшим все-сообщником, из которых сообщества и возникают, он был его соединительной тканью, смыслообразующей приставкой со-.
Есть два рода талантов: одни тебя подавляют своим блеском и величием, лишают дара речи; другие, напротив, раскрепощают, развязывают язык и воображение, не уменьшают, а увеличивают тебя на свою же величину. Алеша был такой талант: не вампир, а донор… Алеша был не просто талант, он был гений, который к тому же еще и сумел талантливо себя реализовать. Без потной саморекламы, без фанатического рвения и натужных амбиций.
Алеша вообще не программировал своих творческий достижений. Он не был машиной для письма, софтвером для метафорических композиций, каким его иногда представляют. Мне кажется, что Алеша потому и не форсировал своих художественных даров, что эти дары не умещались в известные формы художества. Он жил художественно, видел, говорил и мыслил художественно, и все это не умещалось в тексты. Этим он сильно отличался от многих профессионалов слова, даже поэтов, которые целиком в словах – и за их пределом ничего собой не представляют. Как ни талантливы Алешины тексты, сам он был еще талантливее. Вне текстов его было даже больше, чем в них. И при этом его вкус был достаточно классичен (кто-то скажет, «старомоден»), чтобы не превращать свою жизнь в еще один текст, некий перформанс, который впоследствии легко подверстается к собранию сочинений в виде картинок и фотографий программных акций. Он проходил узким путем, не умещая свою жизнь в тексты и одновременно не превращая свою жизнь в сверхтекст.
Я никого не хочу умалить этим сравнением – есть много разных и достойных художественных стратегий. Я лишь хочу подчеркнуть, насколько путь Алеши был редок и насколько его «стратегия» (совестно так ее называть, только кавычки и выручают) была необычной на фоне двух крайностей: 1) жизнь художника не значит вообще ничего, значимы только тексты, а за их пределом можешь быть «ничтожнее всех ничтожных»; 2) жизнь художника – важнейшая часть создаваемых им текстов и должна исполняться как роль, как перформанс, должна быть документирована и войти в состав «наследия».
Но именно потому что Алеша был больше своих текстов и вместе с тем сам не превратил этого «большего» в надтекст, такая задача выпадает нам, знавшим его. Этот преизбыток художественной личности над текстом может стать мифом, вырасти в посмертную легенду, в систему сверх-знаков, как бы продолжающих и вольно досказывающих то, чего не успел сказать сам художник. Так было на нашей памяти с Венедиктом Ерофеевым… Может статься, что и Алеша на наших глазах уже врезается в разряд преданий молодых. Без «наскоку» (как у Пастернака о Маяковском), но с тем жестом плавности (эпической и одновременно юмористической), который был ему свойствен. Во всяком случае, его вопрос: «Как нас меняют мертвые? Какими знаками?» (из «Мемуарного реквиема») – теперь нацелен уже прямо в нас. То, как он меняет нас уже после своей смерти, и становится художественным мифом, как купольной настройкой над прозрачными лесами его незавершенной словесности.
Алеша не успел примерно столько же, сколько успел, и от этого – двойная боль: утрата будущего. Я представляю, как гениально бы он старился, какими видениями новых, непрожитых своих возрастов обогатил бы свою лирику; какой грандиозный эпос, быть может, поэтико-эссеистический, «дантовский» синтез, создал бы на склоне лет! Он умер на подъеме, летящим, и нам остается смотреть ему вослед и довоображать мир по тем вспышкам-траекториям, которые он для нас прочертил.
Аркадий Драгомощенко
Алексею М. Парщикову
воскресенье, 10 мая 2009 г
Я не верю, что так все закончилось, вообще не верю, нет.
Там никогда ничего не заканчивается, там – море воздуха.
Там, если ты хочешь быть с ней навсегда, ничего страшного,
Поскольку страшного нет вообще, есть одна нищета, а в ней
Ничего страшного нет, ничего страшней нет того, что страшно,
Как и любовь, которая ниже всех нищих, всех ниже всего,
Но счастье в другом, не в том, чтобы быть безумным, но
Чтобы казаться, но быть в это же время безумным, который
При случае скажет, что нет ничего слаще на свете быть идиотом.
На этом закончим, потому что у всех тех, кто смотрит на нас
Низко посаженные глаза, они великолепны в гипсе поз и речи.
Близко посаженные глаза, длинные гипсовые рукава,
Руки медленны, исчезают из взгляда. Легки на уходе крови и
После реплики. Кто учил их мастерству прямой речи? В которой
Ни слова о том, как хвоя прикипала к плечам, когда их не было
Изначально, и не будет, поскольку будут дирижабли Парщикова
Его стада, и мои диоптрии, адреса, телефоны, и никакой нефти.
Марк Шатуновский
Практический метареализм Алексея Парщикова
Ни подводить итоги, ни писать об Алексее Парщикове в прошедшем времени нет никакого смысла. Он до сих пор не прочитан, не усвоен и не включен в наш культурный контекст в доведенных до автоматизма ассоциативных навыках. Он все еще наш резерв – резерв развития и расширения актуальной для нас гиперреальности. И не только развития и расширения гиперреальности, но, что особенно важно и ценно, выхода за ее границы и соприкосновения с самой реальностью.
Непосредственное соприкосновение с реальностью – вот что особенно привлекало моих товарищей, наш поэтический пул. Не стану перечислять имена. Это всегда сопряжено с личными предпочтениями. Совершенно очевидно – Алексей был одной из центральных и безусловных фигур этого пула.
Но особенность нашего интереса составляло то, что он выходил далеко за пределы той куцей и обкорнанной действительности, которую нам навязывал господствовавший тогда реализм и в еще большей степени узкорамочный идеологизированный соцреализм. Мы не представляли себе соприкосновения с реальностью вне всей ее полноты, выходящей далеко за пределы нашего человеческого разумения, даже если это разумение опрокидывалось в результате такого соприкосновения, и мы оказывались в окружении плохо поддающихся интерпретации явлений и фактов.
Трудно интерпретируемая или вовсе неинтерпретируемая реальность особенно вдохновляла Алексея. Пожалуй, он первым почувствовал, что постоянное присутствие в ней твердого осадка, нерастворимого и потому неподдающегося интерпретации – это и есть ее основное свойство. И если мы хотим иметь дело с собственно реальностью, мы должны включать в свой опыт присутствие этой неинтерпретируемости, а не пытаться всеми силами отделаться от нее, расшифровать, а на деле подменить притянутыми за уши спекулятивными объяснениями, как это делали доминировавшие культурные традиции.
Не до конца интерпретируемая – это ничуть не пугало Парщикова. Наоборот, он торжествовал. Его воодушевляло, что мир больше того, что мы можем вместить в себя. Интонациями воодушевления и энтузиазма пропитаны его стихи. У них всегда приподнятый градус, температура выше нормальной. Не настолько высокая, чтобы убить, но достаточная, чтобы вместе с читателем приблизиться к пограничному состоянию, не столько к бреду, сколько к визионерству, граничащему с бредовыми идеями, из которых вырастают глубинные прозрения, посещающие нас, когда известные нам предметы теряют свою обособленность и начинают перетекать друг в друга.
Пограничные состояния, точки перехода из одного качества в другое – вот что находилось в центре его внимания. Обыденность мало привлекала его. Но стоило ей прийти в движение, возбудиться, сдвинуться с привычного места, и он уже не мог оторвать от нее влюбленных глаз, как это было в раннем программном стихотворении «Землетрясение в бухте Цэ», где он готов пристально, даже прилежно фиксировать все подробности такого возбуждения. Здесь уж он с максимальной тщательностью подбирал определения этой взбрендившей обыденности. Она «передергивалась» у него «как хохлаткина голова». И его точность была сродни полной неожиданности. Она переступала саму себя подобно сапогу, который в этом же стихотворении переступал своего владельца. Переступала границы назойливого здравомыслия и мировоззренческого рационализма.
И тогда он легко мог впасть в анимизм и увидеть причину землетрясения не в коллапсе подвижных платформ земной коры, а в конвульсиях любовного соития на первозданном морском берегу превращенной им в гигантского ископаемого кузнечика «немолодой пары» – «то ли боги неканонические, то ли таблицы анатомические». Можно подумать, что именно это-то и противоречит реальности. Мы-то знаем, что на самом деле вызывает землетрясения. И такие перестановки, казалось бы, должны ни только не способствовать выходу за пределы гиперреального, но, как в песок, еще глубже зарывать в него.
Как раз в этом и состоит главное заблуждение прилежных рационалистов и логиков. Потому что реальность – это совсем не то, или, точнее, не совсем то, что мы можем отстраненно обозреть с высоты птичьего полета, хотя бы по той простой причине, что не можем подняться над «горизонтом вещей», поскольку сами вещественны, предметны, сами представляем собой фрагменты этой реальности. Нам никогда до конца не оторваться от нее, а потому мы не можем выступать по отношению к ней как полноценные контрагенты.
Для соприкосновения с реальностью недостаточно того, что вне нас, поскольку реальность продолжается в нас. И чтобы соприкоснуться с ней, в не меньшей степени требуется не только то, что вне, но и то, что внутри. А поэтому местами размываются границы. Ведь если мы сами реальны, а мы реальны, то и наше «внутри» столь же реально, как и то, что «вне».
Так становящееся реальным «внутри», превращается во внешнее по отношению к нам, выворачивается наизнанку, как сейфы у Алексея Парщикова в стихотворении «1971 год» – «вспухли и вывернулись» засыпанным в их стенки песком, превратившись в пляж, «на котором, ругаясь, мы загорим». И если не видеть этого выворачивания наших интуитивных внутренних мотиваций во внешнее по отношению к нам самим же, а известных нам «объективных» причин – в наши внутренние дисциплинарные и дисциплинирующие рефлексы, никакого соприкосновения с реальностью не получится. Внешнее в отрыве от внутреннего, как и внутреннее в отрыве от внешнего, всегда остаются в рамках гиперреального.
Вот такое выворачивание наизнанку и обратно было предметом описания Алексея Парщикова. Потому что только в момент «выворачивания» мы соприкасаемся с реальностью. И в этом плане «самозабвенная чета», – еще раз обратимся к «Землетрясению в бухте Цэ», – занятая тем, что «он в ней времена заблуждал, трепеща», равноправна в потенциальной тектоничности своего соития со смещением земной коры.
Но не ради подобных символичных знаков равенства писал свои стихи Алексей. Символическое никогда не являлось для него самоцелью. Оно выступало лишь в качестве предлога для возникновения текста и было для него подобно признакам, по которым геологи отыскивают в недрах нефть, руду или другие полезные ископаемые. Ведь символическое всегда возникает там, где пропущено звено трансформации, где имеют место два плана бытия, но сцепка, обеспечивающая выворачивание одного в другой и обратно, пропущена.
Именно ощущение такого зияния передано Алексеем в не менее программном стихотворении «Минус-корабль». Пристально, до рези в глазах, вглядываясь в «стрелочки связей и все случайные скрепы» и «на заднем плане изъян», который «силу в себя вбирал», сквозь типологию символического, сквозь сбои в гиперреальном, он дотягивался до собственно реального. Этот «минус-корабль» и был метафорой той недостающей сцепки, в отсутствии которой безжизненный пейзаж, совмещающий архетипическую пару – небо и землю, дуалистически разделенную линией горизонта, всегда остается в рамках гиперреального. Вот для чего понадобился Алексею «минус-корабль» – для восполнения этого в буквальном смысле изъяна и разрушения невозмутимо абстрактной линии горизонта, дабы восстановить связь между искусственно разделенными планами бытия и через эту связь воссоединить их с реальностью. И это присутствовало практически во всех его стихах.
В объемных и нарядных «Новогодних строчках», где он демонстрировал новый для себя качественный уровень владения материалом, снова два плана – символическая условность карнавальных персонажей и узнаваемая в своей бытовой достоверности действительность. И центр их совмещения – лирический герой. Если прибегнуть к терминологии самого Алексея, лирический герой здесь – «плюс-корбль» в маскарадном костюме Деда Мороза, физически ощущающий издержки своего двусмысленного положения вплоть до: «Мне щеки грызет борода на клею».
Синхронно написанию «Новогодних строчек» Алексей увлекался барокко, в основе эстетики которого заложена обреченная на неудачу попытка тотального распространения гиперреального, выразившаяся в свое время в строительстве буколических деревень Марией Антуанеттой, ледяных крепостей Анной Иоанновной, в женитьбе карлов, переодевании слуг в сатиров и нимф, т.е. во всех своих избыточных ухищрениях превратить мифологическое в реальное, «раскавычить книгу» (термин А.Таврова).
Но не эти ухищрения занимали Алексея. Его лирический герой, скорее, хочет побыстрей снять костюм Деда Мороза, чем навсегда остаться в нем. В большей степени в барокко его притягивала наглядная ограниченность гиперреального, в полной мере проявившая себя в барочной эстетике, чей лейтмотив – это трагедия Щелкунчика, обреченного в дневное время суток превращаться в беспомощного деревянного болванчика, что особенно очевидно, когда в «Новогодних строчках» дело доходит до перечисления игрушек в мешке Деда Мороза. Здесь уже не нужно доказывать, что гиперреальное не больше себя и не может подменить собой реальности: «Кукольный полк. Трехчастный шаг. Отведи от них руку – сраженье спит».
Вот в чем состоит чудесная игра с гиперреальным. Приложи к нему руку, придай ему подвижности, и его уже не отличишь от реальности. Мы все, не особо отдавая себе отчет, играем в эту игру. И только Алексея завораживал не сам процесс игры, а момент приложения и отнимания руки, оживления гиперреального и тут же возвращение его в исходное неодушевленное состояние.
Едва ли не ради этого акта отведения руки от игрушки писались им его стихи. Ради наглядности преображения, когда то, что только что было исполнено жизни и содержания, вдруг превращается в бессмысленный и безвольный предмет. И гиперреальность становится равной самой себе. Вот почему этот акт и есть самое реалистичное из того, что нас окружает. Реальнее любых отстраненных и абстрагированных знаний, которые когда-нибудь обязательно дают сбой. Тем более, что все они – прямое продолжение этого акта.
Еще очевидней это становится в «Я жил на поле Полтавской битвы». В известном смысле – это масштабное расширение «Новогодних строчек». Здесь тоже два плана – синхронный и исторический. И здесь они тоже соединены лирическим героем, фактом его проживания на этом обозначенном в заглавии поле. И здесь Алексей продолжает играть в свою занимательную игру – прикладывать и отнимать руку от изобретаемых им игрушек, от чего его собственные стихи напоминают пушку, описанную в главе «1.2. Первая пушка»:
Первая пушка была рассчитана на любопытство врага
и число частей ее – по числу врагов.
Стихи Алексея тоже рассчитаны на наше любопытство, и число их частей равно числу их читателей. Потому что любой, подобно мне, без труда наберет в них цитат, чтоб проиллюстрировать свои собственные умозаключения относительно поэтики Алексея Парщикова. И это тоже фундаментальное свойство реальности – быть многочастной, вмещать в себя всех, несмотря на их разноплановость. Стихи Алексея изоморфны реальности, вариабельны, коррелятивны, а не избирательно концептуальны, как систематизированные знания.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































