Текст книги "Черный ветер (сборник)"
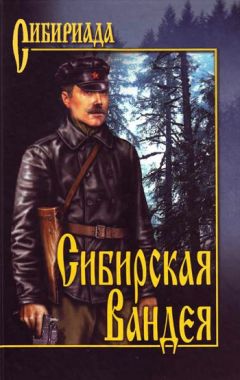
Автор книги: Кондратий Урманов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3
Варила обед и думала о записке. Пробовала в краюшку хлеба кусочек бумажки вкладывать – прорезь видна. А начальство тюремное – остроглазое, найдут, и тогда беда.
Наконец, когда обед уже был готов, стала резать мясо и вдруг заметила мозг. От догадки даже в жар бросило. Осторожно, чтобы не отвалилось мясо, вычистила кость изнутри, ватой протерла, вложила новую записку с сердцевиной карандаша и пробочкой, под цвет мозга, заткнула.
Опустила в суп – косточка потонула, вынула – пробка жиром покрылась, совсем незаметно заделанного отверстия. Торопливо нарезала хлеба, положила ложку и так же торопливо собралась.
– Надо бежать, а то опоздаю, не передадут, – бросила она на бегу Китовне. – Ты, бабуся, обедай тут, мне оставишь немного супу, и ладно.
Шла не оглядываясь, опустив голову.
Народ так же суетливо заполнял улицы, как и раньше.
Чтобы не встретить знакомых, Мария выбирала глухие улицы и торопилась, торопилась.
Тюрьма стояла на самом краю города: белая, крепкая – сотню лет стоит, а не старится. Деревянный частокол давно заменила высокая каменная стена с будками на углах для стражи.
За тюрьмой степь, – и как, должно быть, тоскливо глядеть из маленьких, решетчатых окошек в эти просторы!
Вышла Мария на последнюю улицу и у ворот тюрьмы увидела толпу женщин. Еще быстрее зашагала. Сердце учащенно билось.
Мимо тюрьмы пролегала линия железной дороги. Телеграфные столбы уходили в пустынную степь и вдали были похожи на цепь рассыпавшихся бойцов, наступающих на город.
Среди женщин три знакомые – жены членов исполкома. Поздоровалась с ними кивком головы и стала у решетчатых железных ворот, заглядывая внутрь ограды. Вразвалку, неторопливо ходили вооруженные люди. Дверь тюрьмы открыта, несмотря на мороз, и оттуда, как из бани, клубами валит пар. Прошел налево, в контору, начальник тюрьмы. Все тот же старый, что был при царе, – верный служака.
– Что, еще не скоро начнут принимать передачу? – спросила Мария у рядом стоявшей женщины.
– Давно уже пора, да черт их знает, крутятся без толку, а не принимают.
Вскоре пришел надзиратель, переписал застывшими руками фамилии всех и ушел в контору. Через полчаса вышел и почему-то первой выкликнул:
– Зайцева!
– Я, – робко отозвалась Мария.
– Кому передача?
– Мужу…
– Давай… Журавлева!
– Я…
Взял два узла и опять в контору.
– Иной раз и принесла бы горячего, так разве мысленно! – пожаловалась соседка. – Как почнут носить, как почнут носить – все остынет… И к начальнику, и к помощнику – всех обнесут, все переглядят, перепробуют, суп-то ложками переполощут… Беда!
Мария молчала. От ожидания лихорадочная дрожь пронизывала все тело. «А вдруг откроют? А вдруг найдут?»
Спокойнее почувствовала себя, когда тот же надзиратель нырнул в темноту двери тюрьмы с ее узелком. Теперь начало беспокоить другое: догадался ли Андрей?
Надзиратель вышел. Взял еще у двух и также пошел в контору.
Возвращаясь второй раз из тюрьмы, он вернул Марии и ее соседке узелки.
– Ножи и вилки, гражданки, носить не полагается, – буркнул он сквозь густые, пожелтевшие от табачного дыма усы.
Мария трясущимися руками развернула платок, – косточка вместе с ложкой лежала в чашке.
На квартиру бежала, казалось, еще быстрее, чем шла с передачей. Хотелось скорей узнать, читал ли? У калитки остановилась перевести дух и услышала, как в ограде Китовна бранилась:
– Ну куда прешь!.. Сказано тебе, дома нет!
– Андрей Иваныш нада…
– В тюрьме твой Андрей Иваныч…
– Ну, кожайка, кайда?
– Тьфу ты, окаянный! Согрешение с тобой! Дома нет, сказываю…
Мария отворила калитку. Возле Китовны стоял казах. Уши малахая были приспущены, но при первом же взгляде в лице показалось что-то русское.
– Вот тебе и «кожайка»… – сердито сказала Китовна. – Пристал… беда!..
– А-а… здрастваишь!
Китовна застыла на морозе и, кряхтя, пошла в избу. Тогда гость оглянулся и, снизив голос, спросил:
– Какие новости, Мария Семеновна? Вы что, Мальцева не узнаете!
– Неожиданно как-то… – вздохнула Мария. – Я даже испугалась…
Мальцев достал из-за пазухи конверт и сунул в руку.
– Передать бы нашим… Как там?
– Сидят крепко…
– Дня через два я у вас буду…
Сказал и заковылял стылыми скрипучими сапогами, покачивась из стороны в сторону.
В комнате Мария, не раздеваясь, вытащила из кости пробочку. Записка оказалась нечитаной.
Опустилась возле стола на стул и сидела окаменевшая. Как же, каким же образом подать о себе весточку? И не находила выхода, не знала, как подступиться к этой каменной клетке, в которой сидел Андрей с товарищами.
– Ты что ж, матушка, не раздеваешься? Раздевайся да обедай, а то суп простынет, – окликнула ее Китовна. – Ай что неладное слыхала?
За обедом вскрыла письмо Мальцева. На маленьком кусочке бумаги стояло:
«Крепись! По селам объявлена мобилизация, но большинство призывников попадет к нам. К пасхе ждите…»
Вместо подписи стояло: «Малица».
Даже это не радовало, слишком тяжела была своя неудача.
И ночью так долго плакала, что к утру разболелась голова и приковала на целый день к постели.
4
Яркие и погожие развертывались дни. По степи запестрели плешины проталин. Черными, грязными лентами лежали дороги. Близилась весна.
У Марии наладилась с мужем переписка: мозговая косточка оказалась надежным почтальоном. Сначала Андрей не верил, оставлял записки без ответа, а видно было, что читано. Мария сомневалась, думала, что это в конторе пересматривают. Потом пришла радость: на одной записке рукой Андрея было написано:
«Мы здоровы. Андрей».
Передала письмо Мальцева, – обрадовался, и обратная записка была вся покрыта ласковыми словами, на которые в совместной жизни Андрей был так скуп.
По городу лазутчиками, из дома в дом, перепархивали прокламации. Мария часто сама носила их к казарме и передавала знакомым солдатам под видом посылки.
Но после того, как в квартире Китовны, по распоряжению Полунина, был обыск, Мария стала осторожней. Все записочки мужа прятала так далеко, что нередко сама забывала, где они, и долго искала, чтобы передать советы мужа товарищам.
Из сел с каждым днем приходили все новые радостные вести. Призывники отказывались идти в армию белых, организовывались в партизанские отряды.
На четвертой неделе поста Шигарская волость объявила у себя советскую власть. Посланный отряд казаков был разбит. Тогда забеспокоился город. Было введено военное положение. С заходом солнца замирали улицы. Обыватели, плотно закрыв ставни и ворота, чутко прислушивались к отдельным сторожевым выстрелам. Паровозные гудки были жалобно-прощальными. Многим хотелось сесть и уехать от страхов туда, где спокойно и прочно течет жизнь, где, засыпая, люди не думают о выстрелах, о смерти.
Казаки, верные Полунину, охраняли город. Каждый день перед заходом солнца они группами уезжали в степь и возвращались утром.
Участились аресты. Тюрьма была переполнена. Редко теперь отворялись ее железные двери. Прекратился прием передач, и для многих, кто имел родственников в ее стенах, наступили дни еще горших мучений от ожидания страшного конца.
Мария почти не выходила из комнаты, только изредка по утрам бегала к тюрьме и смотрела в ее решетчатые окна, надеясь увидеть родное лицо.
Китовна, по давно заведенному порядку, готовилась к пасхе. Утрами долго крутилась возле печи и недовольно ворчала на Марию:
– Мое бы дело – на готовенькое. Стара стала, глаза плохо видят. Состряпала бы ты что повкуснее, на первый день пасхи отнесла бы Андрею Ивановичу – все не сухой кусок. Поди-ка, позволят передачу в праздник-то…
– Не знаю, бабуся, к чему готовиться: то ли к празднику, то ли к поминкам.
– Ну уж и к поминкам!.. Ты что это? Нешто на Полунине креста нет? Поди-ка, Андрей-то Иваныч для его ничего худого не сделал.
– Эх, бабуся! Борьба ведь, борьба!.. В таких случаях не жалеют… Да и какая жалость может быть у Полунина?
Но взгляд свой Китовне пришлось переменить, когда в четверг Мария принесла домой приказ Полунина, в котором духовенству, ввиду военного положения в городе, предлагалось все службы, в том числе и пасхальную, совершать днем.
– За власть свою испужался, окаянный, – ворчала Китовна, – а этого не знает, что бог, ежели не захочет, так не допустит переворота…
5
В первый день пасхи на город со степи надвинулись туманы и непроглядной мутью заполнили улицы. На колокольнях церквей звякнули было колокола пасхальным разливчатым звоном и смолкли.
По пустынным улицам верхами носились как угорелые казаки, прислушивались, приглядывались к каждому прохожему. Но еще больше заметались они, когда отряд, посланный третьего дня в Шигарскую волость, встретился с партизанами и, не приняв боя, вернулся назад. Сотни людей проклинали шигарцев и тысячи ждали их.
Во все концы была разослана разведка. Туман проглотил людей, а к вечеру они вернулись с пугающими вестями – партизаны окружали город.
Спешно грузились в поезда. Казаки дольше всех задержались в городе.
Ночь…
Беспорядочные выстрелы…
А рано утром Мальцев застучал в окно к Марии Зайцевой.
– Свой, свой! – кричал он. – Идемте Андрей Иваныча встречать. Их должны уже освободить…
Мария выдернула из сундука запрятанный красный платок, закрутила им расползавшиеся волосы и, перегоняя Мальцева, побежала к тюрьме.
Еще рассвет не совсем рассеял ночную тьму, а город уже ликовал. На колокольне досужий звонарь, вместо того чтобы звать молящихся к утренней молитве, отбивал веселую плясовую. Колокола непривычно захлебывались, но всё пели, выплясывали, выкамаривали…
Возле тюрьмы Мария влилась в огромное шествие. Шли под красным флагом и пели одну общую песню:
…Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут…
Шли, пели. Тревога ускоряла шаги.
Широко открылись тюремные ворота, чтобы принять в свою ограду эту тысячную вольную толпу.
Кто-то уже поднялся на каменную террасу у ворот и бросал в толпу радостные, зажигающие слова. Хотелось скорее знать последнее. И вдруг чей-то звенящий голос выкрикнул:
– Товарищей наших расстреляли!..
Смолк оратор, люди кинулись, заревели страшным, негодующим гневом.
Марию точно на руках поднесли к заиндевелым, брошенным в углу двора двадцати трупам.
Маленькая светленькая бородка, такая знакомая, родная, торчала кверху среди бритых обезображенных лиц. Показалось Марии, что Андрей запрокинул голову, лежит и смотрит в пустынное морозное небо. На мгновение так, а потом все качнулось, каменная белая стена закрыла сознание.
6
Поднялась Мария только на второй день. В обед подошла к ней Китовна, подала ковшик воды и шепотом сообщила:
– Полунин, говорят, опять на город наступает. Силищу несметную солдат пригнал, а за ими будто чехов поставил: ежели кто не хочет стрелять – башка долой…
Вскочила, словно радостную весть услышала, – жакетку ремешком подвязала, на голову платок – и на улицу.
В штабе беготня, шум, крики. Беспрерывно звонят телефоны. В дверях встретилась с Мальцевым.
– Ну что?
– Полунин… – он не договорил.
Где-то в стороне вокзала ахнул снаряд. В рамах звякнули стекла и посыпались на пол.
– Первый, – проговорил Мальцев, точно собирался считать подряд все выстрелы неприятельской батареи. – Вот… видите… Обороняться надо…
– Дайте мне винтовку…
Партизаны заняли оборону у станции, на резервных путях, где стояли побитые вагоны, и зорко следили за приближением темно-серой волны противника. На голой, ободранной, клочковатой степи было видно, как движется эта волна рядом с линией железной дороги. Из неприятельского лагеря слышались частые групповые выстрелы, но издали они казались треском сухого камыша под лапами осторожно пробирающегося зверя.
Мария стояла в цепи. В руках у нее была винтовка.
Темнело. Размеренно и строго над городом рвались снаряды. В северной части разрастался пожар.
Волна противника подкатывалась все ближе и ближе. Наконец, не получая ответного огня из города, ринулась в атаку кавалерия.
И тогда заговорил единственный партизанский кольт. В вечерней мути видела Мария приближающихся казаков и торопливо, один за другим втискивала патроны в узкое горло ствола винтовки.
Из-за вагонов кинулись в контратаку партизаны, и в их рядах пунцовым маком цвел платок на голове Марии.
Шла… И вдруг острая боль рванула правое плечо, потом ниже. Захлебнулась воздухом, качнулась и опустилась на стылую, еще не растаявшую землю. Винтовка выпала из рук.
…Партизаны отступили. За ними вихрем проскакали казаки, и вновь будто глухая тишина опустилась над городом. Мария откашлялась и, пересиливая боль, поползла к вагонам.
Китовна плакала. Не осуждала, не хвалила, а часто, стоя у кровати, утирала передником глаза и жалостливо глядела в почерневшее лицо Марии.
Однажды утром, вернувшись с базара, Китовна обрадованно подала клочок серой бумаги Марии:
– Сказывали, будто милость вышла насчет баб… которые за советскую власть… Стрелять не будут, а только наказанье маленькое.
Мария развернула бумажку:
«Приказ гарнизону города Н-ска и всему гражданскому населению округа № 16
27 апреля 1919 года
§ 1
Большевистские банды разбиты наголову…
§ 2
Я лично убедился, что в восстании большевистских банд в городе Н-ске принимали фактическое участие не только мужчины, но и женщины, позволяя себе производить стрельбу из-за углов, окон, с крыш и чердаков по нашим доблестным защитникам родины. До сего времени эти преступницы в меньшей степени оставались в стороне, не получив должного возмездия за предательство по отношению к родине.
Считаю совершенно неприменимым и слишком почетным расстреляние и повешение такого рода преступниц, а посему предупреждаю, что в отношении означенных лиц будут применяться мною исключительно розги, вплоть до засечения виновных. Более чем уверен, что это домашнее средство произведет надлежащее воздействие на эту слабоумную среду, которая, по праву своего назначения, исключительно займется горшками, кухней и воспитанием детей будущего, более лучшего, поколения, а не политикой, абсолютно чуждой ее пониманию…»
Прочитала Мария и тихо опустила бумажку на пол.
7
Как-то рано утром в комнату вбежала испуганная Китовна и бросилась к Марии.
– Трое… с ружьми пришли…
Мария не ответила, не пошевелилась.
Спокойно глядела на вошедших. Лицо одного было очень знакомо, но никак не могла припомнить, где видела. Высокий, тонкий. Длинный, острый нос точно налеплен на лице, острые черные маленькие глаза улыбаются.
– Не узнаете, товарищ Зайцева? Мы с вами встречались. Как же! В мясном ряду. Неужели забыли? Видите, как обернулось…
Стукнул винтовкой и сухо добавил:
– Одевайтесь. К господину штабс-капитану вас требуют.
Не ввели, а втащили в комнату. За большим столом сидели трое, посередине Полунин. Бритое лицо обрюзгло, налилось кровью. Он часто крутил головой, точно ему давил шею высокий воротник. На новеньком мундире поблескивали погоны.
Молодой прапорщик, сидящий рядом с Полуниным, оглядел Марию и, склонившись, сказал:
– Приказ номер шестнадцать к ней применить нельзя. Больная…
Полунин сморщил лоб и, не глядя на Марию, нервно бросил:
– На сей раз приказ о розгах отменяется для товарища Зайцевой. Мы ее отправим отдыхать… в сады аллаха… Вывести!..
Во дворе у стены густо окрасился кровью еще не растаявший снег. Казалось, что это не кровь, а слетевший с головы красный платок и что Мария вот-вот встанет и призывно начнет махать им, звать на борьбу тех, кто молчаливо и безропотно принял власть насильников.
Из полуоткрытых век с презрением глядели мертвые глаза.
Перекати-поле
…Было это в годину черную, кровавую.
Прихватили колчаковские атаманцы партизана-разведчика у большого озера Чаны. Скачут на него с обнаженными шашками, а парню податься некуда: в озеро полезешь – смерть и на берегу – тоже смерть.
– Ну, – кричит он врагам своим, – живым я вам в руки не дамся!
Припал за кочку и давай пощелкивать из винтовочки.
Одного сверзил с коня, другого, третьего…
Ладно.
Остановились белые: что за бесстрашный такой? Нас вон сколько, а он не сдается…
– Сдавайся! – кричат. – Все равно тебе смерти не миновать!..
И начали поливать партизана свинцом…
А он молчит да винтовку покрепче к плечу прижимает, на мушку беляков одного за другим берет.
Видит офицер, не получается у него правильного боя. Не взять им этого бесстрашного партизана, а между тем многие из его команды уже отправились на тот свет. Рассыпал он своих солдат в цепь и к озеру повел.
И тут, натурально, партизан понял – жаркая схватка будет. Припал он поплотнее за кочку и пошел обойму за обоймой распечатывать по белякам, даже ствол горячий стал…
Ладно…
Бил, бил – хватился, а в подсумке не то что обоймы – единого завалящего патрона не осталось.
– Эх, мать честная! Погорячился! Теперь бы как раз самому себя решить да дело с концом. Ну что делать?
Вскочил он во весь рост – думал, стрелит какой-нибудь солдат второпях и пронзит свинцом его горячее сердце.
Нет! Смекнули беляки, что у него никакого запаса не осталось, со штыками наперевес пошли.
И тут, натурально, офицер вперед вырвался.
– За мной!.. – кричит и шашкой в воздухе машет.
Только стал он подходить к партизану, а тот как даст ему по зубам прикладом, – ну, офицерик и с копылков долой.
– Теперь, – говорит партизан, – берите. Весь я тут, и жизнь свою не дешево вам отдаю…
Кинулись белые на партизана, кто руки крутит, кто норовит кулаком под вздохи сунуть, а кто, вроде бы нечаянно, штыком пырнуть. Шибко они расстервились на него…
Ладно.
– Повезем его к атаману, – говорят. – Он с ним побеседует…
Ну, привезли неизвестного партизана к Анненкову. Тот сидит, как на портрете: в черном мундире, на рукаве череп и две кости, а фуражка на затылок заломлена. Посмотрел он на партизана и говорит своим головорезам:
– Он сейчас в испуге находится, приведите вы его в память…
А те уже знают, как надо «приводить человека в память». Бросили они партизана на землю и давай шомполами да нагайками. Молчит! Забьют его до беспамятства, холодной водой окатят, он очухается, а про свои партизанские дела – ни слова, вроде бы онемел, речь потерял.
– Как твоя фамилия? – спрашивает Анненков.
Молчит партизан.
– Прибавьте ему еще памяти, – приказывает атаман.
Те опять начинают рвать тело партизанское.
– Где ваши полки находятся, сколько пулеметов, есть ли орудия? – спрашивает Анненков.
Молчит партизан.
Тогда атаман говорит своим подручным:
– Раскалите на огне десять иголок докрасна, я его заставлю развязать язык. Это средство испытанное…
Ну, раскалили одну иголку, в щипцах атаману подают. Он схватил ее и под ноготь в большой палец вогнал. Даже дымок маленький пошел и жареным мясом запахло, а партизан молчит. Загнал каратель вторую иголку в указательный палец, в глаза заглядывает, спрашивает:
– Ну как, чувствительно?
А партизан зубы стиснул, молчит. Может, у него душа последним огоньком догорает, а молчит.
Стал каратель третью иголку в средний палец загонять, – не стерпел партизан. Да и каждому из нас приведись такая мука – не стерпишь.
И говорит он своему истязателю:
– Ты, конечно, действуешь по инструкции и старания прилагаешь, чтобы, значит, тебя приметили и наградами не обошли. Только ты, видать, малограмотный человек и про старину нашу русскую ничего не знаешь. На Руси были такие люди, что не только раскаленного железа не боялись, но и огня…
– Однако ты заговорил, когда я стал третью иголку тебе загонять в палец…
– Это была моя оплошка. Опять же, я не Тарас Бульба – не той силы человек. Но все равно ты от меня больше никакого слова не услышишь… Отведи меня к самому Колчаку – я ему всю правду выложу – што, почему и как…
Ладно…
А в то время колчаковским армиям туго проходилось не только от нашей Красной армии, но и от сибирских партизан. До этого Колчак думал про себя:
– Вся Сибирь теперь под моим владением, войска мои Волгу перешли, а там и до белокаменной столицы – рукой подать. Въеду в Москву на белом коне, в царевы палаты зайду, на трон сяду, ну а тогда я покажу мужланам, какая есть свобода…
И не раз от таких сладких мыслей сердчишко у него прыгало, как бестолковый воробей. А дело-то по-другому поворачивалось: красные войска через Урал перевалили, по сибирской равнине разлились, на столицу его – на Омск – путь держат. Теперь бы все силы на фронт бросить, а тут партизаны в тылу, от них надо отбиваться.
– И почему это мужики недовольны моим правительством, свободой, которую я им даровал? Понять не могу…
Услыхал Колчак про бесстрашного партизана, приказывает:
– Предоставить мне его в лучшем виде. Может, что дельное скажет…
Анненковцы мнутся:
– Не можем, говорят, в лучшем виде предоставить его вашему превосходительству… Сами понимаете, перестарались маленько…
– Ну, давайте, какой есть…
Ладно.
Приводят партизана к Колчаку. Видит он, действительно «перестарались» атаманцы, человек еле ноги волочит. Отослал людей, спрашивает:
– Кто таков? Как фамилия?
– А тебе не все равно?
– У каждого человека есть фамилия. Знать мне надо – кто таков?…
– Перекати-поле…
– Такой фамилии не бывает. Это трава…
– А твоя фамилия чем лучше? – спрашивает партизан. – Кол – сади на кол, чак – башка долой. Самая палаческая фамилия…
– Ну, ты не очень распускай язык, а то напрочь его вырвут…
– Я знаю, – отвечает партизан. – Твои верноподданные и без фамилии отделали мою шкуру так, что теперь и на тот свет не примут…
– А почему «на тот свет?»
– Так ты же меня расстреляешь… Я еще не знаю такого случая, чтобы из твоих «клеток» живым человек выходил…
– Там видно будет, – говорит Колчак. – Правду скажешь – живым останешься.
– Ну, ежели так, за правдой у нас дело не станет… Я согласен. Только про што тебе рассказывать?…
– Ну, расскажи, – говорит Колчак, – как меня народ почитает…
Партизан передохнул и сказывает:
– Почтение в народе тебе маленькое – от кулаков деревенских да мироедов разных, которых мы можем в горсть зажать – и дух из них вон. А от трудящегося народа тебе только проклятия. Даже бабы наши ребятишек тобой пугают: «Нишкни, говорят, а то Колчаку отдам, он с тебя шкуру сдерет…»
– Экая серость! – говорит Колчак. – Я ночи не сплю, всё думаю, как мужицкую жизнь лучше сделать, а он вон что. Я – шкуродер, что ли?
– По видимости, – соглашается партизан. – У нас народ зря кличку не даст. Сам-то ты на это поганое дело, может, и не гож, так настоящих шкуродеров у тебя в достатке… Только бабы наши не правы, как я на тебя поглядел…
– Вот правильное твое слово, – обрадовался Колчак, думал, что партизан его хвалить станет. – Бабы ваши дуры, необразованные и никакого понятия не имеют…
– Што бабы наши необразованные – это верно, но они не такие дуры, как ты думаешь, – перебил его партизан. – Зря они тобой ребятишек пугают. Никакой страховидности я в тебе не вижу: што нос коршунячим клювом загнулся – это мало дело. Царя Николая под двумя орлами рисовали, а немудрящий был, не страховитый, хотя народ и много горя от него принял… А по умственности ему бы на дровяном складе сторожем служить…
– А ты почем знаешь, какой царь был? – спрашивает Колчак. – Ты в его дворцах не бывал и мудрости его знать не можешь…
Партизан даже привскочил:
– Как же это я не могу знать его цареву мудрость? Она у нас – рабочих да крестьян – на спинах расписана. И деды его, и прадеды писали ее, да и сам он свою кровавую руку приложил. И кличку от народа получил: кровавый… А ты говоришь! У него и всей мудрости-то было – кабаки, церкви да тюрьмы строить. На это он был горазд! Рабочему да крестьянину – куда ни повернись от нужды своей горькой да темноты смертной, – либо в церковь угодишь, либо в кабак, а то так прямо в тюрьму…
Припер партизан Колчака в самую точку, а тому сдаваться не хочется:
– Неверные, – говорит, – твои слова о царе-батюшке: он, дай бог ему царствие небесное…
– Это ему-то царствие небесное? – возмутился партизан, даже про раны свои забыл, так весь ходуном и ходит. – Это кровопийце-то царствие небесное?!. Ну, под пару же вы себе бога придумали! Ловкачи. Что ж, ежели-так, то я желаю и тебе скорейшего царствия небесного… Переселяйся в сады райские, а мы тут, на земле, как-нибудь без вас проживем…
Колчак своим коршунячим носом крутит от партизанской понюшки и опять про царя говорит:
– Он мученической смертью погиб…
– А те миллионы… на полях войны, которые… они какой смертью погибли? За что?
– За веру, царя, за отчизну погибли, – говорит Колчак.
– Ты, видать, у него учился народ околпачивать…
– А чем же я его околпачиваю? – воззрился Колчак.
– Про то ты лучше меня знаешь, долгая песня… Только удивительно мне: «народом, говоришь, управляю», а сам народа боишься, прячешься. Только палачи твои по городам да селам рыскают, кровь да слезы народные источают…
Побелел Колчак от злости:
– Не смей, – кричит, – говорить мне этого! Я – верховный правитель!
Он готов был разорвать партизана, да стыдно, – слово дал выслушать партизанскую правду.
– Нет у меня никаких палачей! – кричит.
– Это ты бабушке своей расскажи, – говорит партизан. – А не анненковские молодцы у славгородских мужиков кожу с плеч сдирали?
Молчит Колчак.
– Не они из живых людей кишки вытягивали да на кустах развешивали?…
Молчит Колчак.
– Не они детей мужицких огнем пытали? Не они брали малюток за ножки и били головками о печки?
Молчит Колчак.
– Не они мне три раскаленные иголки под ногти загнали и шкуру всю нагайками да шомполами порвали? Гляди!..
Молчит Колчак, и лицо его уже не белое, а синее стало.
– Не красильниковцы твои живьем людей в землю закапывали?
Молчит Колчак.
– Не семеновцы твои на воротах да колодезных журавцах людей вешали и немудрое мужицкое добро по ветру пускали?
Молчит Колчак.
– Не японские твои помощники на востоке палом села палили, женщин насиловали, грабили и зорили родину нашу?
Глаза у Колчака кровью налились, руки трясутся, а пальцы, как когти хищные, загибаются.
– Довольно! – кричит. – А то я тебя убью!..
– Я это знаю, – отвечает спокойно партизан. – Што, горька наша правда?…
А Колчака трясучка бьет, не может с собой совладать. Белого порошка какого-то в нос напихал, в себя пришел.
– А что ж, Ленин вам правду говорит?
Партизан вздохнул, услышав дорогое имя.
– Да, Ленин – наш, и правда его – наша правда. Чтобы сказать ее народу, он весь мир обошел, в тюрьмах и ссылках царевых побывал, в каждый дом, в каждую лачугу заглянул, горе народное послушал, песни его тоскливые понял и обо всем свое правдивое слово сказал… Нашей правде жить на свете, а не вашей…
Вскипел Колчак и приказал своим офицерам:
– Убрать!..
А те уже знают, что делать.
– У тебя не хватает даже смелости убить меня. Эх, ты!.. – и плюнул партизан в холеное лицо Колчака…
Ладно.
Повезли офицеры партизана за город. Далеко уехали, чтобы люди не видели, как они будут убивать человека.
Остановились в поле, и приказывает старший партизану:
– Повернись мордой в степь, мы тебя по распоряжению верховного правителя в «расход спишем»…
– Спасибо за милость, только я в ней не нуждаюсь – стреляйте в грудь… – говорит партизан. – Мудрено ли замученного одинокого человека застрелить? Вы бы со мной в бою встретились…
Оглянулся партизан – кругом голая степь: ни человека, ни деревца. Некому даже слово прощальное сказать. Только и росла возле него круглым шаром колючая трава – перекати-поле…
Офицеры ружья подняли, и сказал тогда партизан:
– Перекати-поле!.. Будь ты свидетелем моей гибели! Расскажи ты людям, за что пролилась моя алая кровь!..
Только и успел сказать.
За выстрелом упал партизан и навеки закрыл глаза свои орлиные.
Офицер посмотрел на перекати-поле, как на свидетеля черного дела, и только хотел растоптать, а перекати-поле сорвалось с места и покатилось…
Офицеры за ним: сабельками машут, из ружей стреляют, а поделать ничего не могут. Гнались, гнались – бросили – не могли догнать…
А перекати-поле катится и катится – по полям раздольным, по лесным тропинкам, по городам и селам, и если прислушаться чутким ухом, песенку-призыв можно услышать:
Поднимайтесь, голые,
Поднимайтесь, сирые,
Куйте пики острые,
Вилы и мечи;
Снова ваши головы,
Как во дни постылые,
Барам непокорные.
Рубят палачи…
Ваших жен насилуют,
Ваших деток вешают —
И готовы царские
Кандалы для всех!
Никого не милуют,
Жалобы не слушают,
Ваши муки тяжкие —
Генералам – смех.
Встаньте силой грозною
За судьбу свободную
И повязку черную
Сбросьте с ваших глаз…
Встаньте за народное
Дело благородное.
Кровь пролейте алую, —
Но в последний раз!..
Это катилось наше большевистское слово, наша песня звенела над родными просторами.
И поднялись тогда силы народные, силы несметные и смахнули с лица земли русской не только Колчака, но и всех его приспешников. И за многие годы борьбы над страной свободы засияло солнце радости.
И сиять той радости – века!..
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































