Текст книги "Черный ветер (сборник)"
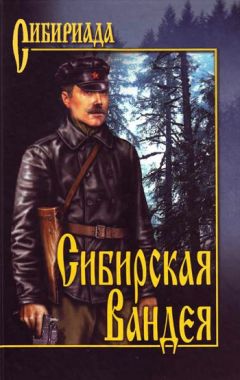
Автор книги: Кондратий Урманов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В последний час
1
Над закованным в чешуйчатый панцирь Иртышом гранитными массивами вознесся город и тысячами окон глядит в белую безлюдную степь. Глядит настороженно, как глядели три столетия назад первые завоеватели этого края, возводя форпосты и крепости.
И когда за далекие равнины опускается зимнее тусклое солнце и лиловыми приветными красками загораются снега – город затихает, сжимается и ждет своей судьбы.
А из белой пустынной степи, по Иртышу, узенькими улицами и переулками врывается в город ветер, острый и певучий, как кованные морозом снега; врывается и треплет на заборах лоскуты недавних приказов, на которых черная жирная надпись: «Верховный правитель адмирал А.В. Колчак».
Улицы шумят ветром, скрипом полозьев, рыком авто, руганью людей и большим пугающим словом, полным безнадежности и страха: «эва-ку-а-ция»…
Люди мечутся на улицах, тянутся на вокзал, за город, в пустынную морозную степь.
Неизвестность колет иголками сердце, гонит обратно в теплые гостиные, в уютные спальни, к горячим незатухающим самоварам. Но дома уже чужие, их новый хозяин стоит у дверей. Хозяин и судья.
Страх не дает покоя: улицы, степь, снега…
А там, где красным оборванным хоботом уперся в ледяное покрывало Иртыша железнодорожный мост, там, где день и ночь дымят в студеное небо трубы мельниц, железнодорожных мастерских, где гукают, тайно переговариваясь, черные паровозы, там, на перроне, груды чемоданов, ящиков, портпледов и толпы людей: мужчины, женщины, дети, штатские, военные, духовные, и у всех синие, мертвые лица. Там, у длинных связок разноцветных вагонов, толпы. Каждый ждет счастья – маленького уголка в теплушке, и те, кто посмелее, лезут вперед, пока не раздастся грозный окрик (и синий блеск штыка):
– Отойди! Куда прешь? Этот состав для военных!
Толпа отхлынет к перрону, скорчится от холода и, скрипя зубами, будет ждать, когда подадут новый состав.
По перрону, между грудами чемоданов и людей, шныряет юркий мальчик в куцем пиджаке, перетянутом веревочкой, в грязном изодранном заячьем треухе и звонко кричит:
– Вот вечерние телеграммы! Очень интересно!..
И немного тише:
– Большевики заняли станцию Называевская…
Звонкий голос мальчика надоедает, пробирается под тяжелые шали, лохматые шапки, неприятно действует на слух, тревогой ложится на сердце.
– Большевики заняли…
– Да замолчи ты, хайло проклятое, – высунул нос из тулупа с волчьим воротником высокий мужчина, – уши прожужжал. Что ж тут интересного, что большевики Называевскую забрали? Хм-м…
– Очень интересно! Десять рублей только…
Но мальчика обступили. Летят розовые, дымчатые, желтые бумажки, шелестят в руках маленькие, еще не высохшие телеграммы. Мужчина с волчьим воротником тоже тянется:
– Дай-кось и мне одну…
У мальчика весело сверкают черные озорные глаза.
– А прогонял… Бумага на бумагу – менка…
И опять:
– Вот вечерние телеграммы! Очень интересно! Большевики…
Перед мальчиком – молоденький, чисто выбритый, весь в ремнях прапорщик. Заломив папаху на затылок, он спрашивает:
– Так что, шпаненок, интересно?
Мальчик ежится, швыркает плоским носом, увертывается:
– Возьмите телеграммку… Десять рублей…
– Нет, ты мне скажи, где большевики? Ты сейчас кричал…
– Я сам, что ли, их печатаю? В Называевской, сказано…
– А ты и рад, орешь на весь белый свет?…
Мальчик молчит и шарит по сторонам глазами – куда бы нырнуть.
– А ну-ка, пойдем! – схватил мальчика за ворот. – Читай, где большевики…
И водоворотом закружилась толпа, двинулась за прапорщиком к стене, на которой белым пятном лист бумаги.
– Читай!
– Я не умею… Мне люди скажут, что кричать, я и кричу…
– Слушай, шпаненок: «Омск не будет сдан… Все население, способное носить оружие, должно стать на защиту столицы Сибири, своего родного города. Всех укрывающихся – расстреливать на месте, как изменников». Слыхал? Давай сюда телеграммки, и пойдем к коменданту…
– Дяденька, я не знал…
– Там узнаешь…
Но отвел немного и толкнул в шею.
– Иди, сволочонок, да не смей больше кричать!
Мальчик захныкал:
– Отдай телеграммки… Деньги я за их платил…
– Вот тебе телеграммки, вот!.. – Изорвал и пустил по ветру.
Еще не разошлась толпа, тихо стояла и сонливо водила глазами по «страшному» приказу, как вдруг из-под чьего-то локтя вынырнул обиженный мальчуган, хватил приказ сверху донизу и в клочья – по ветру.
– Вот тебе генерал Сахаров!.. Вот тебе Колчак!..
И, удаляясь за станцию, оглядываясь на пораженную толпу, звонко запел:
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель скрылся…
– Ах, шерамыжник! – шевелятся тяжелые усы в волчьем воротнике. – Ничего не боится… Ну, шкет!..
Широкая лохматая фигура склоняется к соседу и пониженным голосом бубнит:
– А верховный-то правитель насчет пыли в глаза мастер: «Я, как честный солдат, буду отходить с армией», – а сам прихватил золотишко и был таков… – и с сожалением добавляет: – Подумать только! Весь государственный запас драгоценностей увез!..
– Далеко ли уедет? – сомневается приятель и с тоской глядит на пестрые связки вагонов. – Хоть бы теплушку дали, черт с ней… лишь бы ехать…
Над станцией вспыхивают бледно-синие фонари, и, как фонари, разгораются в темном небе звезды.
Гукают паровозы, звякают стальными тарелками вагоны, ползают взад-вперед, но идти в степь, в ночь, в снега никому не хочется. «Паровозы не готовы», «паров не хватает».
2
В зале первого класса люди стоят плотно прижавшись друг к другу. Двери открыты настежь, клубится пар и колышет у потолка сизый дымный навес. За голыми столами (все прибрано, чтобы не утащили) офицеры, спекулянты, женщины в шляпах, дети. На прилавке буфетчика кипят два огромных самовара, невзрачные, измученные официантки через головы подают на стол кипяток в чайниках. Шум, говор, точно мутный ручей по камням несется, все об одном – ехать.
Угол большого стола заняла компания: толстый с пухлыми щеками и лихо закрученными усами штабс-капитан, остроносый юнец-поручик, не успевший еще износить своего первого мундира, пожилой чиновник в казначейской форме, две молодые женщины, подрисованные, опьяневшие, и вихрастый седой поп. Перед ними стоит бутылка спирту (что стесняться!), по столу разбросаны сухари, куски сдобного калача, сухие, в застывшем жиру, котлеты. Все уже навеселе, но капитан еще берет бутылку, разливает по стаканам, потом из чайника добавляет по стольку же воды.
– Господа, я хочу выпить за великую не-де-ли-мую матушку-Русь, за ее храбрых, отважных воинов и за веру нашу православную… – говорит он, поднимая стакан.
– Правильно, Николай Михайлович! – тянется через стол священник. – Именно «за веру нашу православную»… Только вера и божья помощь приведут нас в лоно прежней жизни. Выпьем…
Все чинно подняли стаканы, перекинулись взглядами и выпили.
Чиновник-казначеец крутит головой.
– Старая, отец Николай, обедня… Против большевиков наша молитва недействительна, новую надо придумывать… – говорит он баском. – Крестовый поход мы собирали, молебствия служили после пустяшных побед, а, однако же, приходится покидать насиженное место. Ни к чему все это – стальная молитва надобна в наш век… Вот.
– Совершенно верно… – пикнул поручик.
Но ему не дала договорить соседка.
– Как мне спать хочется, если бы ты знал, Веня! – сказала она и потянулась к нему на плечо кудрявой светлой головкой. – Теперь бы в мягкую постельку и часов на двенадцать…
– А вот скоро поедем, Шурик, там выспишься…
Штабс-капитан недоволен чиновником. Он окидывает всех помутневшими глазами и, четко чеканя каждое слово, говорит ему:
– А вы думаете, у большевиков что-нибудь выйдет? Говорю – нет! Будут плакать еще наши дураки Иваны. Ох, как будут плакать, да назад не воротишь!
У чиновника кислая гримаса прячется под густыми черными усами.
– А в общем, плюньте, Николай Михайлович, – советует он, – кто о ком будет плакать – дело неизвестное, а вот налейте-ка еще по баночке, оно веселее…
– Нет, мне хочется доказать вам, – горячится штабс-капитан. – Не в социализме дело, не в том, что все Иваны будут жрать котлеты и читать вместо евангелия «Капитал» Маркса и творения Ленина, а в том, чтобы жила нация, здоровая, крепкая, как столетний дуб, жила и развертывалась вширь, на удивление всему миру. А в чем суть нашей нации?
Ощупал всех серенькими блеклыми глазами, пыхнул папиросой и начал, постукивая по столу пальцем, считать:
– Первое – богоискательство и смирение…
– В небо пальцем, Николай Михайлович, попали, – перебивает его вновь чиновник. – Какое, черт, смирение, когда вон какая томоша идет? Который год льется кровь? Откуда это? – И, снизив голос, заключает: – В нашей крови бунт какой-то, дорогие мои, бродит. Не давали ему только вылиться, а теперь – вот…
– Хорошо, я согласен, что у нас томоша, как вы говорите, но в душе русский народ – богоносец; так было в веках и в веках.
– Истинно ваше слово, Николай Михайлович! – крякает поп. – Где в мире мы найдем такие монастыри, храмы? Господи!.. Как жили! Как жили!.. Неужели этому приходит конец?
– Отец Николай, я правильно говорю: богоискательство и смирение. Это первое. Второе – раскрытая душа, любвеобильное сердце и простота наша древнейшая. А теперь – боль: рушится все; разнузданность, хамство, прикрытое громкими словами…
Поручик ловил взгляды всех и не знал, что сказать: у него не было знаний, а думать над жизнью еще не научился, да и некогда было – война. Подруга его, тихо посапывая, покоилась на плече.
Чиновник глядел в стол и катал пальцем шарик из осевшей пыли и грязи.
– Ведь если бы знать, – не унимался штабс-капитан, – если бы знать, что того, что мы называем Русью, чем жива душа русского человека, если бы знать, что того больше не будет, – сейчас же пустил бы себе пулю в лоб, не дожидаясь, пока тебя над костром зажарят дикари, те, что идут строить новую Россию…
– Ну, успокойся, Коля, – умоляет его жена, гладя пухлой рукой по жесткой щеке. – Не навек же мы уезжаем. Утихнет все, и мы вернемся; не бог знает куда едем.
– Да разве теперь утихнет? Никогда! Нога моя не ступит на советскую землю…
– Это ты сейчас расстроен, Коля, потому так говоришь. Соскучишься…
Поп вдруг опустил лохматую с проседью голову на руки и заплакал.
Все притихли. Ясней и отчетливей стало заунывное пение потухающих самоваров. Масса человеческих тел шевелилась, вздыхала, охала… И в эту тишину, как трубный звук, голос железнодорожника:
– Посадка на поезд Омск – Новониколаевск – Тайга – Красноярск…
Зашумели, загалдели, колыхнулись волной к двери. Тискались, кричали, ругались.
– Проходи там!
– Тебе надо ехать, а мне не надо?
Женский голос с мольбой просит:
– Господа, пропустите с ребенком… Ну, дайте же пройти!
А надтреснутый, точно с великого перепоя, бас покрывает оглушительным ревом шум толпы:
– Куда прешь? Поезд воинский, а ты, спекулятор, лезешь.
– Сам, должно быть, спекулятор!
– Закрой хайло, а то я тебе дам по сусалам…
Штабс-капитан и поручик встали. Жена поручика, протирая глаза, куталась в пуховую шаль.
– Что, уже ехать?
– Поехали, собирай, Шурик, все со стола.
Спавший на чемоданах сынишка штабс-капитана проснулся и захныкал:
– Ма-ма!.. Домой хочу…
– Сейчас, Вовочка, домой поедем… Одень его, мать, как следует… – Штабс-капитан потянулся через стол. – Благослови, отец Николай, в дальний путь…
Поп, неуверенно махая рукой, протянул наперстный крест через стол.
– Благослови, господь… М-м-да, м-да-а… Николай Михайлович, а я как же?
Штабс-капитан отвел глаза в сторону.
– Не знаю, отец Николай… У нас только двухместное купе, нас трое… Сами понимаете…
– Может, в коридоре где-нибудь… Не могу же я оставаться…
Штабс-капитан, пожимая плечами, разводит руки:
– Что я сделаю?… Идемте, может, устроитесь, но я не ручаюсь…
Быстро подхватили чемоданы, портпледы и, забыв проститься с чиновником, двинулись к двери.
– Господа, пропустите!..
Никто не слушал, лезли, толкали друг друга, спорили.
Чиновник проводил к двери своих собеседников и, вспомнив мольбу попа, буркнул себе под нос:
– Куда благородство, куда возвышенные чувства девались: ты тонешь – черт с тобой, лишь бы мне выбраться на берег… – Снял шапку, положил на стол и уткнулся в нее носом.
Дверь пищала, скрипела, жаловалась…
3
Сизой морозной ночью, когда спал город (а может, притворялся, что спит), против тюрьмы, у маленького домика на лавочке женщина с ребенком. Мороз обнимает, вяжет голые колени, пробирается под легкое изодранное платьишко – жмет; ребенок, закрученный в промокшие пеленки, плачет осипшим голоском. Мать постукивает его по спинке озябшей рукой и тихо баюкает:
– Шы-шы-шы-шы-ш…
А сама глаз не сводит с белой огромной тюрьмы, рассевшейся на всю площадь. Ворота тюрьмы плотно закрыты, высокая ограда прячет двор, только на вышках, поскрипывая мерзлыми пимами, неустанно дежурят часовые.
– Ежели нас завтра не отправят на тот свет, то буду жив, – говорил ей муж третьего дня на свидании, – потому мы, хоть и в тюрьме, а знаем, что красные вот-вот будут…
Третьи сутки на карауле. Иззябла сама, ребенок. И горькие мысли за судьбу мужа цепляются одна за другую.
Вспомнила его наказ за несколько часов до ареста. Она пустила тогда переночевать истерзанную, изнасилованную девушку.
«Ты не торопись ныне с помощью. Знаешь, под видом несчастной подошлют змею. Укусит до смерти…»
И еще:
«Не плачь, Мария… Не поможет»…
Это он крикнул ей через головы солдат, через штыки и оголенные сабли, когда вели по мосту из контрразведки в тюрьму.
И, перебирая все в памяти, невольно замирала перед пугающей, страшной неизвестностью; сердце больно сжималось, не хотело мириться. Как же тогда? Она и грудной ребенок? На кого его оставить? Как жить?
Прижимала ребенка к груди, баюкала:
– А-а-а-а… шы-шы-шы-шы-ш…
В глубоком сизом небе бледная с сине-оранжевыми отливами луна, и будто оттуда, из этой глуби, – холодный, морозный звон. От домов с белыми крышами косые тени легли на снег. Темными пустыми глазницами глядит белая тюрьма на сонный город. Тишина звенит, звенит…
Настороженный слух ловит чьи-то скрипучие шаги во дворе тюрьмы, лязг застывших засовов и тихий вкрадчивый говор.
У женщины упало сердце, словно она сама провалилась в какую-то пропасть. Встала, прошлась в тени, размяла застывшие ноги.
– Выходи!.. Стройся!.. – донеслось из-за ограды тюрьмы.
Каждое мгновение – нескончаемо долго. А когда распахнулись ворота и забегали по белому снегу, как черные муравьи, люди – конные и пешие, тогда исчезло время и страх, тогда женщина, прижимая ребенка к груди, зашагала по тротуару за удаляющейся темной человеческой толпой, по направлению к загородной роще. Под ногами пел снег: жы-жы-жы-ж-ж-ж…
Торопилась, бежала. Верховой заметил, крикнул:
– Стой! Куда?… Другой улицей!..
А женщина свое – любимое, родное:
– Степан!
И в ответ донеслось:
– Тут я!.. Прощай!..
Человек с винтовкой матерно выругался.
– Замолчи, стерва!.. Квакашь!..
Еще верховой подскакал.
– Тебе, баба, что надо?
– Солдатики, голубчики, муж мой там. Как же я с дитём? О-о-о…
– Брось выть! Да куда ты бежишь?…
– О-о-о-ой… Дитё у меня грудное!.. Куда я с ним?
Лошадь вскакивала на тротуар, плясала, не пускала. Смертники удалялись. Уже видна была в серебристых снегах роща. А налево – сизый простор замыкался вдали темной стеной леса.
– Да куда же тебя черт несет? Хочешь, чтоб я тебя ляпнул?!
– Ой, пустите!.. Господи, с дитём я!..
Захлебываясь, верещал ребенок. У него уже не голос, а какой-то надрывный хрип.
Черная полоска скрылась в роще. Солдат ускакал. Женщина кинулась вслед за ним. Ноги подкашивались, падала, вставала и вновь бежала… И когда добежала до рощи, раздался первый залп. Словно кто-то простуженный кашлянул. Морозную тишину рощи колыхнул предсмертный человеческий крик.
Еще залп, и еще…
Потом четкие одинокие выстрелы.
Женщина, выбиваясь из сил, кинулась к солдатам.
– Невиновен он, Степан-то…
– Стой!
– Дайте хоть глаза-то закрыть!.. Солда…
И тогда тишину разорвал еще один выстрел, женщина дрогнула, покачнулась и упала, плотно прижав ребенка.
Над смолкшей женщиной человек торопливо засовывал наган в кобуру. Новая кожа хрустела, на вздернутом плече поблескивали золотистые нити погона…
Звенит тишина, поет. В глубоком сизом небе бледная, с сине-оранжевыми отливами луна, и словно оттуда, из этой глуби, – холодный, морозный звон.
4
Будто железная метла – по улицам жесткий ветер. Собирает растерянные, сорванные со стен бумажки и, как жухлые листья тополя поздней осенью, крутит, взвивает и, перемешивая со снегом, хоронит у заборов, в канавах и оврагах.
Нудно стонут, жалуются провода. По улицам с урчанием проносятся к станции автомобили, скрипят нагруженные сани; мечутся, как угорелые, небольшие отряды казаков; озираясь, ходят люди, перетаскивая из дома в дом вещи: столы, стулья, комоды, пианино, – где понадежней. Через железнодорожный поселок идут обозы, в степь, в снега…
Купец Кошаров гонит тысячное стадо баранов. За пригородным поселком не дорога, а тропа. Бараны дошли, стали. Работник Иван мечется на лошади из стороны в сторону, гонит, хлещет кнутом, бараны крутятся и бегут назад, в город.
– Эх, баба, чтоб тебя язвило, – кричит Кошаров, – с овцой справиться не можешь. Да ты ворочайся, чубук!
Иван чуть не плачет:
– Что я сделаю?… Не идут… Кря, куда! Чтоб вы подохли!..
Лицо у Ивана синее, руки граблями, плохо кнут держат – застыл в рваной шубенке, подшитых пимах и потертых мохнашках. А Кошаров сидит в кошевке, завернулся в черную с синим отливом доху, воротник подвязал, только глаза сверкают.
– Тебе ветер в зад, расселся… Сам попробуй погони, – бурчит Иван, трясясь на лошади. – Разве они пойдут по такой дороге?
– А до этого как шли? Ах ты, гнус окаянный!.. Что же, по-твоему, бросать, пусть большевикам достаются?…
Иван не слышит, он с остервенением достает кнутом убегающую овцу, стегает лошадь:
– Крутишься! – и злобно ругается: – Кря!.. Подохнуть бы вам вместе с хозяином…
Но бараны сбились в круг, стали.
А из города едут, едут…
Военный обоз наплывает с угрозами на Кошарова:
– Ну, что там на дороге стали? Чего дожидаетесь?
Кошаров, не поворачиваясь, отвечает:
– Проезжай, если надо…
За обозом солдаты с винтовками.
– Нам бы одну на ужин… – говорит один.
– Курдюшные, – смакует другой.
– Все равно далеко не угонит, волки поедят…
Посиневшие пальцы солдата прячутся в густой рыжей шерсти. Баран подпрыгивает и ложится на воз, рядом с ящиками патронов…
– Лежи! – и за горло рукой, чтобы хозяин не слышал.
Но Кошаров заметил, отвернул воротник.
– Служивый, а что вашему брату по воинским законам за это бывает?
– Колчак все законы увез с собой, – развязно отвечает солдат. – Что тебе, жалко? Твою же шкуру защищали…
– Защитники, язвило бы вас. Защитили…
– Замолчи, а то… – и винтовкой погрозил. Обоз уходит, и Кошаров ворчит:
– Не солдат, а разбойник какой-то ноне в армиях… Мне не жалко, да ты приди и толком попроси… А то как волки… Иван! Ты что ж, заснул? Гони давай…
Иван старательно дергает лошадь за узду, бьет ногами по бокам, щелкает кнутом.
– Да ну, ты, раскоряка!..
У лошади намерзло под копытами, трудно бежать. Стадо рассыпается; одна за другой овцы бегут в пригородный поселок, к дворам.
И тогда над белой равниной степи, куда ленточкой тянутся обозы, у видневшегося разъезда, где голыми ветками машут тополя, в студеное небо взметнулся белый столб дыма и – р-р-р-р…
Кошаров невольно дернулся в санях.
– Господи!.. Началось… Но!.. Иван!..
А снаряды все рвутся, и кажется, что это стреляют красные из-за Иртыша.
У крайней избушки стоят двое и смотрят не то на клубы дыма, не то на стадо баранов.
Один крикнул Кошаровуг:
– Не трусь, купец!.. Это потайной склад снарядов, сами, поди, взорвали.
– Господи, что же делать? Иван!..
А Иван уже был далеко. Он старательно хлестал лошадь, испуганно оглядывался и скакал в город.
Овцы кричали, расходились по улицам, лезли в ограды. Кошаров видел, как уменьшается стадо, как тащат жители овец к себе. Ругать было некого. Поймал крупного барана, взвалил на санки и крикнул стоявшим мужикам:
– Бери, братцы. Теперь все равно не угнать… Чтоб только большевикам не доставалось…
Лошадь быстро побежала догонять военный обоз.
5
Сгасли, потемнели в степи снега, только над рощей в белых неподвижных тучах горят еще отсветы заходящего солнца.
К взрывам снарядов город привык. На рев и гул горящего склада никто не обращает внимания. Бегают, спешат. Отъезжают последние обозы, уходят отставшие команды, только сотня лихих казаков крутится у кадетского корпуса, у дома адмирала Колчака.
В вечерний час из степи, откуда к городу подползала вкрадчивая тишина, прилетело четкое и ясное: та-та-та-та-та…
Словно в ставни каждого дома кто постучал палкой.
Замолк и затих город. Мглою морозной ночи оседало, давило небо. Разгорался пожар на складе, росло зарево, ширилось и кровавыми красками заливало белый город. А по Иртышу, за рощей, за станцией переговаривались пулеметы, тукали, как огромные дятлы, носами в сухую дуплистую сосну: та-та-та… та-та-та… та-та-та-та…
По городу, в красном зареве, метались одинокие тени.
К утру смолкли пулеметы, и когда солнце выглянуло из-за черных, закопченных железнодорожных мастерских, над вокзалом, над домом губернатора, где недавно заседал совет министров Колчака, развевались большие красные полотнища…
Но притаившийся город еще молчал.
И будто нечаянно в тихий рассвет, в сонливые пустые улицы, как неделю, как год назад, крикнул большой соборный колокол: «К нам… к нам… к на-а-ам…»
Заскрипели ворота, калитки, захлопали ставни, забегали от дома к дому люди.
– Живы?…
– Слава богу…
От станции к белому зданию над Омкой, над которым красным рукавом машет флаг, идет тысячный отряд белых.
Грязные, оборванные, изморенные.
И с ними два красноармейца – впереди и сзади. Не убегут: некуда бежать.
Возле кадетского корпуса, спрятавшись за тополя, стоит ранний извозчик. Из смельчаков.
– Товарищ, как нам пройти к коменданту? – спрашивает передовой красноармеец.
Извозчик руку козырьком, будто не слышит.
– Ась?
– К коменданту нам надо… В губернаторском бывшем дому, сказывают…
– А прямо, товарищ (непривычное слово, а хорошо его сказать), вот так пойдешь да направо свернешь. Ты где это их столько набрал?
– Колчак бросил… А ты что так рано высунулся?
– Мы, думаю, народ и для советской власти надобный…
– Та-ак… та-ак…
Скрипит под настывшими, смерзшимися пимами, старыми ботами, рваными сапогами утренний звонкий снег.
Из улиц и переулков, из окон домов украдкой поглядывают сощуренные глаза на пленников.
– Повели…
А над городом уже не одно гуканье соборного колокола – поют гудки проснувшихся заводов, фабрик, мастерских.
Поют призывно, длительно и радостно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































