Текст книги "Записки сенатора"
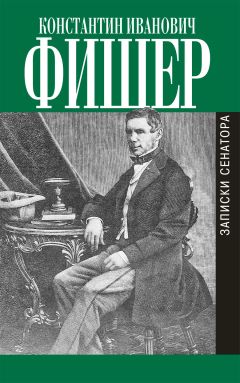
Автор книги: Константин Фишер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава IV
Еще о графе Канкрине – Его замечательная личность – Рассказы о нем – Сперанский – Маркиз Паулуччи – Анекдоты о Голубцове, Тимирязеве и мичмане Уггла – Новосильцов – Гурьев – И. Г. Бибиков – Дружинин и его карьера – Император Павел – Рассказы о нем Дружинина – Дубенский – Таможенные дела – Деятельность Гурьева и Бибикова – Уваров – Князь Урусов
Личность Канкрина тем более занимала меня, чем ближе узнавал я тогдашних тузов и валетов, казавшихся мне покуда тузами. Во всей его личности изображался человек, выходящий из ряда обыкновенных, – по уму, по сердцу и по образу жизни. Боровшись почти всю жизнь с бедностью, он не только не выходил из прежней простоты своей жизни, сделавшись министром, но не забывал и того, что на свете есть люди темные и бедные, заслуживающие уважения. Гуманность и простота проглядывали через каждое его движение.
«Повесьте часы на стену в приемной, – говорил он директору канцелярии, – тут многим придется ждать, а ждать так тяжело, что четверть часа кажется целым часом. Когда будут часы, то люди, которых я должен буду заставить ждать полчаса, не скажут по крайней мере, что они ждали меня два часа».
Выслушивая просителей, он иногда делался нетерпеливым и начинал кричать, но как только замечал в просителе смущение или робость – тотчас стихал и старался всеми силами помочь. Помню один случай. Вдова действительного статского советника Миллера просила о продолжении срока аренды, пожалованной покойному ее мужу, и министра финансов, и вице-канцлера; первый отзывался, что она должна обратиться туда, где служил ее муж, а второй советовал ей просить министра финансов. Н. И. Греч, бывший несколько знакомым с Канкриным, вызвался просить его снова. Канкрин, увидя его в приемной, думал, что дело шло о журнальной статье, и подошел к Гречу очень ласково, но как только он заикнулся об аренде, Егор Францевич вспылил и начал кричать. Греч, выслушав первые порывы, прервал Канкрина. «Браните меня, даже бейте, – я не уйду, пока вы не выслушаете меня, потому что я ходатайствую за почтенное семейство, которому есть нечего». Тотчас Егор Францевич стих, выслушал Греча с участием и выпросил аренду.
Жена его, урожденная Муравьева, говорят, была очень хороша собой смолоду; я знал ее уже тогда, когда она была уродливой толщины и, на беду, сентиментальна, с умом ограниченным. Канкрин был, однако, с нею необыкновенно добр, уважая в ней заботливую хозяйку и мать. За обедом ел он два блюда; прислуги было немного, и с нею он был снисходителен. За сутки до доклада езжал он, при жизни императора Александра I, в Грузино к Аракчееву; один раз, на моем дежурстве, отправляясь в Грузино, с трубкою во рту, поскользнулся он на лестнице, которую дураки-люди вымыли и не обтерли; вода подмерзла, и на этой гололедице скользнули гвозди, которыми сапоги министра были подбиты. Он покатился с лестницы, зашиб себе ногу и локоть и изломал трубку, простую, из карельской березы, выложенную внутри железом. Воротясь назад и хромая, он сказал мне: «Жаль трубки; все походы со мной делала». Людям же не сделал ни малейшего замечания.
Канкрин был едва ли не первый министр из лиц, не принадлежащих к высшим кругам русского общества. Зависть чиновническая, оскорбление барской спеси и злоба большой родни Гурьева, которого он заменил, – все это соединило свой яд, чтобы вредить Канкрину или по крайней мере раздражать его, а он шел между ними спокойно и твердо, как ньюфаундленд между шавками. Строганов, Александр Григорьевич, вздумал сконфузить его, сказав ему в Государственном совете, что он должен знать такие-то дела, потому что был, кажется, бухгалтером у Перетца. «Да, я был и бухгалтером, и секретарем бывал, и много перебывал, но дураком никогда не бывал».
Служа у Канкрина, я видел в первый раз Воронцова, Сперанского, Новосильцова, маркиза Паулуччи. Воронцов – вельможа всеми приемами – производил очень выгодное впечатление; впоследствии сарказмы Пушкина туманили его репутацию, но я продолжал верить в его аристократическую натуру и не верить Пушкину, тем более что князь Меншиков отзывался о нравственных качествах Пушкина очень недоброжелательно и, как кажется, считал его зачинщиком и шпионом-провокатором. Но когда Воронцов поехал к Позену на дачу поздравить его с днем рождения, я поневоле должен был разделить мнение о Воронцове, господствовавшее в общественной молве. Под конец воронцовские мелкие интриги, нахальное лицеприятие и даже ложь уронили его совершенно в моем мнении, и я остаюсь при том, что он был дрянной человек.
Сперанский, довольно высокого роста, с маленькой головой, худощавый, нагнутый вперед, лысый, с сединами, бледный, или, вернее, тускло-белый, с розовыми кружками на щеках, как у чахоточных, редко-рябоватый, с тонкими чертами лица и хитрыми глазами – чистый тип поповича в совершеннейшем виде или начальника иезуитов. Я на него смотрел с любопытством, потому что о нем говорила вся Россия. Демократ по рождению, однако не такой неистовый, как Милютины. Князь Меншиков показывал мне копию с письма Сперанского к императору Александру Павловичу, спрашивавшему его мнение об освобождении крестьян. В этом письме он высказывал, что как ни желательно освобождение, надобно подумать о замене помещичьей власти другою полицейскою властью, и что в настоящее время наша земская полиция не на том уровне, чтобы можно было поручить ей руководство двадцатью миллионами людей. Впрочем, когда его возвели в графское достоинство, он написал на карете своей семь раз свой новый герб, по одному на каждой стенке сбоку и один сзади. Чуть ли не было их и на суконных полах козел, по тогдашней моде; но помню ясно изображения мантий, в большом и малом виде, вроде предметов, отражающихся в граненом стекле.
О нем писать нечего; есть даже печатные его биографии. И современники, и печать признали в нем очень тонкого человека, но, как говорится, «на всякую старуху бывает проруха», – и Сперанский опростоволосился, если верить рассказам Лубяновского. Я им верю, – Лубяновский очень умный и серьезный человек, и рассказывал через 25 лет по смерти Сперанского, его друга, следовательно, не имел надобности говорить по расчету. Сперанский с ним часто советовался.
Перед возвращением его из Сибири государь Александр Павлович написал ему длинное письмо, в котором говорил ему много любезностей, и между строк извинялся, что удалил его. Сперанский видел в этом письме раскаяние, которому недоставало только некоторых пояснений, чтобы быть полным. Проезжая, кажется, через Пензу, где Лубяновский был губернатором, Сперанский показал ему государево письмо и сообщил, что государь, очевидно, вызывает его на объяснения. «Нет, – отвечал Лубяновский, – если б государь желал объяснений, он бы не писал того, что написано, а ограничился бы словом «приезжай!». Если же он решился ввериться бумаге, – он принес это в жертву, повинился для того, чтобы уже не возвращаться к этому предмету». Может быть, Сперанский и послушался в ту минуту друга, но когда приехал во дворец и государь обнял его с чувством, Сперанский стал объясняться о прошедшем. Государь прервал его на третьем слове, заговорил о другом, скоро отпустил его и более никогда не принимал.
Странно, что люди, пробывшие всю жизнь при дворе, так грубо ошибаются. Когда государь, после вторичного принятия в службу И. Г. Бибикова, хлопотавшего уже о новом назначении, осыпал его любезностями на бале, Бибиков и жена его стали с часу на час ожидать указа. Бибиков полагал, что его сделают начальником штаба наместника Царства Польского. Варвара Петровна утверждала, что муж будет новороссийским генерал-губернатором. Я сказал ей на это: «Если бы государь хотел дать большое место Илье Гавриловичу, незачем было бы награждать его ласками; эти ласки, очевидно, имели целью компенсацию; они – эквивалент, и я готов держать пари, что Илья Григорьевич не получит места». Время показало, что я был прав. Да не только Бибиков – и князь Меншиков делал осечки.
Маркиз Паулуччи. Действия его по званию генерал-губернатора прибалтийских губерний известны; там сохранилась до сих пор память о его полезном управлении. Заботливый отец, но грубый. Это его характеристика. Среднего роста, в глазах какой-то недостаток, которого я не мог разглядеть; косой ли, подслеповатый или кривой, – не знаю. Эполеты всегда грязные. Приезжал он, вероятно, за деньгами для своих губерний. Кажется, тут попадала коса на камень; беседы его с Канкриным оканчивались нередко громким обоюдным криком.
Мне рассказывали случай столкновения его с великим князем Константином Павловичем… Великий князь проезжал через Ригу. Маркиз Паулуччи, желая оказать ему уважение, выехал к нему навстречу в мундире, но не в полной форме, то есть не в ботфортах и без шарфа, и подал ему рапорт. Великий князь, протягивая руку для принятия рапорта, спросил, отчего он не в шарфе. Маркиз тотчас отодвинул рапорт от руки великого князя, сказав: «Виноват, ваше высочество», и, всунув рапорт в шляпу, протянул ему руку с французским приветствием: «А как вы поживаете?»
Воображаю сцену, какую он должен был сделать по случаю приема лорда Росселя, как Греч мне пересказывал. Лорд Россель прибыл на корабле в Ригу; он был тогда в министерстве Secretary of Government, что-то вроде нашего государственного секретаря. Когда он вошел в таможню для досмотра и предъявления паспорта, таможенные чиновники, приняв путешественника за губернского секретаря по буквальному переводу, не поторопились выйти, доигрывая, может быть, партию в преферанс. Россель начал шуметь, а чиновники, считая незаконным, что губернский секретарь осмелился порицать их, может быть, титулярных советников, велели его арестовать. Между тем маркиз Паулуччи узнал, что прибыло судно, привезшее лорда Росселя, поехал навстречу и нашел высокого путешественника чуть не в арестантской. Сенковский заимствовал из этого приключения эпизод для своего фантастического путешествия барона Брамбеуса, где недоразумение подобного рода привело к противоположным последствиям. Русский губернский секретарь приехал в Константинополь; там перевели чин его на турецкий язык по этимологическому смыслу слов, и вышло, что это был соучастник тайн всеобщего благополучия и, как столь великий муж, удостоен был торжественного приема.
Случай, рассказанный о лорде Росселе, не представляет ничего невероятного. Наши чиновники и до сих пор трактуют публику с необыкновенною грубостью, – с тою только разницею, что теперь диагнозы лучше: тогда было больше наивности и потому недоразумения случались чаще.
У всех еще было в памяти приключение, случившееся с министром финансов Голубцовым. Он шел по Фонтанке; государь, встретив его, остановился, чтобы сказать ему несколько приветливых слов. Едва государь отошел от него шагов на сто, выскакивает из-за угла квартальный надзиратель и грубо спрашивает Голубцова, как он смел остановить государя. Голубцов отвечал, что он не останавливал государя, однако блюститель порядка велел идти ему в полицию для допроса. «Кто ты такой?» – был первый вопрос. Ответ: «Министр финансов!» Затем трагикомическая сцена, которую можно себе представить.
И в мое время было два случая с моими знакомыми. Один раз начальник таможенного округа Тимирязев ехал на плохом деревенском извозчике в клуб; на Синем мосту подвернулся какой-то зевака под оглоблю бедного ваньки и был сшиблен. Городовой повел ваньку в полицию, а как Тимирязев стал за него заступаться, то потащили и его. На квартире квартального объявили ему, что их благородие опочивает; через несколько минут выходит их благородие в довольно неблагородном халате и начинает ругать извозчика; когда Тимирязев вздумал и защищать его, квартальный закричал: «Молчать! Я до тебя доберусь!» Тимирязев сделал почтительный поклон и замолчал. Отправя извозчика в арестантскую, квартальный обратился к Тимирязеву. «Ты что за птица в красном жилете?» – «Ваше благородие! Жилет точно красный, только я не птица». – «Кто ты такой?» – «Действительный статский советник Тимирязев, начальник таможенного округа». Опять легко вообразимая развязка.
Другой случай был с мичманом Уггла, которого государь видел на люгере князя Меншикова и любил за его оригинальность. Уггла встретился с государем на Английской набережной и удостоился нескольких высочайших слов. Только что государь отошел, выскочил из-за угла дома Риттера полицейский офицер и спросил Уггла, что он говорил государю. «А вам на что?» – спросил его Уггла гнусливым голосом. – «Нам приказано допрашивать об этом и доносить начальству». – «Государь сказал мне: смотри, Уггла, какая скверная рожа выглядывает из-за угла этого дома». – Не знаю, донес ли квартальный об этом своему начальству.
Новосильцова я уже видел усталым, пресыщенным, волокитою, ничем не занимавшимся более, как обедами и волокитством: красное лицо, стеклянные глаза, вообще наружность, не обличающая государственного мужа, стоявшего, во время оно, во главе антинаполеоновской, конституционной партии. Он был министром внутренних дел еще до моего вступления в службу, и тогда уже был, кажется, совершенно равнодушным к делу, даже более, – не скрывал своего равнодушия.
Сенатор Корнилов пересказывал мне слышанное им от одного из бывших при Новосильцове директоров департамента. Директор поднес ему бумагу, в которой изложил губернатору систему действий по какому-то предмету. Новосильцов, выслушав бумагу, нашел, что директор предположил систему ошибочную, объяснял ему вред, могущий произойти из этого образа действий, указал, что именно следовало бы предписать губернатору, и привел доводы, по которым такое предписание было бы гораздо полезнее. «Я переделаю по указаниям вашего высокопревосходительства», – доложил директор. – «Да теперь уже поздно, – отозвался министр, – бумага уже написана; опять снова начинать дело, – нет! все равно, дайте!» – и подписал. Впрочем, это, кажется, общая характеристика наших государственных людей.
Граф Гурьев, будучи киевским, черниговским, полтавским и подольским генерал-губернатором, просиживал целое утро в оранжерее, рассматривал болезненные растения, надрезывал, определял у которого febris, у которого gangrena, и когда ему докладывал адъютант (Бларамберг), что директор канцелярии ожидает с бумагами, Гурьев бросал с досадой ножик и горестно восклицал: «Никогда не дадут мне заняться!»
А оригинальнее всех был И. Г. Бибиков, виленский, минский и ковенский генерал-губернатор. Он считал нужным приезжать раз в год в Варшаву для совещаний с наместником (фельдмаршалом князем Паскевичем). Один раз, когда при нем доложили фельдмаршалу о приезде директора канцелярии с докладом, Бибиков заметил, что и с ним это бывает, что и к нему приходит директор канцелярии с кипою бумаг и читает ему их, прибавя: «И этот дурак воображает, что я его слушаю».
Другая группа лиц, проходивших через приемную Е. Ф. Канкрина, состояла из его подчиненных: Дружинина (директора канцелярии), Кайсарова (начальника отделения канцелярии), Вронченко (управляющего кредитным отделением), Дубенского (директора департамента государственных имуществ, управлявшего и департаментом податей и сборов), Мечникова (директора горного департамента), Обрескова (внешней торговли), Карнеева (внутренней торговли), Розенберга (департамент казначейства), графа Ламберта (директора комиссии погашения долгов), Уварова (директора заемного банка). Княжевичи служили все в департаменте государственного казначейства, из них двое старшие были начальниками отделений. Через несколько месяцев по моем вступлении в службу Бибиков заместил Обрескова, а Уваров – Карнеева, а по смерти Розенберга Княжевич управлял департаментом казначейства.
Из всех поименованных Дружинин был самый замечательный, ума светлого и быстрого, физических сил неутомимых, но перед страстями не имевший никакой воли. Вся его жизнь замечательна, почти с колыбели. Он был сын небогатых родителей и питомец пьяной кормилицы. Раз родители его, уехав в гости на весь вечер и возвратясь после полуночи, заметили с ужасом, что кормилица дома, а ребенка нет. С трудом добудившись кормилицу и удостоверясь, что она мертвецки пьяна, родители всю ночь искали ребенка по околотку и наконец дознались до того, что кормилицу видели в указанной улице пьяною, но без ребенка. Нашли и кабак, котором она пьянствовала, но содержатель объявил, что ребенка при ней не видали и что он быть не мог в кабаке, кабак был полон народу, шла неистовая пляска, и ребенка задавили бы, если бы он тут был; стали, однако, делать поиски со свечою и открыли в углу под лавкою запеленатого младенца, преспокойно спящего. Из этого-то ребенка вырос человек, умерший 78 лет от роду.
Бывают такие субъекты, которых ни вода ни огонь не берет. Я знал генерала Фридберга, коменданта крепости в Финляндии, кажется, Свеаборгской. Этот Фридберг найден был младенцем на поле сражения и подарен Нарышкину. Нарышкин воспитал его, определил в службу; почему его назвали Фридбергом – не знаю. В турецкую войну 1807 года он был во флоте и вместе с кораблем, на котором сидел, взлетел на воздух, упал с кульминационной высоты в море и отсюда спасен. Когда я с ним познакомился, он был уже стариком, вообще приличной наружности, но лицо темное, усеянное черными пятнами, в виде черной сыпи – следами ожога.
Дружинин кончил курс учения в «Петершуле», определился очень молодым человеком в должность комнатного писаря императрицы Екатерины, о которой воспоминания восхищали его до самой кончины. Он говорил об Екатерине не только с восторгом, но со слезами. Служба его состояла в том, что поутру он должен был находиться в указанной аванзале в ожидании приказаний. С обеда был свободен, но получал иногда работу от императрицы лично или через г-жу Перекусихину (он жил во дворце).
В числе фактов, выражавших гуманность императрицы, рассказывал он, что она дала ему вечером какую-то рукопись с приказанием переписать ее через день. Он принялся уже за работу, но императрица, ложась почивать, вспомнила, что на другой день был праздник; она надела халат, пришла к Перекусихиной, чтобы выразить ей, что она забыла о завтрашнем празднике и дала Дружинину работу, что она не желает заставить его работать в праздник и отсрочивает работу на день. Перекусихина дала в тот же вечер знать об этом Дружинину.
Молодой писарь влюбился в хорошенькую и скромную камер-юнгферу (впоследствии жена его) и строил уже воздушные замки, как скоропостижная кончина императрицы опрокинула эти сооружения фантазии и покрыла будущность его неприязненным мраком; однако Дружинин не уступил поля сражения (не так, как мой отец, удалившийся из капитана артиллерии и адъютанта генерал-фельдцейхмейстера в провинцию титулярным советником). Как только император переехал во дворец, Дружинин, 22 лет (как и отец мой), явился в аванзалу и стал на свое место, среди бледных, растерявшихся вельмож. Кутайсов, преобразовавшийся из камердинера в камергера, приказал ему выйти, объяснив, что за смертию императрицы он уже не на службе. Дружинин отозвался, что он поставлен сюда высочайшим повелением и выйдет отсюда только по высочайшему повелению, и не вышел. Вслед за тем вошел угрюмый император, обвел глазами присутствующих и, останова взор на Дружинине, спросил гортанным, сиплым тоном: «Это кто?»
Кутайсов поспешил доложить, чем был Дружинин и какое он ему дал приказание, которого он не послушал. Павел осмотрел его грозно, но прежде чем он успел выговорить роковое слово, Дружинин простодушно и смело представил государю, что высочайшая власть не умирает, что этою властью он поставлен; ей одной он и вверяет свою участь.
«Мой секретарь!» – произнес император. Дружинин поклонился. «Правитель моей канцелярии», – прибавил Павел, и Дружинин остался при нем. Служба была нелегкая. С восьми часов утра до девяти часов вечера Дружинин и Кутайсов должны были оставаться близ кабинета его величества, но Дружинин мог двигаться по царской половине, а Кутайсов сидел весь день на стуле у дверей и держался за дверную ручку, так, чтобы по зову «Кто там!» в ту же секунду войти в кабинет и стать у дверей. Несмотря на такую службу, Дружинин не забывал своего сердца. Каждый вечер из Гатчины он скакал в Царское Село, где жила его невеста, просиживал с нею до утра и в четыре часа возвращался верхом в Гатчину, чтобы в восемь часов быть пред императором.
Умея принять вид отроческого простодушия, Дружинин приобрел право говорить с государем так смело, как никто не дерзнул бы. Государь, недоверчивый, озлобленный, был, кажется, доволен, что около него был человек первобытного чистосердечия, доходившего до младенческой наивности.
Один случай сблизил его с императором еще более. Прусский король велел составить для себя ряд маршрутов, чтобы в каждую отдельную поездку, длящуюся не более двух недель, осмотреть какой-нибудь корпус войск. Император приказал Дружинину, через Кутайсова, составить и для него такие же маршруты. «В России это невозможно», – заметил Дружинин. «Я вам объявляю высочайшее повеление!» – отвечал Кутайсов. Дружинин набросал несколько маршрутов к ближайшим городам для посещения училищ или осмотра селений. С этою работою он явился к императору и со смехом сказал ему, что Кутайсов приказал ему составить план поездок по прусскому образцу, но забыл, что Пруссия – пигмей, а Россия – колосс, что Пруссию можно и скорее двух недель объехать, а Россию и в год не объедешь. «Кутайсов дурак!» – проворчал Павел. Ободренный этим аттестатом, Дружинин продолжал: «Однако, государь, надо исполнить волю вашу, делать небольшие поездки для осмотра вашей империи. Я думал при этом, зачем смотреть войска беспрестанно; государь будет только гневаться, а в случае войны все-таки многое будет не так, как теперь. Иные войска, теперь плохие, могут к времени исправиться, другие, теперь отличные, могут испортиться. Пусть государь предоставит эту школу генералам, а сам покажет себя юношеству, своим подданным, будущим слугам; пусть его образ запечатлеется и в их памяти как образ царя и покровителя! В этом смысле я написал программу». В этот же день Павел приказал Кутайсову поднести о пожаловании Дружинину Владимира 4-й степени. Когда проект указа был подан, государь возвратил его, сказав: «Анну на шею», – а когда второй проект поднесли ему, он подписал его, приписав своеручно: «с бриллиантами».
Император Павел, живя в Гатчине, много читал, причем имел привычку все оставлять на столе, так что стол был иногда завален раскрытыми книгами и бумагами, друг с другом перемешанными. Потом, когда ему нужно было отыскать книгу или бумагу, сердился. Дружинин имел смелость, с тем же простодушным смехом, предложить свои услуги убирать книги на свое место, а недочитанные класть на особый стол всякий раз, когда император уезжает из дворца. Государь и на это согласился, так велико было его доверие к Дружинину.
Все это слышал я от самого Дружинина, не в виде сплошного рассказа, а в течение десяти лет, когда я был с ним очень короток и почти каждый день в его доме. Дружинин очень художественно описывал приемы и весь тип императора Павла. Он любил его и говорил о нем с каким-то состраданием. Не припомню всех штрихов его кисти, в сочетании которых обрисовывалась личность императора; помню только, как он описывал его одинокую жизнь в Гатчине; он (большей частью или часто – не помню) обедал один; после обеда становился перед окном и, глядя бессознательно на парк, проводил деревянной зубочисткой по зубам, очищая зуб за зубом, очень ускоренным движением зубочистки. Это продолжалось иногда с час, видимо, что он и зубы чистил бессознательно, углубленный в мысли. Обыкновенно он приходил в эти минуты или в уныние, или в раздражение; выходил из комнаты угрюмый, и голос его делался мрачнее обыкновенного; он становился даже придирчив, и плохо было тому, кто навлекал на себя его неудовольствие при таком настроении духа.
Но и при таком настроении благоволение к Дружинину не изменялось. У императора был любимый камердинер, которого имени не припомню, хотя сто раз его слышал, кажется, Овсов. У него была хорошенькая жена, а Дружинин, хотя и влюбленный, не мог не ухаживать за хорошенькими. Обыкновенно он проводил у нее время, когда государь отпускал его, – обыкновенно с того времени, когда выезжал на предобеденную прогулку, до вечера. Один раз осенью Овсова (положим) жаловалась ему, что не может достать рябины для наливки. Дружинину показалось забавным, что среди парка, тянущегося на несколько верст во все стороны, нашелся человек, затрудняющийся в сборе нескольких горстей рябины. Он вызвался услужить молодой хозяйке, позвал первого попавшегося ему истопника и велел ему нарвать для г-жи Овсовой рябины. Этот болван вздумал рвать прямо перед окнами государя и рвать по-русски: «ломает – не тужит». Император, подойдя к окну с зубочисткой, видит, как злодей гнет и обламывает целые ветви. «Давайте сюда этого мошенника!» – закричал он гневно. Притащили несчастного и бросили перед императором. «Как ты смел ломать мои деревья?» – «Виноват, ваше величество! Господин Дружинин приказал!» – «Врешь, мошенник!» – закричал император взбешенный. – «Господин Овсов приказал!» – «В крепость Овсова», – было решение, высказанное особенным, сосредоточенным в гортани голосом, который Дружинин, говорили, метко подделывал. «Можно себе представить мое отчаяние, – говорил Дружинин уже на старости, складывая молебно руки, – я бросился к Лопухиной, но она не взялась просить за Овсова в тот же день; на другой день его освободили»[1]1
Была еще Овцова, вызвавшая государя на экспромт, но, во всяком случае, это не жена камердинера. Овцова вышила подушку с изображением овцы и поднесла ее государю с приколотыми стихами: «Я вышила овцу и подношу отцу, из самых тех причин, чтобы мужу дали чин». Государь отвечал ей: «Хоть я народу и отец, но чинов не даю за овец».
[Закрыть].
Немудрено, что Дружинин, состоя в таких отношениях с императором, сдружился с великим князем Александром Павловичем: молодым человеком того же возраста и стоявшим менее твердо пред государем, чем разночинец Дружинин.
С великим князем он был так близок, что в компании с ним устроил даже две фабрики: одну – для изготовления пружин к карманным часам, другую – шляпную, с мастером Гаттенбергером, но ни та ни другая не пошла. Первая, изготовлявшая пружины за один рубль вместо рыночной цены в десять рублей, уничтожилась потому, что сбывала не более пятидесяти пружин в год; вторая не знаю почему не устояла.
По восшествии на престол Александра Павловича Дружинин занимался делами важными и весьма разнообразными. Он пересматривал уставы о постепенном освобождении прибалтийских крестьян, он написал положение об аудиториате и обсуждал финансовые вопросы. Государь считал его способнейшим министром финансов, но, по господствовавшему тогда мнению, находил необходимым, чтобы на этом кресле сидел вельможа, и выбор пал на Гурьева, с условием, чтобы он взял Дружинина в директоры канцелярии. Гурьев, не из дальних вельмож сам по себе, но женатый на Салтыковой, был человек необыкновенно надменный; позвал к себе Дружинина, принял его свысока и объявил ему, что он назначается министром финансов и берет к себе Дружинина в директоры канцелярии. Дружинин отвечал, что он не желает быть директором канцелярии, о чем Гурьев с неудовольствием доложил государю; но государь приказал ему упросить непременно Дружинина принять эту должность, дав почувствовать Гурьеву, что без этого он не будет и сам назначен. Гурьев переменил тон, и как своим, так и царским именем упросил Дружинина. На этом месте он и оставался лет двадцать пять.
На беду свою, Дружинин не был в состоянии никому в чем-либо отказать, а еще менее красивой женщине. Он завел связь с Тимковскою, женщиною расточительною и алчною; она сосала из него деньги, а он должал и должал. Государь несколько раз платил за него долги, несколько раз дарил ему земли под самым городом и топи в устьях Невы, но все это разлеталось в прах. У Тимковской расплодилось большое семейство, один сын был в кавалергардах, другой – в конной гвардии, все расточительны, и Дружинин дошел до того, что стал принимать подарки, а потом и оказывать услуги в ожидании подарков. Репутация его помрачилась, и в старости он, добрейший человек, слыл за плута и боролся с бедностью, снося это не только с терпением, но писал своему идолу, жене старшего сына Тимковской, что страдания его гордости услаждают его сердце, доказывая, что он не щадит ничего и не жалеет ни о чем, если жертвы могут возбудить на лице его ангела улыбку удовольствия. В моем мнении он был прекрасный, но несчастный человек.
Дубенский умен, как бес, дурен, как бес, и по правилам бес. Он нажил себе огромное состояние. Канкрин не любил его, но не находил человека с его умом и потому держал его.
Мечников, грубый мужик, – дядя Ковалевского, министра народного просвещения. Дела таможенные шли очень дурно, контрабанда действовала открыто; закупив все таможенное ведомство, она доказала, что либеральный тариф не может остановить ее. Тариф 1819 года похож был на последствия мирного трактата побежденного государства, – и полагали, кажется, не без основания, что Обресков и Гурьев были подкуплены. Гурьев около того же времени заключил разорительный внешний заем, доставивший ему большие капиталы, которые впоследствии наследовал сын его из амстердамского банка. Составился другой тариф, Гурьева удалили, и к управлению таможенным ведомством был призван однорукий Бибиков, человек с железною волею и бессострадательным сердцем (впоследствии министр внутренних дел). Управление Бибикова было драконовское: за малейшую оплошность, за ошибку в письме чиновники исключались из службы; за малейшее потворство купцам – отдавались под суд. Испуганная сволочь переполошилась и разбежалась; их заместили люди из гвардейских офицеров, приглашенных Бибиковым. Таможенный доход удвоился; отечественная промышленность ожила: повсюду воздвигались фабрики, и наш курс достиг небывалого уровня – 414 сантимов за рубль серебра или за четыре рубля ассигнаций. Департамент внутренней торговли был при Гурьеве в не менее жалком положении. Комитет снабжения войск сукнами воровал сотни тысяч и делился с департаментом и канцелярией. Директором департамента был назначен Уваров, но без видимой пользы. Уваров, лицо большого света, известное в ученом мире, прекрасный собою, богатый по жене (Разумовской), был характера подлого, ездил к министерше, носил на руках ее детей, словом, подленькими путями прокладывал себе дорогу к почестям. Розенберг долее и чаще всех работал с министром: знал, что Канкрин придавал особенную важность департаменту государственного казначейства. Преемники его видели в этом департаменте простого счетчика и забросили его. Так же деятельно работал министр с графом Ламбертом по комиссии погашения долгов, – последним бывшим у нас практическим дельцом по кредитной части.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































